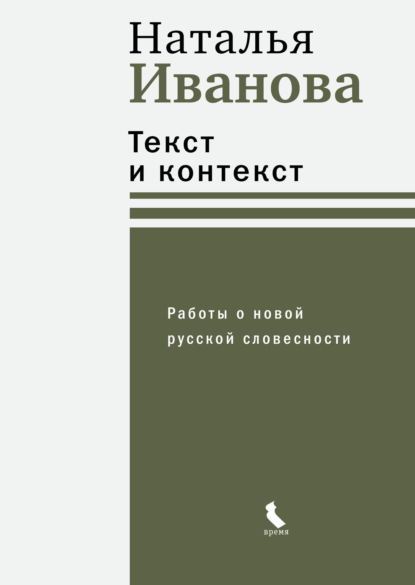
Полная версия:
Текст и контекст. Работы о новой русской словесности
Это ничего! Не оглядывайся! Так уж сложилась судьба русского человека, что на его историческом пути пришлось ему сплошь да рядом перескакивать через рытвины и ухабы и почти непрерывно отбиваться от ненавидящих, несметных враждебных орд, от предательства и зависти».
Что же это за «орда» такая?
…В «повести о своем времени», вышедшей под поэтическим названием «Летят мои кони…» («Юность», 1982, № 6), Б. Васильев так характеризует поиски писателем первой фразы: «Миг, превращающий эфемерные, неясные, преступно личные мысли в некую общественную значимость». Не совсем гладко, но мысль понятна. Мне кажется, что именно этот уловленный Васильевым миг превращения, миг нагрузки личного общественным и есть отправная точка, миг рождения жанра авторской прозы, к которому безусловно принадлежит и повесть Васильева. Б. Васильев как бы останавливает свою жизнь для того, чтобы закрепить в сознании свой путь; при этом руководствуясь памятью художественной, а не строго исторической, свободно монтируя разные планы, перемежая прошлое настоящим, опять уходя в ретроспекцию и т. д. Но линия жизни – от прошлого к сегодняшнему – натянута туго, она и организует повествование. Строго реалистическое слово-обозначение сочетается с другим словом – лирико-поэтическим, словом-отношением, словом-метафорой. И если слово-обозначение у Васильева, как правило, точно и по-своему даже образно, то к слову-отношению возникают по мере чтения повести некоторые претензии. А ведь именно в лирической интонации ищет ключ повествования Васильев: «Еще размашисто рысят кони, еще жив праздник в душе моей, еще кружится голова от вчерашнего хмеля и недопетая песня готова сорваться в белесое от седины небо. Еще не остыли на губах ворованные поцелуи случайных женщин, любивших любовь больше, чем меня, и тем вложивших свой камень в котомку моей усталости.
…И все же я еду с ярмарки, а это значит, что между моими желаниями и моими возможностями… начала вырастать стена. И каждый прожитый день добавляет в эту стену свой аккуратный кирпичик. Я еще хочу бежать вслед за уходящим поездом, но уже не могу его догнать и рискую остаться один на гулком пустом перроне».
Образ объясняется при помощи образа, символ – при помощи символа. Кони, ярмарка, седое небо, женщины с камнем, котомка усталости, стена, поезд, перрон… Очень кстати, думается мне, Б. Васильев вспоминает с юмором некоего Зюйд-Вестова (детский псевдоним автора), романтически настроенного юношу; кстати, он вспоминает и о том, что Б. Полевой на полях его позднейших рукописей тоже зачастую ставил «22!», то есть перебор. Те же цифры хочется порой проставить и на полях повести «Летят мои кони…».
Скажем, Б. Васильев вспоминает Смоленск своего детства: «несказанно красив» (не слишком оригинальный эпитет), он «еще оставался городом-плотом, на котором искали спасения тысячи терпящих бедствие. И я рос среди людей, плывущих на плоту». Но тут же, забывая об этом образе, он пишет: «людские волны, накатываясь на вечно пограничный Смоленск, разбивались о его стены». Не задумываясь об образной противоречивости, Васильев опять – на той же странице – обращается к образу плота, оправившегося от урагана (гражданская война), и внезапно говорит: «Смоленск… колыбель детства моего». Но на этом образный ряд не кончается: только что мы прочли о колыбели, а в следующем предложении читаем: «Ныне от тебя остались осколки, как от греческих амфор». Так «плот», «стена», «колыбель» или «греческая амфора»?
‹…›
«Авторская» проза, столь простая и безыскусная на вид, требует взвешенного, продуманного отношения писателя к образу повествователя, от лица которого идет рассказ. В этой прозе повествователь становится персонажем, обладающим не просто большей по сравнению с другими героями, а принципиально новой по качеству властью и ответственностью. Организующим центром становится личность автора, самосознание писателя. Личность писателя в такой прозе наиболее открыто обнаруживает себя и проходит проверку на нравственный авторитет, ибо это не только исследование жизни, но и самоисследование. «Частные» дела перерастают рамки только личных происшествий; они, естественно, приобретают оттенок события (иначе зачем знакомить с ними читателя) – события душевной жизни.
У Крупина после «Живой воды», повести с животворным отклонением от беллетристики в сторону фантастики, тоже появился ряд вещей, выполненных в жанре авторской прозы. Им опубликованы статьи по самым разнообразным вопросам – о развитии русского языка, о преподавании в школе, о воспитании детей и т. п., – написанные страстно, убежденно. Возникла в газетах даже своего рода мода на Крупина… Но сейчас речь не об этом, а о его авторской прозе.
Фабула рассказа «Колокольчик» проста: группа писателей приезжает на родину героя-писателя, в Киров (в этом обнаженно-горьком повествовании столько личного, что даже как-то неловко называть героя «лирическим», больше соответствует существу дела конечно же герой-автор), в связи с празднованием юбилея города. Писатели выступают на литературной встрече с читателями в Кирове, затем с той же целью выезжают в район. Вот и все. Дело святое, просветительское. Сюжетом же рассказа является совсем другое – постепенно нарастающий стыд героя за себя и за своих собратьев по перу, вроде бы «вышедших из народа», приехавших сейчас, как к теще на блины, на праздник жизни, на котором нет места реальным заботам и нуждам тех, к кому они прибыли.
Поначалу желание поразить фразой, сверкнуть свежей мыслью, встать этаким фертом перед публикой, одновременно заигрывая с ней, охватывает молодого автора, который заканчивает свою речь уже совершенной нелепицей, например: «…Что есть писательство как не публичный донос одного о чем-то или о ком-то для многих?» Говорит он путано, сбивчиво, но, как написали на следующий день в областной газете, «взволнованно и с большой любовью к вятской земле».
Герой-писатель беспощаден к себе, к своим вымученным и таким фальшивым, таким ненужным словам. На самом деле, оказывается, жизнь идет, не замечая этих слов, записанных на пленку для радио, звенящего над всей округой колокольчиком репродуктора: «Стадо брело по улице, трактор буксовал, шел дождь, мужики спорили на крыльце. Перестав ломиться в клубные двери, они сговорились идти в магазин и пошли, а мой безобразный голос орал над этой распутицей, над этими мужиками, над застрявшим трактором, над коровами, над пастушьим кнутом, над всей нечерноземной округой, орал о том, чего не бывает в жизни, а если и бывает, то только для зажравшихся». Мало родиться среди народа – нужно еще и жить, и думать вместе с ним: «Редко мне бывало так стыдно, как тогда на крыльце. “Слушай, – говорил я себе, – слушай, выходец из народа…”» Герою-писателю стыдно за это «вещание» народу, стыдно ему за свое «проповедничество». Писательское «глубокомыслие» оказывается на поверку ничтожным и пустым, и в рассказе к герою приходит надежда на очищение, первым условием которого является неутраченная способность к критическому самоанализу.
Тема углубленной самокритики, покаянной открытости звучит и в «повести в письмах» В. Крупина «Сороковой день». Повесть в письмах – традиционный для русской литературы жанр. Герой Крупина в данном случае – столичный журналист, приехавший в глубинку к родителям (мать лежит в больнице), журналист с мечтой о писательстве, о большой литературе. Перед нами не чисто авторская проза: повествователь – некий журналист. На самом же деле все повествование убеждает в том, что точки зрения героя-повествователя и автора совпадают. В письмах говорится о реальных фактах жизни, о реальных людях: лицо автора, его мысли, раздумья, его боль просвечивают через письма «журналиста». Да и исповедальная интонация «Сорокового дня» очень близка «Колокольчику», рассказ – задним числом – читается как письмо из повести.
Казалось бы, литературная судьба В. Крупина после «Живой воды» обеспечена – успех у читателей, у литературной критики. Но Крупин самостоятельно и сразу вышел за очерченные самим собой литературные границы.
Крупин, кстати, сам себя пародирует в тексте «Сорокового дня»: «…Ты, жалея меня, просила писать рассказы о природе, подкрепляясь и мнением критиков, хвалящих меня именно за них. Но природа-то для кого? Вот получи зарисовочку:
“Выпал снег, превративший куст высокой калины в сказочный хвост белого павлина. Но вскоре легкий ветер обдул ветки, а оставшиеся комочки снега превратили калину в цветущую вишню”. Вот такие нюни…
Чем не для печати?»
Видимо, писатель почувствовал неучтенный остаток, тот зазор, который все-таки остается между литературой и жизнью, почувствовал необходимость как можно ближе – без «эстетической линзы» – рассказать о наболевшем. Письма – это репортажи с комментариями. Обо всем рассказывается с личным отношением, предельно откровенно: будь то судьба отца – любителя выпить, больной матери, девчат, работающих в телятнике, разрезанной ножом бульдозера земли. Все это для героя – родное, его дом. Но это уже не тот устойчиво деревенский дом, уклад, не просто «тоска по уходящей в небытие русской деревне с ее вековыми традициями» – так, помнится, определял главное («литература предчувствия») направление прозы П. Проскурин. В. Крупин смотрит сейчас изнутри этого дома и видит, что дом-то – опрокинутый.
Безыллюзорен и его взгляд на отца, в котором сочетаются черты шутовские – и глубокая человечность, и поиски смысла жизни. Безыллюзорен взгляд на самого себя. Тут тоже драматический разлом, разрыв: «Не странно ли, скоро двадцать лет в Москве, а все как в гостях. “Еду домой” – вот как хотел начать это письмо, которое не утерпел писать… Домой? И здесь дом. Так и живу нараскорячку».
«Разорванность» героя-повествователя символизирует его внутреннюю нестабильность, неустойчивость. С одной стороны, он прекрасно видит все нелепое, глупое, недалекое, фиксирует недостатки, с другой – принимает интонацию наставническую, учительскую, «гоголевскую» – периода «Выбранных мест из переписки с друзьями». Он как бы «сверху» видит и поучает: как лучше вести колхоз, каковы должны быть отношения мужа и жены, как воспитывать детей, как чтить родителей, как бороться с пьянством, делится мыслями «о пользовании землей»…
Есть свои преимущества в прямом и нелицеприятном разговоре с читателем. Есть и опасность. Бессмертная тень занятого обдумыванием сочинения «в душеспасительном роде» Фомы Опискина, в образе которого, как известно, Достоевский выразил свое отношение к Гоголю «Выбранных мест…», нет-нет да и ложится на страницы повести.
Кстати, о Гоголе – маленькое отступление. Реминисценции его прозы настойчивы в «Сороковом дне». «Числа нет, месяца тоже. В Испании отыскался король. Это я», – шутливо заканчивается одно из писем. Так же вроде бы с шуткой повторяется в сюжете повести и знаменитый гоголевский жест – сжигание рукописи: «Вечерами швыряю в подтопок блокноты. Я ведь в этот раз, зная, что еду надолго, привез почти все, еле допер, думал на досуге осмыслить. Смерть им! Чуть не тошнит от перечитывания…» И дороги, вслед за Гоголем, у В. Крупина разбегаются, «как раки», и появляется гоголевская фантастика («А один мужик уверял, будто знал еще недавно мельника, который вечером брал подушку и шел спать на дно реки»). Но наиболее близкое к Гоголю – интонация покаяния; герой-автор направляет свой упорный взгляд не только на окружающее, но на самого себя, на свои недостатки («грехи»). «Вообще сны – страшная вещь. Я им подвержен непрерывно… обвалы, удушения, расстрелы, любимые лица в коростах… Вот за что это? За нравственно непотребный образ жизни, за кривду». Или: «Что бы я ни вспомнил – кругом виноват. Какое бы место я ни вспомнил, обязательно связано что-то плохое, людей вспоминаю – всех обманывал. И если еще стал кому-то дорог, то это главная вина и обман. А ведь я ел сытый кусок в этой жизни, он не был укоренным, считался заслуженным… Мне надо было, чтоб обо мне знали, чтоб я был на виду, и я этого добился, и что?»
Не останавливаясь на подробном разборе «Сорокового дня», вещи не гладкой, но написанной со страстью, во многом односторонней в простодушном поучительстве, обратимся прежде всего к образу героя-автора. Прозаик В. Шугаев, отрицательно оценивший повесть, главный ее «грех» видит в том, что совесть героя-повествователя у В. Крупина якобы персонифицируется, отделяется от самого героя; что для него характерно эдакое брюзжание по поводу недостатков при личном неучастии в их преодолении («Советская Россия», 1982, 4 августа). Следует, однако, задуматься: а не является ли сам факт записи свидетельством активного, непримиримого отношения к «язвам»? Конечно, можно потребовать от героя выступления с лекциями, пожелать ему прямо вмешаться в колхозные дела или настелить доски перед своим приусадебным участком. Это будет, так сказать, активным участием; а слово, обращенное к нам, главное оружие литератора, – нет? Но не является ли оно более действенным по отношению к общественной совести, чем поступок одноразового употребления? Да, еще и еще раз повторяю: наставительный тон героя-автора подчас раздражает. Но если бы этот тон был направлен только вовне… А ведь сам герой подвергает себя мучительному самоанализу, бичует самого себя, выставляет на всеобщее обозрение свои «язвы». Именно эта работа необходимого и очистительного самопознания, личная исповедь, «страданье на миру» вызывают доверие к герою-автору и к его словам. Он как бы спрашивает: кто виноват? – и отвечает: я, а не какие-нибудь там они. Поэтому-то герою и стыдно за «зарисовочку», хотя уж она-то ни в чем не виновата. Так вот, в этой работе самоанализа герой-автор, ужасаясь себе самому теперешнему, вспоминает себя ребенком, слушающим внутреннюю музыку, пораженным красотой мира. Этот ребенок в душе почти утрачен, но воспоминание о нем есть тот критерий, который и дает надежду на нравственное возрождение героя.
Детство как постоянный критический критерий авторской прозы может присутствовать и вне автора-персонажа, – такова роль образа дочери в рассказе В. Распутина «Что передать вороне?».
Фабула рассказа В. Распутина «Что передать вороне?» тоже проста: приезд героя-повествователя из деревни в город, короткое свидание с дочерью, срочный отъезд назад в деревню, в свой «кабинет», где ждет новая рукопись, работа над которой застопорилась. Известие о болезни дочери – в конце. Вот и все. Содержанием же этой прозы является исповедь о неравенстве самому себе, углубленный самоанализ, муки самопознания и поиск идентичности собственной личности. «Не знаю, бывает ли у кого такое еще, но у меня нет чувства полной и неразделимой слитности с собой, – пишет Распутин. – Нет у меня, как положено, того ощущения, что все во мне от начала и до конца совпадает, смыкается во всех мелочах в одно целое, так что нигде не хлябает и не топорщится». Перед нами – совсем другой, «новый» Распутин, отнюдь не тождественный автору «Живи и помни» или «Прощания с Матёрой» – вещей, написанных уверенной рукой человека, утверждающего свою позицию. Сейчас – другое: открывается неуверенность даже не просто в своем слове, а в себе самом, в тождестве самому себе: «…То подымешься утром, выспавшийся и здоровый, без всякого желания жить, то что-нибудь еще. Конечно, у нормального человека этого не бывает, это свойство людей случайных или подменных». Заметим особо последнюю деталь: обычно прочные, устойчивые люди были нравственной ценностью в художественном мире Распутина, «случайными» или «подменными» могли оказаться либо порубщики, либо пожогщики, либо какой-нибудь оторвавшийся от корней человек типа Андрея в «Прощании с Матёрой». «Случайным» или «подменным» оказался и Гуськов в «Живи и помни». Обращение качества «подменности» на себя самого является не эффектной позой лирического героя-автора, а искренним стремлением определить происхождение той неустойчивости, которая его мучает: «Относительно “подменных” я думал особо: предположим, кто-то должен был родиться, но по какой-то (не нам знать) причине ему не выпало в свой черед родиться, и тогда срочно из соседнего порядка на его место был призван другой. Он и родился, ничем не отличаясь от остальных, поднялся, никому в огромном многолюдье невдомек, что с ним что-то не то, и только сам он чем дальше, тем больше мучается своей невольной виной и своим несовпадением с тем местом в мире, которое отведено было для другого».
В «Исповеди» Л. Толстого есть сходная мысль: «И в таком положении (счастливая семейная жизнь, здоровье, плодотворная работа и т. д. – Н. И.) я пришел к тому, что не мог жить и, боясь смерти, должен был употреблять хитрости против себя, чтобы не лишить себя жизни.
Душевное состояние это выражалось для меня так: жизнь моя есть какая-то кем-то сыгранная надо мной глупая и злая шутка. Несмотря на то, что я не признавал никакого “кого-то”, который бы меня сотворил, эта форма представления, что кто-то надо мной подшутил зло и глупо, произведя меня на свет, была самая естественная мне форма представления».
Не собираюсь ставить знак равенства между размышлениями Л. Толстого и В. Распутина. Поражает именно совпадение мыслей и ощущений, высказанных исповедально, на пределе откровенности, – не через «литературу» (литература здесь уже недостаточна, она слишком замкнута установленными рамками сюжета, героев, конфликта и т. п.), а через покаяние, что ли, – это последний, крайний разговор. Эта исповедь является одновременно и испытанием духа перед лицом мира – тем диалогом с миропорядком и с судьбой, о котором говорилось выше в связи с «Опрокинутым домом» Ю. Трифонова. Распутин тоже исходит из состояния «опрокинутости», непрочности дома (нарушается тонкая нравственная связь с ребенком, лирический герой проявляет эмоциональную глухоту и замкнутость на себе самом – и расплачивается за это глубоким отвращением к самому себе, невозможностью работать, «болезнью духа»).
В. Распутин пытается исследовать глубокий внутренний кризис современной личности: «Стоит мне глубоко задуматься или, напротив, забыться в приятном бездумье, как я тут же теряю себя, словно бы отлетаю в какое-то предстоящее мне пограничье, откуда не хочется возвращаться. Это небыванье в себе, этакая беспризорность происходит довольно часто, невольно я начинаю следить за собой, сторожить, чтобы я был на месте, в себе, но вся беда в том, что я не знаю, чью мне взять сторону, в котором из них подлинный “я” – или в том, что с терпеньем и надеждой ждет себя, или же в том, что в каких-то безуспешных попытках убегает от себя?» Распутин себе и мирозданью задает те же «проклятые», «судьбоносные» вопросы, над которыми бьется и Ю. Трифонов, проверяет родственные связи, испытывает их на разрыв, пишет об одиночестве человека в мире; наконец, приходит к художественной символике, характерной и для «Опрокинутого дома», – символике внутри авторской прозы. Лирический герой распутинского рассказа, уходя из дома в поисках себя самого, поднимается на гору, реальную гору над Байкалом, и там пытается задать свои вопросы («Конечно, вопросы эти были напрасны. На них не только нельзя ответить, но их нельзя и задавать. И для вопросов существуют границы, за которые не следует переходить»), вопросы к «земле» и «небу» (тоже классический для русской лирико-исповедальной прозы синдром вопроса к миру, оборачивающийся вопросом к себе: «Русь! чего же ты хочешь от меня?» – «Где выход, где дорога?»). Символический образ дороги возникает в сознании автора: «Ни неба я не видел, ни воды и ни земли, а в пустынном светоносном миру висела и уходила в горизонтальную даль незримая дорога, по которой то быстрее, то тише проносились голоса».
Маленькая, казалось бы, вина перед дочерью вырастает в вину перед всем миром (отсюда – глухая тоска и отчаяние, рациональных причин которых автор найти не может). Состояние внутреннее не обусловлено состоянием внешним – оно рождается даже вопреки внешним обстоятельствам.
Поиски В. Распутиным новых художественных путей именно через авторскую прозу прослеживаются и в рассказе «Наташа». Лирический герой, от лица которого опять идет повествование, лежит после операции в больнице; за ним присматривает медсестра, которая неожиданно, после того как тяжелый период миновал, уезжает. Но Наташа – не просто персонаж: она – сон автора о самом себе, его спасение и «полет», его «высота». Тут Распутин прибегает и к реалистически обоснованной фантастике (сон). Заметим, что фантастическое, о котором говорилось выше (как о способе преодоления беллетристики, наделенной проверенным эстетическим качеством), здесь соединяется с авторской прозой: «Мы парим на той пограничной высоте, докуда достает нагретый за день, настоявшийся воздух, на котором можно лежать почти не шевелясь. Он то приливно приподнимается, волнуясь от закатного солнца, то опускается, и мы качаемся на нем, как на утомленной, затухающей волне…»
Фантастический элемент используется В. Распутиным как средство для повествования о том, чему он не может найти причинно-следственных обоснований, и прежде всего – для раскрытия психологического и эмоционального состояния, невыразимого на стертом языке беллетристических клише. Фантастическое оказывается верным средством приближения к самому себе. Образ дороги, по которой летят голоса в рассказе «Что передать вороне?», близок к образу небесной дороги в рассказе «Наташа»: «Небо остывает, и я хорошо вижу в нем обозначившиеся тенями тропинки… по легким вдавленностям заметно, что по ним ходили, и меня ничуть не удивляет, что они, точно от дыхания, покачиваются и светятся местами смутным, прерывистым мерцанием». И в первом, и во втором рассказе образ небесной дороги предвещает открытие истины, той тайны, о которой, как мы помним, и вопросы задавать нельзя. Распутин пишет: «Я вижу и слышу все и чувствую себя способным постичь главную, все объединяющую и все разрешающую тайну, в которой от начала и до конца сошлась жизнь… Вот-вот она осенит меня, и в познании горького ее груза я ступлю на ближнюю тропинку…»
Но в такой предельной, как мне кажется, для прозы символизации, когда возникает уже символ-категория, а не символ, выросший из реального опыта, есть и своя опасность. Возникает искус неопределенности, неотчетливости слова, ведущий к размытости мысли, – а ведь все-таки проза требует мысли, к каким бы тонким материям она ни обращалась. В «традиционном» рассказе «Век живи – век люби» есть косвенный монолог героя, подростка Сани. «“Что-то”, “какой-то”, “где-то”, “когда-то” – как все это неверно и неопределенно, – пишет В. Распутин, – как смазано и растерто в туманных представлениях и чувствованиях, и неужели то же самое у всех? Но ведь как никогда прежде близок он был к этим “что-то” и “какой-то”, ощущал тепло и волнение в себе от их дыхания и вздрагивал от их прикосновения, с готовностью раскрывался и замирал от их обещающего присутствия. И чего же недоставало в нем, чтобы увидеть и понять? Какого, способного отделиться, чтоб встретить и ввести вовнутрь, существа-вещества, из каких глубин, какого изначалья?»
В этом монологе выражен не столько духовный мир подростка, на мой взгляд, сколько новая тяга к программно заявленной неопределенности. Недоверие к разуму, к «умственности» оборачивается недоверием к слову; тяготение к эмоциональной духовности становится самоцелью, а «духовность» – значительно обедненной и замкнутой на самой себе. В том же рассказе (вошедшем в один цикл с рассказами «Что передать вороне?» и «Наташа») внутреннему монологу Сани предшествуют строки: «В такой день где-то – на земле или на небе – происходит что-то особенное, с него начинается какой-то другой отсчет. Но где, что, какой? Нет, слишком велик и ничему не подвластен, слишком вышен и всеславен был он, этот день, чтобы поддался он хоть какому-нибудь умственному извлечению из себя. Его возможно лишь чувствовать, угадывать, внимать – и только, а неизъяснимость вызванных им чувств лишь подтверждает его огромную неизъяснимость».
Конечно, странно от В. Распутина с его любовью к русскому языку и прекрасным знанием русской природы вдруг услышать о дне, который «вышен», или о «неизъяснимости», которая «подтверждает неизъяснимость», – но это все мелочи. Задумаемся о другом: почему вдруг мальчик думает так же, как и Распутин в авторской прозе? Почему их антиумствования столь однотипны («вышен» день, неизъяснимость, туман или, наоборот, многозначительный закат), столь «красивы» и неконкретны?
В одном из своих выступлений, проследив процессы, идущие в молодой армянской прозе, Л. Аннинский замечал: «Усилием рассудка я, конечно, могу попытаться восстановить вокруг этой словесной магии некоторые жизненные связи. Или хотя бы литературные. Я могу предположить, скажем, что печальный туман в рассказах молодых армянских писателей есть форма реакции на сухой типологизм, на скучное описательство, на многословную “эпику”, для которой все в человеке слишком ясно и логично»[15]. Но критик задается естественным вопросом: зачем? Где все это происходит? Что бы все это значило? Для какой реальной нужды возникает фантастика? Что же, наконец, решается этой музыкой, этим туманным стилем? Для чего эта вселенская тоска и печаль?

