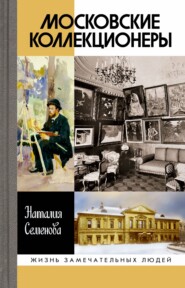
Полная версия:
Московские коллекционеры: С. И. Щукин, И. А. Морозов, И. С. Остроухов. Три судьбы, три истории увлечений
На память супруги сфотографировались вдвоем на слоне. Молодой, счастливый, с горящими от восторга глазами Сергей Иванович и задумчивая, смотрящая куда-то вдаль Лидия. Что-то в облике Лидии Григорьевны было нездешнее, начиная с «русалочьей», как выразилась одна из дочерей Третьякова, красоты и кончая странной погруженностью в себя. Огромные, чуть с поволокой глаза, печальный взгляд, точеная фигура – идеальная модель для обожаемых художниками ар нуво наяд и нимф. «Лидия Григорьевна была одной из красавиц Москвы, даже тоньше, чем Маргарита Кирилловна Морозова – та гораздо грубей, больше. Эта изысканнее. За ней ухаживал великий князь Сергей Александрович», – рассказывал А. А. Демской кто-то из стариков. Такую сказочную женщину нельзя было не обожать.
Выросла Лидия Коренева в Харькове, говорила, как все выходцы из Малороссии, слегка нараспев, прекрасно пела, любила костюмированные балы и «живые картины», меха, драгоценности, туалеты от Ворта; блистала в свете, путешествовала, воспитывала детей. Кроме нескольких семейных фотокарточек и коротких записок, написанных размашистым, неженским почерком, от Л. Г. Щукиной ничего не осталось. Если ее и поминают в связи с мужем-коллекционером, то лишь в качестве роскошной оправы особняка с картинами. Лидия любила музыку, увлекалась античной историей (есть замечательное ее фото в образе Елены Прекрасной в древнегреческих украшениях) и после очередной поездки в Грецию даже сочинила эссе «Спартанцы. Сцены из древнегреческой жизни», которые издала отдельной книжкой (к сожалению, ни одного экземпляра ее не сохранилось). К собирательскому азарту мужа Лидия Григорьевна была равнодушна – имей она иной темперамент, обязательно приревновала бы Сергея Ивановича к его новой страсти. Считалось, что живописью она особенно не интересовалась, а в спальне у нее – о ужас! – висел «скверненький» Бронников (был такой академик, писавший на близкие ее сердцу сюжеты из древнеримской жизни).
Странно, как избирательна порой бывает наша память. Автору этой книги в юности довелось попасть в московскую квартиру величайшего коллекционера русского авангарда Г. Д. Костаки. К величайшему сожалению, ничего, кроме пушистого розового коврика в спальне, в моей памяти не запечатлелось; вроде были еще иконы, но запомнился этот кислотно-розовый синтетический ковер, на который было страшно ступить, чтобы не запачкать.
Художник Федор Бронников был не таким уж скверным живописцем: жил пенсионером в Риме в одно время с Михаилом Петровичем Боткиным, расписывал посольскую церковь в Париже, где тетушка Мария Петровна венчалась с Фетом. Кстати, картин родственников – академика Боткина и брата Лидии, Анатолия Коренева, Щукины никогда не вешали. М. П. Боткин был скучный исторический живописец, а Анатоль – всего лишь художник-любитель[12]. Несколько лет Анатолий Коренев жил в Париже, где вместе с земляком-харьковчанином Николаем Досекиным[13] (друзья уехали во Францию вместе) и Максом Волошиным занимался в мастерской Елизаветы Кругликовой. Именно Коренев познакомил в Париже Волошина с Сергеем Щукиным, своим бофрером. Но коллекцию кореневского свояка Волошин увидел только спустя два года, когда приехал в Москву. Можно даже назвать точный день, когда он появился у Щукиных: 11 февраля 1903 года. Дата эта отмечена в волошинском жизнеописании отнюдь не из-за этого визита, а благодаря встрече с юной Маргаритой Сабашниковой, которая вскоре станет женой М. А. Волошина, поэта, художественного критика и культовой для русского искусства фигуры.
В тот памятный день двадцатилетняя Маргарита сделала в дневнике следующую запись: «Вчера вечером мы… пошли к Щукиным осматривать их коллекцию картин. Я увидала Руанские соборы Моне, его море и другие вещи… Brangwin’a… Renoir’a, Degas’a, Cotett, Carruier’a, Wistler’a и наконец самого Puvis de Chavann’a его Pauvre pecher[14].
Хозяин был вежлив, зажигал то одну, то другую люстру и объяснял достоинство своих картин… Взоры с радостью останавливались на стенах, и сердце содрогалось, как будто здесь торжествовала правда… До 11 часов он показывал нам рисунки…
Странное чувство, смешанное чувство… Меня под конец трясла лихорадка. Столько новых впечатлений. Сам дом интересен, ему двести лет, обстановка старая, сделана мастером, отделывавшим Версальский дворец. Я забыла, что я в Москве, и удивилась, когда вышла в грязный от оттепели Знаменский переулок. Импрессионисты, которых я видела у С. И. Щукина, вошли в мою голову и стали в ней колом; я больше не могу игнорировать их задачи, не видеть того, что увидели они».
По меркам состоятельного москвича начала ХХI века, «дворец Трубецких», из которого вышла потрясенная Моне и Ренуаром начинающая художница Сабашникова, мог бы считаться достойным, но не роскошным жилищем. Загородный коттедж площадью в 500 квадратных метров никого сегодня не удивит, а тут – анфилада из четырнадцати парадных зал на втором этаже и первый низкий жилой этаж со сводчатым потолком. В начале двадцатых галерею оставили на втором этаже, как и при Щукиных, а на первом устроили общежитие: на 129,5 квадратной сажени (582 квадратных метра) умудрились поселить семнадцать сотрудников музея с тридцатью тремя членами их семей (одну комнату пожизненно закрепили за сотрудником Музея изящных искусств гражданином Щукиным Д. И., братом бывшего владельца) плюс двадцать семей разных частных лиц с шестьюдесятью четырьмя чадами и домочадцами[15]. Деревья повырубили, церковь Знамения Божьей Матери снесли, а напротив щукинских окон начали строить огромное здание Министерства обороны.
«Только в Москве можно было встретить такие чудеса, такую тихую деревенскую усадьбу в самом центре огромного и шумного города», – вспоминал в 1936 году А. Н. Бенуа, как тридцать лет назад он впервые попал «в этот типичный двухэтажный, вовсе не нарядный, но уютный особняк, стоявший среди сада с высокими столетними деревьями». Особняк, который все называли дворцом Трубецких, построили в царствование Екатерины Великой, и, до того как в 1808 году он достался семье Трубецких, в нем успели пожить князь Николай Шаховской, пензенский помещик Столыпин (приходившийся поэту Лермонтову прадедом) и обер-прокурор, князь Василий Хованский (расписные княжеские гербы на потолке в парадном салоне, где Щукин повесит Матисса, подтверждали аристократическое происхождение дома). Председатель Опекунского совета Николай Иванович Трубецкой, прозванный за маленький рост, громкий голос и чересчур резкие манеры Желтым Карликом, был самым знаменитым владельцем дворца. В 1874 году престарелый князь скончался и дом выкупила вдова его младшего брата княгиня Надежда Борисовна, считавшая своим долгом сохранить фамильное владение, где, по преданию, бывал сам Пушкин. Но вскоре особняк вновь был выставлен на продажу: приведя в порядок дела, новая хозяйка выяснила, что ее сын не только растратил все состояние, но и умудрился промотать приданое жены. Ивану Васильевичу Щукину недвижимость в центре досталась недорого – за 160 тысяч рублей, хотя и с «нагрузкой»: для княгини пришлось выделить небольшую квартиру во флигеле пожизненно.
Продажу дворца Трубецких аристократическое сообщество восприняло как знак тотального наступления «купца», и Борис Николаевич Чичерин, известный летописец дворянской России, горько пошутил, что в момент подписания этой сделки кости князя Трубецкого должны были содрогнуться в могиле. Иван Васильевич о фрустрациях разоряющегося дворянства не подозревал, выгодно сдал дом внаем, а когда у Сергея с Лидией родился сын, растрогался, что внука назвали в его честь, и подарил особняк молодым, с жиличкой-княгиней, «очень гордой, очень царственной» в придачу. В 1903 году, когда Маргарита Сабашникова, будущая деятельница антропософского движения, а тогда просто племянница московских книгоиздателей братьев Сабашниковых, попала в Знаменский, старшему сыну Щукиных Ивану уже исполнилось семнадцать. Через год он окончит Поливановскую гимназию и поступит на историко-филологический факультет Московского университета. К новой живописи Иван Сергеевич всегда оставался равнодушен.
«Хозяин нажал электрическую кнопку, и зал осветился ярким светом. Моментально из темноты выступили картины.
– Вот Моне, – говорит Сергей Иванович Щукин. – Вы посмотрите, живой.
В картине при электрическом свете на расстоянии совсем не чувствуешь красок, кажется, что смотришь в окно, утром, где-нибудь в Нормандии, роса еще не высохла, а день будет жаркий.
– Посмотрите на Похитонова, он совсем черный рядом с Моне, его надо отсюда убрать. Вот Дегас, жокей, танцовщицы, а вот Симон… Пойдемте в столовую, там у меня Пюви де Шаванн…
– Вот и “Bande Noire”, как называют Cottet, вечер на берегу моря перед грозой, по набережной идут люди. <…> Вот Бренгвин. А теперь я вам покажу Уистлера».
Имена почти те же, хотя цитируемый выше мемуар более ранний и относится к 1900 году. Художник Василий Переплетчиков, сделавший эту запись, не столь восторжен, как мадемуазель Сабашникова, зато необычайно точен и воспроизводит монологи дословно, вплоть до знаменитого щукинского заикания. Дневник Переплетчиков начал вести в 1886 году (как раз в год, когда Щукины получили в подарок «дворец Трубецких»), но записи делал не изо дня в день, а часто по памяти. Непохоже, чтобы Василий Васильевич отложил описание проведенного на Знаменке вечера на потом.
«У Сергея Ивановича собраны последние цветы самого передового направления в Европе. У него много вкуса, искусство он чувствует. У него “le dernier cri”[16] современного искусства.
– Ч… чаю хотите? Позвольте.
За чаем разговор о последней поездке в Париж. У Дюран-Рюэля он видел чудного Pissarro. Не продает. Оставил для себя. Цена Monet поднялась с 1000 франков до 17 000 и поднимается еще выше.
После осмотра картин сидим в библиотеке, там масса русских и иностранных журналов. Говорили о Дягилеве, о его журнале “Мир искусства”, о Тёрнере, Владимире Соловьеве. С. И. за всем следит, часто ездит за границу. Приходят прощаться дети: славные черноглазые мальчики, с ними французский гувернер. Они тоже занимаются живописью, у них в комнате лежат краски, стоит мольберт, на столах этюды, в которых тоже чувствуется “модерн”. Ну, не пора ли по домам! Хозяин провожал гостей до передней и, стоя на лестнице старинного барского дома, который, должно быть, много видел на своем веку, говорил гостям, которые уже надели шубы:
– На днях мне Дюран-Рюэль пришлет “Макса” (имеется в виду французский художник Эдгар Максенс. – Н. С.), приходите смотреть…»
Из записей Переплетчикова и Сабашниковой следует, что Сергей Иванович секрета из своих картин никогда не делал и шанс попасть к нему имелся не только у друзей и знакомых, но и у знакомых знакомых, а со временем вообще у всех желающих: достаточно было записаться по телефону (приемным днем для публики было воскресенье). Сергей Иванович сам сопровождал посетителей в качестве экскурсовода, не считая это занятие утомительным. Ему требовалась аудитория: как актеры, он «подпитывался» от публики. «С. И. очень живо, горячо рассказывал о своих картинах, потом громко смеялся, а все делали вид, что поняли и что им очень понравилось» – воспитанницы Сергея Ивановича Аня и Варя мало что могли вспомнить, когда в конце 1960-х их расспрашивала А. А. Демская, но даже такие подробности упускать не хочется. Своему кругу коллекция демонстрировалась во время званых обедов, ужинов и музыкальных вечеров. Народу у Щукиных иногда собиралось человек до двухсот, приемы были пышными, выпивали не меньше пятидесяти бутылок шампанского. Лидия Григорьевна умела все устраивать на высшем уровне: каждая из дам на прощание неизменно получала букет красных роз.
Художник Сергей Виноградов вспоминал, что Сергею Ивановичу ужасно нравилось удивлять своих гостей, «эпатировать буржуа», как выражались тогда. «На пятничных его обедах помимо людей искусства были и люди от коммерции. Люди эти возмущались действиями Щукина, покупавшего “такие ужасы”. Они запальчиво это высказывали, и видно было, как Сергей Иванович наслаждался этим, а нам было забавно наблюдать. Надо сказать, что людей от коммерции особенно волновали еще и огромные деньги, которые Щукин платил за картины эти странные». Перечисленные Переплетчиковым и Сабашниковой имена к эпатажу отношения не имели – Виноградов пишет о тех временах, когда на стенах появились Гоген, Ван Гог, Сезанн, не говоря уже о Матиссе и Пикассо. Пока же все выглядело крайне благопристойно: «Судовщики» («Бурлаки») Люсьена Симона, виды Венеции Шарля Котте, пейзажные «оранжировки» Уистлера, скачки и нарядная публика Форена. Теперь, конечно, эти имена померкли в тени импрессионистов, а в конце XIX столетия, когда С. И. Щукин начинал собирать свою коллекцию, их живопись казалась свежей и непосредственной. Пейзажи норвежца Фрица Таулова и англичанина Джеймса Патерсона, марины американца Джеймса Уистлера, «блеклые женщины» француза Эжена Карьера, тот же Форен, Котте, Симон – отличный выбор, «скромное», как выразился Грабарь, но грамотное, добавим мы, начало. До изощренной бессюжетной живописи импрессионистов русской публике, воспитанной на идейных передвижниках, следовало еще дорасти. С. И. Щукин оказался смелее и прозорливее большинства своих соотечественников, но не будем так уж идеализировать нашего героя. «Левел» Сергей Иванович постепенно, и первые шаги великого коллекционера никаких чудес не предвещали.
Когда Щукины только переехали в Знаменский, Сергей Иванович начал покупать русских художников – так, по мелочи, для интерьера. Об этом бы забыли, как о пресловутом Бронникове, но Л. О. Пастернак в «Записях разных лет» вспомнил, что видел «в задних жилых комнатах» этюды Сурикова и свой собственный рисунок углем. Зазорного в этом ничего не было. Иметь этюды Сурикова в начале 90-х считалось хорошим тоном, так же как и пастели Пастернака (настоящая популярность к отцу поэта пришла чуть позднее, благодаря иллюстрациям к романам Льва Толстого, которые «с продолжением» печатались в «Ниве»). Кто-то углядел еще морской вид кисти Руфина Судковского (его любили сравнивать с Федором Васильевым – столь же большой талант и столь же ранняя смерть) и «Сад» Похитонова, чьи тонкие пейзажи покупал сам император. Написанный Похитоновым по фотографии портрет шагающего по набережной Биаррица Ивана Васильевича Щукина отлично смотрится в постоянной экспозиции Третьяковской галереи в зале Левитана и его современников. Иностранные покупки, даже самые ранние, Сергей Иванович сохранил, а от русских избавился раз и навсегда; рассказы о том, что Щукин в 1910-х якобы купил работу Татлина или кого-то из соотечественников – чистое мифотворчество и самопиар русских авангардистов.
Помимо «проходных» немцев Лемана и Либермана, француза Лобра и испанца Сулоаги у Щукина появился небольшой пейзаж с хижиной Курбе (знатоки творчества художника причисляют его к числу лучших альпийских видов «последнего романтика»). В начале 1890-х Курбе стоил гораздо дороже, чем Писсарро или тот же Моне, а в 1870-х и 1880-х, когда своих барбизонцев и Курбе покупал Дмитрий Петрович Боткин, порядок цен был совсем иной. Дядя покупал картины художников, которых почти двадцать лет отвергало жюри Салонов, но в итоге они были признаны и названы классиками. «При теперешнем постоянно возрастающем поднятии цен на парижских картинных аукционах можно прямо сказать, что сто с небольшим картин, находящихся у Д. П. Боткина, стоят в настоящую минуту по крайней мере в пять раз больше того, что он за них заплатил. Некоторые мастера… Коро, Руссо, в особенности Мейссонье, Фортуни оказались баснословно дорогими. И теперь эта коллекция представляет собой, по самой скромной оценке, капитал в два миллиона франков. Пройдет десять – двадцать лет, капитал этот удвоится или утроится», – уверял в 1881 году читателей «Вестника Европы» П. П. Боборыкин.
Дядюшкин пример не мог не вдохновлять племянника: получалось, если быть любознательным, обладать интуицией, вкусом и глазом, можно остаться в выигрыше. Даже не в том смысле, что картины поднимутся в цене, хотя и это немаловажный факт, а в том, что, рискнув поставить на правильного художника, есть шанс всех обойти. Вряд ли дядя консультировал племянника: Сергей Щукин заразился собирательством уже после смерти дяди, но галерею на Покровке знал хорошо, поскольку часто бывал там с родителями[17]. А вот на увлечение свояка Сергея Третьякова Дмитрий Петрович повлиял несомненно. Родственниками они приходились друг другу через жен, внучек московского городского головы, дочерей владельца Реутовской мануфактуры. Оба были женаты на сестрах: Боткин на Софье, а Сергей Третьяков на ее сестре Елизавете Мазуриной[18]. Д. П. Боткин начал собирать картины в конце 1850-х. С. М. Третьяков пристрастился к этому занятию позже – в начале 1870-х годов, когда его брат Павел Михайлович уже серьезно покупал русских художников. Повторять брата, собиравшего у себя в Толмачах галерею национального искусства, он счел неразумным, да и темперамент у Сергея Михайловича был иной. Он любил общество, светскую жизнь, а брат Павел Михайлович не выносил речей и торжеств, был немногословен, замкнут, неулыбчив. «Не обдумав, он не делал ничего. Без цели – ничего лишнего, все у него по плану. Ну, а если что захочет, – конечно, все поставит на карту, чтобы добиться… Эта вежливость, этот распорядок во всем делали его как бы нерусским». На самом деле европейцем был Сергей Михайлович, который помимо поездок в Кострому (Третьяковым принадлежали Костромская мануфактура, льноткацкие и льнопрядильные фабрики) проводил много времени по делам фирмы в Париже, где и увлекся современным искусством. Сориентироваться ему помогли Д. П. Боткин и И. С. Тургенев – страстный поклонник барбизонцев, считавший новейших французских пейзажистов «бесспорно первыми в мире». На французские картины С. М. Третьяков потратил миллион франков (400 тысяч рублей по тогдашнему курсу[19]).
Своих Добиньи, Коро, Курбе, Милле, Руссо и Тройона Дмитрий Петрович покупал через парижских маршанов – Гупиля, братьев Пти, Дюран-Рюэля. Будучи коммерсантом, Боткин старался не переплачивать, действуя по принципу: «Задорого купить может каждый, купить дешево – вот настоящее искусство». Покупать у художников напрямую, без посредников, ему помогал Алексей Петрович Боголюбов, художник, коллекционер и главный художественный эксперт императора Александра III. «Когда я оставлял моих благодетелей (прославленный маринист давал уроки живописи будущему царю и его супруге. – Н. С.), наследник Цесаревич сказал: “Пишите мне, что встретите интересного по художеству, да и приобретайте, что найдете достойным”», – вспоминал Боголюбов. А если великий князь появлялся в Париже, Боголюбов просвещал его по части парижских художественных новинок: водил по галереям и мастерским художников; Д. П. Боткин и С. М. Третьяков двигались тем же маршрутом.
А. П. Боголюбов не только консультировал других, но и сам собирал. Со своей коллекцией он поступил благородно: подарил городу Саратову. Так в провинциальной России появился первый общедоступный музей, который, по желанию дарителя, назвали «Радищевским» – автор знаменитого «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищев приходился художнику дедом. Прежде чем оказаться в Саратове, картины прибывали в Москву вместе с последними французскими покупками Дмитрия Петровича. Их доставляли по адресу: «Покровка, собственный дом Д. П. Боткина» (ныне Покровка, 27), значившемуся даже в путеводителе Бедекера – с разрешения хозяина три «картинные комнаты» (два салона и кабинет с итальянским окном) в определенные часы мог посмотреть любой.
Итак, подтолкнуть к собирательству Сергея Щукина мог, во-первых, пример Д. П. Боткина, коллекция которого в восьмидесятых годах насчитывала более ста картин, а во-вторых, отцовского приятеля Кузьмы Терентьевича Солдатёнкова, чья галерея тоже фигурировала в московских путеводителях. Солдатёнков, хотя и не состоял с Щукиными в кровном родстве, оказался самым близким их семейству человеком. И. В. Щукин и К. Т. Солдатёнков оставались неразлучны с юных лет – странно было слышать, как два старца фамильярно обращались друг к другу «Ваня» и «Кузьма». Если сопоставить факты и даты, получается, что именно благодаря Солдатёнкову его друг Иван Щукин попал к Боткиным в Петроверигский, где встретил свою будущую жену. «Связующим звеном» в этой цепочке мог стать либо историк Т. Н. Грановский (в сороковых годах Василий Боткин уговорил отца сдать ему половину бельэтажа), либо доктор П. Л. Пикулин, ближайший друг Щукина и Солдатёнкова, он же муж Анетты – Анны Петровны Боткиной-Пикулиной, сестры Екатерины Петровны Боткиной-Щукиной. Пикулин, чей кабинет современник называл «последним центром, где сходились люди 40-х», постоянно появлялся в кружке Станкевича, где обсуждались вопросы философии, эстетики и литературы, активными членами которого были Василий Петрович Боткин и Грановский. Сейчас фамилия Грановский скорее ассоциируется с улицей, на которой проживали советские партийные деятели, а в 1840-х годах это имя гремело: «ни один русский профессор не производил на аудиторию такого неотразимого и глубокого впечатления», как историк Тимофей Грановский.
К. Т. Солдатёнков и И. В. Щукин были не только партнерами по бизнесу и ровесниками. Они росли в купеческих семьях, служили в лавках своих отцов, вместе начинали на Таганке (на двоих купили ткацкий станок и наняли рабочего ткать кисею), вместе богатели, занимали должности, держали ложу в Большом театре и жили на даче в Кунцеве. Только Солдатёнков стал публичной фигурой, и поэтому о нем написано много и подробно, а о И. В. Щукине вспоминают лишь как об отце прославленных коллекционеров. Несомненно, Кузьма Терентьевич был персонаж гораздо более колоритный, чем старший Щукин. «Я всегда удивлялся, как человек, не получивший образования даже на медные гроши (а ведь он до старости писал плохо и ни на каком языке, кроме русского, не говорил), был так развит <…> это был истинно русский ум, не без практической жилки, но такой глубокий и разносторонний…» – вспоминал художник А. А. Риццони. В Солдатёнкове все было необычно. Старообрядец и при этом убежденный западник. Жил в гражданском браке с француженкой Клеманс Карловной Дюпюи, которая так и не научилась говорить по-русски (она звала его Кузей, а он ее Клемансой). Купил за огромные деньги у князей Нарышкиных дачу в Кунцеве, построил на Мясницкой особняк по индивидуальному проекту – с молельней и салоном в стиле Людовика XVI; собрал картинную галерею, огромную библиотеку.
Собирать Солдатёнков начал в 1852 году – на целых четыре года раньше самого Павла Третьякова, о чем, впрочем, редко когда вспоминают. В искусстве коллекционер-нувориш разбирался слабо, но признаваться в этом не стеснялся. Николай Петрович Боткин, названный Фетом красавцем туристом, познакомил Солдатёнкова в Риме с художником Александром Ивановым (судьбы Боткиных, Щукиных, Солдатёнковых и Третьяковых постоянно пересекаются: один круг, ничего не поделаешь). Иванова первого Кузьма Терентьевич попросил помогать и покупать ему русских художников на его вкус и выбор. В 1860-х Солдатёнков сделался обладателем прекрасной коллекции русской живописи и даже удостоился любовного прозвища Московский Медичи[20]. «Если бы не Прянишников[21], Третьяков и Солдатёнков, то русским художникам некому было и продать свои картины: хоть в Неву их бросай», – любил повторять художник Риццони.
Крупнейший российский торговец бумажной пряжей тратил свои миллионы на разнообразные культурные и общественные нужды, а не только «задавал лукулловские обеды и сжигал роскошные фейерверки с громадными щитами, снопами из ракет, бенгальскими огнями» на даче в Кунцеве, где по соседству проживали Третьяковы, Боткины и Щукины. Более всего известен Солдатёнков некоммерческой издательской деятельностью и бесплатной больницей для бедных «без различия званий, сословий и религий». Раньше больница называлась Солдатёнковской, а после революции была переименована в Боткинскую. Вряд ли Солдатёнков обиделся, узнав, что больница, на которую он потратил более миллиона, получила имя доктора Сергея Петровича Боткина, одного из братьев Боткиных, с семьей которых он был так дружен.
Жизнь и судьба каждого из Боткиных – захватывающий сюжет с неизменным участием их доброго гения В. П. Боткина. Сергей Боткин, в детстве считавшийся чуть ли не умственно отсталым, тоже всем обязан Василию Петровичу. Старший брат нанял ему хорошего домашнего учителя, который распознал у Сергея выдающиеся математические способности. Математиком С. П. Боткин не стал, поступил на медицинский факультет, прошел ординатуру в Европе на завещанные ему старшим братом деньги и стал великим врачом, основателем отечественной школы клинической медицины.
Родившиеся в 1810-х годах В. П. Боткин, К. Т. Солдатёнков и И. В. Щукин редко «проговаривались» о своем детстве и юности. Поэтому столь поразительно признание, сделанное Василием Петровичем Боткиным в письме младшему брату: «Из моего детского возраста – нет отрадных воспоминаний: добрая, простая мать, которая кончила тем, что беспрестанно напивалась допьяна, – и грубый, суровый отец. И какая дикая обстановка кругом. Но, несмотря на суровость, – отец, при всем невежестве, был очень неглуп и в сущности добр. Поверишь ли, что память моя сохранила из моей ранней молодости, исполненной такой грязи и гадости, – что даже отвратительно вспоминать себя». Как это похоже на детство Солдатёнкова, который «родился и вырос в очень грубой и невежественной среде Рогожской заставы, не получил никакого образования, еле обучен был русской грамоте и всю свою юность провел “в мальчиках” за прилавком своего богатого отца, получая от него медные гроши на дневное прокормление в холодных торговых рядах».

