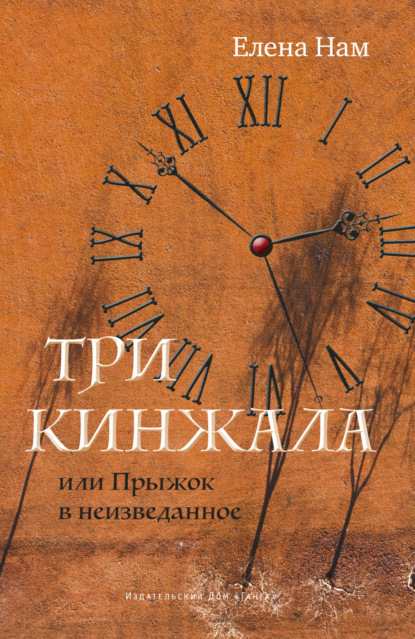
Полная версия:
Три кинжала, или Прыжок в неизведанное

Елена Нам
Три кинжала, или Прыжок в неизведанное
© Е.В. Нам. Текст, 2023
© ООО ИД «Ганга». Оформление, издание, 2023
* * *Предисловие
Дорогие мои читатели! Если вы взяли в руки эту книгу, прошу вас, не ищите в ней точного следования историческим фактам и личным биографиям. То, что написано здесь – это скорее свободный полет фантазии, навеянный какими-то реальными событиями, отображенными в хрониках, письмах и иных сочинениях, а также сохраненных в памяти, но при этом, возможно, утративших свой первоначальный смысл. Или, может быть, это – полет души, отправившейся в путешествие, но захватившей с собой некие путеводные знаки, помогающие ей не заблудиться, но все-таки свободно, по собственному усмотрению, прокладывать маршрут.
Какова цель этого путешествия? Зачем мы вообще однажды срываемся с насиженных и хорошо знакомых мест, чтобы отправиться в неведомое? Ведь даже то, что мы хорошо знаем по книгам и путеводителям, оказывается в реальности чем-то загадочным, полным удивительных тайн, а иногда даже пугающим, чуждым и отталкивающим. Душа путешествует в иных пространствах, нежели тело. И для ее путешествий требуется гораздо больше смелости, свободы от привычных стереотипов, гораздо больше силы духа и безрассудства. Но именно такие путешествия возвышают нас над обыденным, бесцветным и слишком хорошо знакомым существованием, возвышают над самими собой и помогают стать чем-то большим, чем мы есть.
Три кинжала вонзились мне в сердце,Три кинжала:Прошлое, Настоящее и Будущее.Три настоя лечили мне сердце,Три настоя:Память, Присутствие и Устремление.Затянулись смертельные раны,И зацвел Белый Лотос.Пролог
Три безобразные старухи сидят в тесной комнате, куда не проникает даже призрачный луч света. Но в свете нет никакой нужды, ведь старухи слепы. Тем не менее их крючковатые пальцы ловко управляются с пряжей, которая составляет главную заботу их существования. Это Мойры, обитающие в глубоком подземелье. Они – Великие Матери, старше которых нет никого во Вселенной: ни в мире людей, ни в мире богов.
Они сестры, и их имена – Клото, Лахесис и Атропос. Клото, младшая из сестер, прядет нить человеческой жизни. Лахесис – искусная ткачиха – вплетает эту нить в причудливое полотно, сплетая с другими нитями. Но едва лишь она закончит свое очередное творение, доведя его до совершенства, старшая мойра – Атропос – начинает распускать то, что создала средняя, а затем, растрепав пряжу, обращает ее снова в бесформенную кудель. И Клото вновь принимается за работу, чтобы затем передать эстафету Лахесис.
Откуда приходит прошлое? Куда уходит будущее? Как встречаются они в точке «Здесь и Сейчас»? Ответы на эти вопросы известны хитрым старухам. Проживая свою жизнь, мы с помощью Атропос распутываем сложный узор судьбы, сплетенный Лахесис, чтобы затем Клотос запустила очередной виток существования, достав из небытия нить новой жизни.
Часть 1. Поражение
Там беспечный закат, догорая,
Затихает у ночи в плену.
Если очень вам хочется рая,
Отыщите свою тишину.
Моя поэзия* * *Поражение. Боль… Мне уже все равно.Я во тьме одиночества стыну.Я – корабль, однажды ушедший на дно,Килем вскрывший морскую пучину.Уничтожены мачты, борта сожжены,Искалечена прежняя стать.И остались мне только виденья и сны.Только я не хочу умирать.Не хочу навсегда расставаться с мечтой,Напоенной годами скитаний,Что дарила не всеми желанный покой —Беспощадный огонь испытаний.Может быть, я однажды себя прокляну,Что, шальная, не вышла я в дамки.А пока я хочу постигать тишину,Смело строить воздушные замки.Все сомненья оставить свои позади,Смыть надежды морскою водою,Чтобы даже в своем пораженьи найтиУпоенье заветной мечтою.1Маленький мальчик выходит на дорожку, выныривающую прямо из-под порога небольшого одноэтажного дома, аккуратно выбеленного и словно улыбающегося проемами своих приветливых окон. Эти окна хранят ни с чем не сравнимый уют внутреннего пространства, и чем-то похожи на ласковые мамины глаза, в которых спрятана вся ее любовь и нежность. А еще в них отражается весь мир, огромный мир, у которого нет ни границ, ни пределов.
Дорожка ведет на ферму, которая расположена всего в полумиле от дома. Мальчику нужно сходить туда за молоком, но для него это настоящее путешествие, бесконечное и захватывающее, как целая жизнь. Дорожка добротно утоптана, и ноги сами, без каких-либо усилий несут его вперед, навстречу приключениям. Запахи и звуки, которыми наполнено все вокруг, подхватывают его, делают совсем невесомым, и вот он уже не слышит своих шагов, растворяясь без остатка в каждом проживаемом мгновении.
Запах свежескошенной травы приятно щекочет ноздри, и в нем без труда можно различить нотки прелого вереска, овсяницы и ситника. Запах проникает внутрь, заполняет легкие, и, наконец, окончательно и бесповоротно поселяется где-то в коленках, пятках и на кончиках пальцев. Вот чуткое ухо безошибочно улавливает легкий шорох, из сена выныривает маленькая отважная мышка, покинувшая свою норку и отправившаяся на поиски вкусного обеда. Увидев человека, она вдруг робеет и снова ныряет в свою спасительную обитель, исчезая без следа.
Кузнечики, шмели и стрекозы уверенно порхают в зарослях травы, чувствуя себя как дома среди цветков герани, василька, донника и кипрея. Большая зеленая стрекоза с голубым брюшком, черной полосой вдоль спины, огромными глазами и прозрачными как стекло крылышками бесстрашно садится на маленькую ладошку, вертит во все стороны своей подвижной головкой, взлетает и беспечно уносится вдаль. Если еще немного углубиться в заросли, то можно встретить быстроногого зайца, сонного ежа или даже хитрую лисицу, отдыхающую в тенистых зарослях.
Но почему-то сегодня так не хочется беспокоить кого-либо своим грубым вторжением. Где-то глубоко в нежной душе чувствительного ребенка рождается и укрепляется сознание того, что все вокруг слишком хрупкое и мимолетное, беззащитное и почти призрачное, но в то же время настоящее и родное в самых своих истоках, а потому, как ничто другое, сродни вечности.
С тех пор как Джон начал осознавать себя, окружающий его мир представлялся ему до самых краев наполненным жизнью. Она заполняла собой все пространство, а вдыхаемая вместе с воздухом, проникающая внутрь вместе с лучами солнца и оседающая теплым комочком где-то в животике вместе со вкусным маминым обедом, она была неотделима от той сути, которую Джон вкладывал в короткое и вместе с тем очень объемное, почти необъятное слово «Я».
Даже смерть виделась ему неизбежным следствием переизбытка жизни. Как будто иногда она переливалась через край, или выплескивалась наружу из-за неосторожных действий живых существ. Так дочка фермера Мэри, озорная девчушка со смешными веснушками, тугими косичками и бездонными голубыми глазами, способными, как казалось Джону, утолить любые печали и невзгоды, иногда, наливая молоко в бидон, вдруг неловким движением выплескивала несколько капель, которые тут же поглощала без следа ненасытная земля. При этом Мэри так беззаботно смеялась, что казалось, нет никакой беды в том, что небольшие частички бытия иногда исчезают безвозвратно, ведь все полно жизни, и она тут же без труда восполнит образовавшийся недостаток.
* * *Мышонок замер, оробел немножкоИ быстро юркнул в норку налегке,А лягушонок прыгнул на дорожку,Мои шаги заслыша вдалеке.Я лишь на миг прервал дыханье лета.Вот сумрак стелет мягкую постель.И эхом ночи замирает где-тоОвсянки переливчатая трель[1].2Джон родился в небольшой английской деревушке в бедной семье. У его родителей не было собственной земли, и они жили наемным трудом, выполняя самые тяжелые работы в близлежащих фермерских хозяйствах. Однако его отец был человеком грамотным и даже не лишенным литературного вкуса. Иногда по вечерам ему удавалось выкроить час-другой, чтобы уединиться в кухне, а в теплую погоду и прямо на пороге дома, с книгой в руках. И тогда маленькому Джону казалось, что происходит некое священнодействие, в которое однажды будет посвящен и он сам. В эти минуты потемневшее от загара лицо отца, с которого никогда не сходила печать усталости, вдруг светлело, морщинки, эти немые свидетели непрерывающейся череды забот, разглаживались, а в потухших глазах появлялся живой огонек, освещавший тьму кажущейся безысходности существования. Можно было без лишних слов забраться к отцу на колени, завороженно замерев на его широкой груди, и без остатка погрузиться в благословенную кем-то свыше тишину.
Однажды маленький Джон в очередной раз примостился на коленях отца, ощущая всем телом привычную шершавую поверхность грубой ткани его рабочего комбинезона, и не заметил, как задремал. Ему приснилось, что он плывет по волнам, которые мягко и бережно укачивают его, а он расслабленно лежит на поверхности воды, готовой вынести его на сушу или же навсегда заключить в свои крепкие объятия. Вдруг его разбудил возбужденный возглас отца, всегда молчаливого и скупого на проявление каких-либо эмоций:
– Сын, ты только послушай, какие прекрасные стихи! – Расправив затекшие плечи, он начал декламировать с едва различимой дрожью в голосе, не привыкшем к любому красноречию:
Моя любовь, моя душа, Скажи, в какой предел небесныйТы удалилась, поспеша, Для жизни новой и чудесной?Ты вспоминаешь ли, скорбя О том, что здесь ежеминутноОстаток жизни без тебя Я доживаю бесприютно?И если твой витает взор Везде, где я в уединеньеС твоей вступаю в разговор Воображаемою тенью, —Тогда у нашего ручья Хочу коротким сном забыться,Чтоб ты смогла, любовь моя, Хотя б во сне ко мне явиться![2]Джон очень плохо понял смысл того, что зачитал ему отец в порыве неподдельного восхищения, но он словно услышал прекрасную музыку, дивным узором сплетенную из хорошо знакомых слов и в несколько мгновений и навсегда захватившую его в свои сети. И почудилось ему вдруг, что стихи тоже рождаются от избытка жизни, вдруг выплескивающейся за осязаемые пределы бытия и готовой унести с собой зазевавшегося чудака куда-то очень далеко.
3– Мэри, кто-нибудь говорил тебе, что твои волосы подобны струящемуся потоку лесного ручья, хранящего кристальную чистоту каждого мгновения?
– Нет, Джони, никто и никогда не говорил мне ничего подобного.
– А говорил ли кто-нибудь тебе, Мэри, что в уголках твоих губ прячутся солнечные зайчики, ждущие восхода солнца и готовые славить его щедрость в каждом своем движении?
– Нет, Джони, даже самые болтливые парни в нашей деревне не способны на такое.
– Значит, никто не говорил тебе, что в бездонной глубине твоих глаз сокрыта тайна рождения жизни, как в нераскрывшемся розовом бутоне – вся красота будущего цветка?
– Никто не умеет говорить так, как ты, Джони. Никто не умеет так тронуть сердце девушки, жаждущей любви и внимания. Иногда мне кажется, что твоими устами говорит Бог, а иногда…
– Не надо, Мэри! Ни слова больше!
Джон приложил свою ладонь к ее устам, легонько коснулся пальцами ее губ и тут же отдернул руку, внутренне укоряя себя за то, что позволил себе что-то лишнее. Мэри звонко рассмеялась, в очередной раз удивляясь той необычайной застенчивости, которая была чужда ей, но которая резким контрастом выделяла среди других этого странного юношу по имени Джон Клэр. Он был строен и даже красив. Тонкие и слегка заостренные черты лица, высокий лоб и внимательный, хотя и слегка отстраненный взгляд зеленых глаз с опущенными внешними уголками, хранящими затаенную печаль, – все это выдавало благородную и глубокую натуру, которой Бог по какой-то одному Ему ведомой прихоти наделил простого сельского батрака.
Джон боготворил Мэри, она чувствовала это, и это льстило ее девичьему самолюбию. А еще ей очень нравилось его слушать. Его речь была подобна пению соловья, так звонко поющего в лесной тиши. Порой услышишь его заливистую трель, замрешь на несколько мгновений, заслушаешься, и вдруг почувствуешь, как радость наполняет сердце, все мысли, волнения и печали отступают, и душу словно мягким одеялом накрывает покой. Рядом с Джоном было легко и спокойно. Мэри знала, что его сердце лежит у ее ног, и ей совсем не хотелось его растоптать.
– Завтра же пойду к твоему отцу, скажу, что люблю тебя, и попрошу у него твоей руки. – Джон, слегка наклонившись, резким движением сорвал первую попавшуюся под руку травинку, даже не взглянув на нее. И тут же в сердцах бросил ее себе под ноги, словно подтверждая этим жестом свою решимость, созревавшую долгими бессонными ночами и, наконец, вырвавшуюся наружу.
Мэри посмотрела на него с испугом и замерла на месте. Они шли по той самой дорожке, которая вела от фермы к дому, где жил Джон, и которая однажды привела их из беззаботного детства в пылкую юность.
– Ты же знаешь, Джони, что отец никогда не даст разрешения на наш брак.
– И что же нам делать? Похоронить все чувства, развеять в прах все мечты, убить в себе надежду на счастье и покориться судьбе, даже не попытавшись что-то предпринять? Я не отступлюсь от тебя, Мэри! Разве Бог создал всех живых существ не для того, чтобы они радовались каждому проживаемому мгновению и слагали песни в Его честь? И разве мы с тобой не достойны того, чтобы быть счастливыми, подобно птицам, свободно парящим в небе?
* * *Пойдешь ли, милая, со мной —О, девушка, пойдешь ли тыВ туман и холод ледяной,В ущелья мглы и темноты —Туда, где не видать ни зги,Где в никуда ведут шагиИ ни звезды во мгле ночной, —Пойдешь ли, милая, со мной?[3]4– Здравствуйте, господин Дрери!
– А, Джон, это ты! Заходи, всегда рад тебя видеть. Совсем недавно мы получили новый сборник стихов Уильяма Вордсворта. Уверен, ты не сможешь пройти мимо этой книги.
Джон был завсегдатаем книжной лавки Эдварда Дрери и мог часами бродить среди книг, выбирая то, что ему придется по душе и по карману. С детства он подряжался на самые тяжелые работы в близлежащих фермах, чтобы заплатить за свое обучение в школе и иметь возможность покупать книги, которые, подобно воздуху, стали необходимым условием его существования.
– Господин Дрери, я пришел к вам с необычной просьбой. – Джон стоял у входной двери, переминаясь с ноги на ногу и не решаясь поднять глаза. В руках он держал небольшую пачку исписанных листов бумаги, которую безжалостно теребил дрожащими руками. Прошло несколько томительных мгновений, прежде чем он решился взглянуть на собеседника и сказать то, ради чего пришел. – Я написал несколько стихотворений. Не могли бы вы посмотреть их? Может быть, я смогу выручить за них немного денег.
– Ну что ж, давай посмотрим, что ты написал. – Дрери взял из рук Джона его творение, на титульном листе которого неуверенной рукой было выведено: «Стихотворения, описывающие сельскую жизнь и природу», и с доброжелательной улыбкой посмотрел на смущенного юношу, которому симпатизировал за его стремление к книжной мудрости. – Я прочитаю сегодня твою рукопись, не сомневайся. Обязательно приходи завтра.
Эдвард Дрери был человеком мечтательным и слегка рассеянным. Будучи выходцем из состоятельной семьи, он получил хорошее образование и благодаря семейным связям мог бы сделать неплохую карьеру в сфере книгоиздательства. Однако природная склонность к меланхолии не позволила ему преуспеть в чем-либо, и в конце концов он обрел свой душевный покой и достиг видимого жизненного благополучия в качестве простого продавца книг в Нортгемптоне. Придя домой после работы и открыв рукопись застенчивого паренька из Хелпстона, Дрери понял, что в его жизни произошло очень важное событие, может быть, самое главное событие его жизни. На следующий день он отправил рукопись в Лондон своему кузену Джону Тейлору, одному из основателей издательской компании «Тейлор и Хесси». Так увидел свет первый сборник стихов Джона Клэра «Стихотворения, описывающие сельскую жизнь и природу. Сочинение Джона Клэра, крестьянина из Нортгемптоншира».
– Мэри, Мэри, постой! Куда же ты так спешишь? У меня есть хорошие новости для тебя! – Джон уже несколько часов поджидал свою возлюбленную в тени огромного дуба, росшего в небольшом отдалении от фермы. После того, как отец Мэри наотрез отказался выдать дочь за него замуж, он старался не попадаться ему на глаза. И едва заметив, как Мэри вышла из дому и направилась куда-то по хорошо знакомой дорожке, побежал за ней следом.
– Джон, ты же знаешь, что нам не нужно встречаться, давай забудем все, что было. Мы все равно никогда не будем вместе. – Мэри говорила глухим голосом, и в нем уже не слышался звон серебряных монет, когда-то услаждавший слух влюбленного юноши. Всегда веселые глаза Мэри подернулись дымкой, смотрели отстраненно и даже холодно, а гибкая и стройная фигурка словно застыла, утратив былую подвижность и напоминая фарфоровую куклу.
– Да послушай же, Мэри! – Джон сильно волновался, непроизвольно ероша свои волосы и понимая, что сейчас решается его судьба. В глубине его души теплилась надежда, что Бог подарил ему шанс, один из тысячи, шанс на исполнение самого заветного желания. – Я отдал в издательство свой сборник стихов. Скоро выйдет моя книга. Ее будут читать во всей Англии, я получу хороший гонорар, и твой отец больше не будет называть меня голодранцем. Я уже пишу новую книгу и, может быть, смогу стать настоящим поэтом. Почему же ты плачешь, дорогая?
– Ах, Джони, я так рада за тебя. Я всегда знала, что ты – особенный. Ты не похож на других, и тебя ждет необыкновенная судьба. Но нам никогда не быть вместе. Отец просватал меня за Томаса Питерса с фермы за холмом. Сейчас вовсю идет подготовка к свадьбе. И мы уже ничего не сможем изменить.
При этих словах Джон потерял дар речи, мысль о том, что последняя надежда рухнула, парализовала его. А Мэри уходила все дальше, и он уже не пытался ее остановить. Постепенно ее силуэт, отгороженный от Джона плотной завесой слез, размылся в серое пятно с неясными очертаниями и, наконец, совсем исчез. И показалось ему вдруг, что мир покачнулся, выплеснув из его сердца за ненадобностью разбитую любовь и несбывшиеся мечты. Но жизнь не терпит пустоты, в которой таится призрак смерти, и поэтому она заполняет эту образовавшуюся полость неутихающей болью.
* * *Любовь исчезла в небесах,А на земле ей места нет.Отравленный виденьем прах,В аду несу я тяжесть лет.В потемках собственной душиЯ вдруг увидел свет небесИ сгинув в мрак земной глуши,В огне поэтом я воскрес.[4]5В начале XIX века Лондон уже был большим индустриальным городом, насчитывавшим более одного миллиона жителей. Сюда устремлялись не только иммигранты из колоний и бедных европейских стран, но и крестьяне, которые не могли прокормить свои семьи и, отчаявшись, отправлялись на поиски лучшей жизни. Для работы на фабриках и заводах требовались рабочие руки, поэтому Лондон был готов приютить всех, разрастаясь за счет новых промышленных районов. Утверждение капиталистического уклада в экономике, политике и социальной сфере способствовало быстрому росту производства в самых разных областях. Постепенно Лондон превращался в индустриальную столицу мира.
В то же время это был город контрастов. Строительство новых роскошных домов для промышленных баронов компенсировалось существованием множества неблагоустроенных кварталов для городской бедноты. Вестминстерский дворец, где заседал британский парламент, и резиденция британских монархов – Букингемский дворец были визитной карточкой Лондона и вместе со всей западной частью города, именуемой Вест-Эндом, олицетворяли собой благополучие и неумеренную расточительность буржуазной элиты и королевской власти. Антиподом фешенебельного Вест-Энда был Ист-Энд, восточная часть Лондона, где селились рабочие, получавшие за свой труд сущие гроши. Они вынуждены были снимать маленькие, неуютные комнатки, где часто были разбиты окна, стояла старая рваная мебель и где нужно было проживать в тесном соседстве с клопами. Разнорабочие, грузчики, бродяги и пьяницы за два пенса находили себе приют в дешевых ночлежках, или заплатив один пенс, могли заночевать у кого-нибудь на кухонном полу. Неочищенные сточные воды сбрасывались прямо в Темзу, а использование питьевой воды, собираемой из этой реки, приводило к распространению болезней и эпидемий. Многочисленные фабрики, заводы и домашние печи потребляли огромное количество угля, дым от сжигания которого значительно ухудшал экологическую ситуацию.
В этот город, олицетворявший собой все новейшие тенденции мирового развития, после выхода в свет первого сборника стихов отправился Джон Клэр. Сборник имел ошеломительный успех. Во всех мало-мальски уважавших свою репутацию салонах и гостиных заговорили об удивительном поэте-самородке из Хелпстона. В условиях нараставшего экологического кризиса передовые умы Лондона обратились к философии Жан-Жака Руссо, порождавшей ностальгию по тем временам, когда человек жил в естественном, незамутненном и не испорченном техническими и научными достижениями состоянии, когда он был ближе к природе, был более нравственным и добродетельным.
К Джону Тейлору, которому достались лавры открытия талантливого деревенского поэта, воспевающего природу и незатейливый сельский быт, то и дело обращались дамы из высшего общества с просьбой познакомить их с человеком, так удачно вписывавшемся в их воображении в образ «благородного дикаря» из произведений Руссо. Но знакомства с Джоном Клэром искали не только представители светской элиты, но и именитые литераторы, заинтригованные простотой и изяществом его поэтического слога, а также глубиной свойственных ему переживаний. Тэйлор взял на себя все расходы и уговорил Джона приехать в Лондон.
В пути Джон грезил о столь желанном переезде в столицу, который позволил бы покончить с бесконечным и изнурительным поденным трудом на фермах, о встрече и дружеских беседах с Сэмюэлем Кольриджем, Уильямом Блейком и Джорджем Байроном и о возможности приобретать и читать любые книги, которые только существуют на свете. Ведь Лондон – это город таких возможностей, о которых простой человек может только мечтать. Однако промышленный гигант ошеломил его и оглушил. Крики и грязная ругань грузчиков, разгружавших уголь, окрики и свист кучеров, несущихся по мощеным улочкам на кэбах или грузовых повозках, суета спешащих по делах прохожих, удручающий вид копающихся в мусорных баках бродяг, серое, закопченное небо, давно забывшее о своей природной голубизне – все это выступило резким контрастом к привычному размеренному существованию в деревенской глуши, из года в год и из века в век воспроизводившему одни и те же формы бытия.
Звуки, порождаемые природой, – ласковый шепот листвы, слегка потревоженной порывом ветра, настойчивый стрекот сверчка, призывающего самку, или скрип ворота, обещающий утоление жажды в жаркий день, – всегда были гарантом душевного покоя, пробуждающим или усиливающим внутреннюю тишину. Звуки большого города убивали тишину, загоняя ее в самую глубину человеческого существа или вовсе изгоняя вон, обрекая его на духовную смерть. И пробираясь, подобно призраку, по улочкам большого города, Джон с горечью думал о том, что смерть имеет несколько обличий, но нет страшнее той смерти, которая лишает человека возможности пребывания наедине с самим собой и с Богом.
* * *Хочу уйти в заветные места,Где человек ни разу не ступал,Где я пребуду с Богом навсегдаИ буду спать, как в детстве сладко спал,Непотревоженный, среди простых чудес:Трава внизу, а сверху – свод небес.[5]6Дорогой Джон! Приветствую вас, друг мой! Думаю, что после нашего знакомства и тех душевных бесед с вами, которые скрашивали мое одиночество и неизбежно подступающую старость, я с полным правом могу называть вас этим словом. Вы оказались удивительно интересным собеседником и мне не хватает вашего общества. Вы лишены напыщенного самодовольства и тщеславия, которыми наполнены парадные и гостиные лондонской аристократии, и способны на самое искреннее проявление чувств. Заклинаю вас, никогда не изменяйте себе!
Держу в руках ваш новый сборник стихов «Деревенский менестрель и другие стихотворения» и спешу поздравить вас с новым и не менее внушительным успехом. Ваши описания природы стали еще более тонкими и проникновенными. И совсем по-новому зазвучала тема одиночества. Предполагаю, что ваш приезд в Лондон оказал большое влияние на ваше творчество. Но не оказались ли вы, мой друг, заложником своего таланта, благодаря которому вы очень чутки к восприятию всего самого прекрасного, что вас окружает, но в то же время вынуждены из-за него невольно ослабить те тесные узы, которые связывают вас с миром природы, и познать неизбывную тоску по утраченному раю?
И если это так, то значит дух романтизма коснулся вашего чела и уже останется вашим неизменным спутником до конца ваших дней. Если бы вы знали, сколько тревожных дней и бессонных ночей провел я, силясь примириться с реальностью и обрести покой в душе своей, ибо еще подростком ощутил я вкус бесконечности и уже не смог его позабыть. И не находил я иного утешения, кроме бегства в глубь веков или погружения в собственные фантазии. Лишь проникновение в призрачные миры, такие настоящие и близкие моему сердцу, позволяло мне держаться на плаву. Ваше творчество, Джон, как и ваша личность, покоятся на более прочном фундаменте. Вы более, чем кто-либо, близки к тем корням, которые некогда питали наших предков, давая им силы для борьбы с любыми невзгодами. Вы твердо стоите на той земле, которую обрабатываете своими руками. Так держитесь за нее и будьте мужественны.

