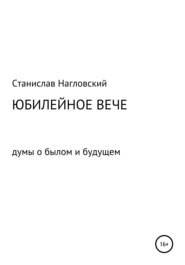
Полная версия:
Юбилейное Вече
Ярослав, сын Владимира, склонив голову пред великими предками и желая мудрым слыть, добавил к поставленным ими целям новые:
– Крепить целостность Руси и правовую жизнь страны единым для всех сословий установлением по имени «Русская правда», обновлённым совокупностью важнейших для державы законов, сотворённых всеми поколениями российских народов. Учесть при этом следует, – продолжил Ярослав, уже Мудрый, – необходимость преемственности древнейшей жизни славянской и жизни теперешних дней. К тому ж, добавлю, нам следует родниться дружбой и кровно со всеми ближними и дальними странами. И ещё, желаю народу нашему оставить потомкам память о себе летописями правдивыми, дабы им ошибки наши не повторять и успехи наши развивать.
Участники Веча, внимая мыслям великих князей и отзываясь на них в душе каждый по-своему, поручили Послу Истории напомнить некоторые из важных событий Владимировых времён и ближайших к ним веков. Многое из чрезвычайно значимого зарождалось в тех летах для российского будущего…
***
В тот день над степью полыхал невиданный небесный жар. Горячий воздух Серпня обжигал лица и тела людей. Облака пыли затмевали висевшее на западе тёмно-красное Светило, по степи нёсся топот тысяч копыт. Дорога к столице пустела мгновенно. Вдоль великой реки домой возвращалась победная рать. Власть князя вновь утвердилась в землях взбунтовавшихся славян.
«Надолго ль?» – усмехнулся Владимир, перебирая в памяти события последних дней. Думать о неприятном не хотелось. Князь был утомлён. Карать восставших непросто. Короткие, но беспощадные схватки, поджоги, резня, полонение недругов требуют много труда и сил. Да и прошедшая ночь немало сил отняла: мёд был крепок, а новые наложницы неутомимы.
Князь вновь усмехнулся, припомнив одну из полонённых дев. Особо младую и как вихрь неуёмную. Сейчас она бредёт в толпе красавиц, отобранных князем для жертвоприношения богам.
Князь посерьёзнел, вспомнив о богах, насупился. Уж не один год, как по его указу построено святилище богов. На одном из киевских холмов днём и ночью пылает круг из восьми костров. В центре огненного круга – мироправитель Перун, бог грома и молнии. Голова из серебра, усы золотые. Поодаль – ещё пять важных богов: Хорс, Даждьбог, Стрибог, Семаргл, Макошь. Боги на все случаи жизни. И прежде всего – как символ его княжьей власти. Для исполнения его надежд. Для защиты рубежей. Для единения славян. Это князю сейчас особенно важно. Силой да страхом, он понимает, людей в княжестве не удержать. Ни знатных, ни простых смертных.
В доказательстве истовой веры князь ничего не жалеет. Ни золота, ни серебра. Тем паче людей, особо челяди-рабов, из крови которых на Руси было всегда хоть пруд пруди. Пруд сейчас не прудили без нужды, но жертвы приносили. Всякий раз, как надо было задобрить или отблагодарить богов. Из числа не только пленных или сторгованных на ближайшем рынке рабов, но и по жребию – из семей свободных славян и варягов. И повели тогда боговерцы-отцы своих сыновей и дочерей к капищу на заклание идеям и истуканам, положив тем непреходящий обычай, унесённый российской жизнью в далёкое будущее.
«И осквернилась кровью земля русская и холм тот», – запечалится автор знаменитой летописи много, много времени спустя, указывая на великие, опять же кровавые, примеры сопротивления инакомыслящих людей языческому жертвоприношению.
Князь продолжает размышлять под мерный стук копыт… Жизнь идёт своим чередом. Большие надежды на своих богов не оправдываются. Конечно, народ Руси чуть присмирел. И всё же он, как прежде, разрознен и в силу этого противоречив. А с внешним миром всё больше беда за бедой, торговать с ним всё несподручней, послам общаться непросто. Уменьями, обычаями, ремёслами не поделиться. Слишком различны нравы, слишком разные взгляды на мир. Многое, очень многое в жизни с соседями не стыкуется. Напротив – отъединяется…
Владимира не тревожит жестокость его богов. Она естественна в этой жизни. Как жестокость сегодняшней жары, лютого холода прошлой зимой, постоянных вражьих помыслов. Да и не жестокость это. Это древний закон жестокой жизни. Тревожит другое. Как со множеством богов жить славянам в единстве и общей с миром жизнью? «Почему у иных народов, вокруг нас живущих, есть свой единый бог? – размышляет князь. – Неужто оттого, что их бог создал эти народы, а мы своим народом создали своих богов? Что первично в мире этом? Кто был вначале? Человек или боги? А землю кто создал? Кто потом на ней людей размножил?.. Выходит, что есть тот, кто сотворил землю и моря, зверей и птиц, и нас, людей. Кем же должен быть такой творец, коли не богом? Кому ещё по силам творения такие?» Вопросы, вопросы, вопросы…
Трудные мысли об этом и многом другом пришли и уже не покидают великого князя. И мысли эти становятся великими. Князь ищет выход. Для входа в неведомое – новое тысячелетие…
Старая вера в языческих богов понятна князю. Она хороша для умиротворения того, что неизвестно, непонятно, странно, страшно на земле. Для всего такого языческие боги полезны. Но все они сами по себе. Каждый для разных, разделённых случаев жизни. А ей, дабы шла она успешно и всегда вперёд, нужен единый, всеобъемлющий бог. Тогда люди княжеств большой страны станут единым народом. Вера должна явиться той божьей стрелой, что в своём бесконечном полёте прочертит путь жизни страны по имени Русь.
Пошёл восьмой год княжения Владимира. И мало, и много; впрочем, для великих дел достаточно. Вполне. Тем паче что жизнь быстротечна. Уже истекает его чрезмерно контрастное двадцативосьмилетие. В кое прожиты годы уязвлённого детства сына рабыни; раннего мужания в поисках опоры из варяжских дружин; мятущиеся годины кровной мести, вакханалий, разбоев; потрясающие времена коварств, побед и славы; тернистые лета противоречивых исканий, тоски по неизведанному, внезапной слепоты, чудесного прозрения. Настала пора целенаправленных поисков, духовных озарений…
Совет воевод, жрецов и других достойных людей длится немалое время. Всех волнует вопрос: какая вера верна? Религий на свете много. Нужна одна. Основой близкая душе славянского народа. Терпимая к другим народам, к их богам.
В великокняжеском тереме ответ на этот и многие другие вопросы уже висел как будто в воздухе. Но вновь появлялись сомнения. Наступил момент – они стали преобладать. В душной атмосфере собранья застойно завис вопрос: а есть ли вообще истинная вера в мире поднебесном?
И тогда раздался твёрдый голос Владимира:
– Есть такая вера! Вера в Христа! Бога православного! Бога великого множества правых в выборе веры славян!
Князь замолчал средь молчания совета. И в этой тиши вновь зазвучали его вещие слова. Размеренно, как время бытия. Уверенно, как неизбежность прихода рассвета:
– Это не вы выбираете веру, это Бог избрал Русь!
Решение принято. Крестить Русь. Но как? Это сложный вопрос. Чтобы реформировать – надо верно предвидеть. Предвидеть – значит мудро управлять. Это князь понимает. Приподнять бы завесу времени… На три года, на пять, лучше – лет на сто или на тысячу. И прошлую жизнь забывать негоже. Да и в сегодняшней разобраться надобно. Страна славянская полна противоречий. Как их разрешить, чтобы новую веру принять душою? Так, чтобы это понятно было всем?
Советники идут чередою. Князь призывает их по одному, дабы получить искренний и разумный совет. Но искренность и разумность не всякий раз в тех советах находит. Ибо каждый желает своё нашептать, выгоды свои в крещении видя. Одни толкают князя к указу жестокому: крестить всех поголовно, согласия не спросив, и в краткие сроки. А кто воспротивится – казнить или в яму бросить для поумнения. Остальные покорнее станут и бога нового примут скоро. А о душе своей пусть каждый сам печётся. Другие советники подождать с крещением увещевают. Говорят, осмотреться ещё нужно. Некоторые указывают на разногласия старой и новой религий, на возможность из этого бунтам происходить.
Новая жена Анна по ночам своё нашёптывает. Мол, слушай во всём императоров Византии, братьев моих родимых, помогай им в делах ратных. И императоры пришлют тебе митрополита и священников сколь надо. Они и пусть крещением народа занимаются. Это их дело святое. А тебе, муж-князь, государством править надо да воевать в союзе с православными.
Очередной советник был сед и мудр. К несчастью, слеп на один глаз. Но вторым видел далеко и ясно. Слова его были тихими, но твёрдыми:
– Хочешь, князь, менять старое на новое в жизни избранной Богом Руси – будь решителен, осмотрителен и осторожен. Не ломай прежнее. Бери из него лучшее, отторгая ненужное. Будь твёрд и нетороплив. Вращивай желанное новое в мудрое старое, как семя мужское младое в нутро матери зрелой. И жди положенное время. Не понукай силою. Новое обязательно появится, и все тому рады будут. А поспешишь – выйдет наоборот. Иль выкидыш произойдёт мертворождённый, иль что-то иное объявится, с чем ни ты, князь, ни потомки твои не справятся. А если и справятся большою силою и жертвами немалыми, то всё поправлять его будут, усовершенствовать да перестраивать. На то, может, и тысячи лет не хватит. Так что не ломай прежнее, а зарождай новое. Веру старую не брани, идолов языческих не истребляй. Они верно послужили славянам древним и нынешним. И теперь послужат. Внедряй с их помощью, вернее, с помощью старой веры в них веру новую, истинную. Народ такому порядку податливым будет. Не ожесточится, не бросится в бега, не обидится, не воспротивится…
Князь слушает старца внимательно, но думает о своём. Время не терпит, надо действовать. И быстрее…
Оценив особо значимые обстоятельства бытия славян и, конечно, свои личные чаяния, на 988 году со дня рождения Христа, на восьмом году своего правления князь принимает обдуманное в традициях времени решение: где и каким образом крестить народ. В водах славного Днепра. В городах и поселениях. В лесу, в степи. Повсюду на Руси.
И тотчас вдогонку – ещё одна мысль: «Кто не придёт к реке креститься, богатый ли, или бедный, тот будет мне противен».
Посланец Истории продолжает повествование. Участники Веча с нарастающим интересом внимают…
…Бог Отец к первому тысячелетию Бога Сына обратил свой взор на народ, зарождавшийся в то великое время в суровых земных владениях Бога Духа Святого. Признав своим, Бог в трёх лицах нарёк сей народ русским, призвал к святой вере, одарил светлыми надеждами и новыми гранями любви. Предоставил народу в целом и каждому человеку в отдельности право выбора и свободу творений…
Священники, старцы, люди монашествующие степенно пошли дорогами и тропами по городам и поселениям Руси. Шагают по открытым всем ветрам степям и лесным буреломам. Под палящим солнцем и в леденящий мороз. В дождь, в грозу, в метель. По снегу, льду, топи болот. Идут туда, где живёт народ. Ведут Божьи люди проповеди, для жизни полезные. Несут народу милосердие и сострадание. Поясняют тем, кто слышит и не слышит пока, что́ есть грех, как творить добро, поправляют нравы. Строят церкви, везут азбуку и книги, переводят письмена нужные иноземные, ведут летописи народной жизни. Воспитывают, образовывают, творят, исцеляют, защищают, отвращают от неверного. Каждый день, с каждым новым рассветом терпеливо и неторопливо наносят новые мазки на новую картину мира славян.
А князь торопится. Дела государственные подталкивают. Некоторые священнослужители тоже. И пуще того – их приспешники. Объявили некрещёных соплеменников своими противниками. Принуждают креститься силою, страхом воцерковляют. Громят безмолвных языческих богов, жестоко обращают народ в веру милосердную. По принципу, закреплённому в народном предании: «Путята крестил мечом, а Добрыня – огнём».
История обратила внимание своего Посла и, конечно, участников Юбилейного Веча на некоторые знаменательные эпизоды обыкновенной жизни тех далёких времён…
***
…Большой караван медленно движется по дорогам, за многие века проторённым и с запада на восток, и с востока на запад. Подходит конец длинному и трудному пути. Конному и пешему. Впереди ещё немалый, по воде. Река манит свежестью и гладкой дорогой. Молодой боярин Мирослав, сын славою отмеченного воеводы Димитрия Смелого, первым подскакал к пристани, что разместилась в излучине великой торговой реки. Десять больших весельных ладей, две из них с мачтами для треугольных парусов, важно покачиваются на тихой волне. На берегу чинно расположились шатры дружины Добрыни, князя новгородского, родного дяди и воспитателя великого князя Владимира. Рядом, почти по-свойски, разместились гребцы-рабы. От их костров тянет приятным теплом и крепким запахом сытного ужина.
Мирослав торопится. Считал каждый месяц, а теперь считает и каждый день. Успехи путешествия немалые. Надо неотложно внедрять их в делах оружейных, в плавлении и ковке твёрдых металлов, неподвластных стрелам, копьям и мечам вражеским. Добрыня подивился необычной спешке, но противиться не стал. Помнит наказ строгий великого князя – воспомогать всесильно учёной дружине. Потому отменил веселье загульное, дал отдых путникам и приказал перегрузить воинские товары и руды железные с лошадей вьючных в весельные ладьи.
К утру всё было готово к отплытию. Князь новгородский тепло и с толковыми подробностями напутствует боярина Мирослава и его людей, дополнил их охранной дружиной. Впереди, к югу, вражья́ поболе. И разбойников лесных вдоль реки, как всегда, немало, и, главное, людей неприятельских, восточных, прибавилось. Хоть и мир с их вождями силой Руси заключён, но народец этот живёт законами своих степей. Кочует шайками и приворовывает у ближних соседей.
Флотилия движется стремительно уже вторую неделю. Река становится всё шире, так что если посередине плыть, то и берегов порой не видно. Держатся ближе к правому, более обжитому. Река трудится. И к северу, и к югу плывут ладьи купеческие. Не часто, но и не редко. Выглядят как боевые. Из-за высоких бортов грозно торчат стрелы с наконечниками, гнусно звучат выстрелы кнутов, понукающих гребцов. Купцам вреда никто не чинит. Кроме разбойных шаек местных да восточных, пришлых. В остальном князья великие порядок для купеческих дел держат, считают их труд важным в политике внешней и внутренней. Пошлиной купцов не душат, а с Византией ещё князь Святослав мечом добился для русичей свободной торговли.
К югу берега всё больше меняются. Пленяют, как и прежде, зеленью лесов и степей. Но всё чаще появляются новые краски. Золотом отливают поля ржи и пшеницы. Медью колосится просо. Нежно-зелёным шёлком трепещут широкие полосы льна. На берега к вечернему водопою спускаются стада багряных коров и белоснежных коз.
Мирослав с интересом отмечает уклад земледелия русичей. Молодой учёный мастеровой понимает, сколь много старания приложили люди для освоения этих полей. Старания, конечно, общинного. Без совместного труда работу сельскую никогда и никому не осуществить. Тем паче в условиях суровых и несомненно рискованных нашей природы.
– Уж это точно, – поддержал Мирослава Иван Хлебник, средних лет воевода охранной дружины, приданной к флотилии новгородским князем.
Толк в деле сельском воевода Иван знает отменно. Хотя и воюет всю жизнь, но хозяйству в своей вотчине посвящает потребное время. Вотчина большая. Пожалована предкам Ивановым ещё первыми князьями Руси. За заслуги ратные примерные, за то, что живота своего не жалели для приумножения и защиты земель русских. Иван и сам старается в ратном деле. За что и вотчина ширится соответственно – князь Владимир ревностно следит за наградами достойным…
– Так вот, – продолжил воевода Хлебник. – Общинный труд летом в поле и зимой даже, при переработке плодов урожайных, не подменить ничем. Работать совместно – это оправданно всегда. И этот обычай наш весьма полезен. Другим народам примером служит. Худо другое, я это и в вотчине своей наблюдаю. Пользуем порой земельку нашу, будто враги пришлые. Ты, боярин Мирослав, видел, конечно, в странах иноземных, как прилежно у них клочки земельные ухожены. И удобрениями разных животных и растений напитаны. А у нас что? Земельку не кормим, не поим годами, пока не истощится вовсе. А потом бросаем на годы долгие или насовсем от неё отворачиваемся…
Воевода Иван поглядел на внимательно слушающего Мирослава, возвысил голос:
– Не по-хозяйски это. А бороться бесполезно. Потому как много земли на Руси. Бескрайняя она. Оттого и пользуемся ею как чужой. А она ведь, родимая, кровью славянской полита. Думаю, – помолчав, снова заговорил Иван Хлебник, – землю купить иль продать нельзя. Землю можно или завоевать доблестно, или заработать честно. Тогда и ухаживать будешь за нею, как за дитём. Земля ответит взаимностью. Со временем. Ибо память земли – великая память. И долгая. На тысячу лет и боле.
Воевода улыбнулся своим мечтам и потянулся к большой фляге с мёдом крепким, что под рукой всегда находится. И для снятия горести, и для подъёма радостных надежд.
Мирослав не упустил из сказанного ни единого слова. В его работах по железу и производству оружейному тоже немало трудностей разных. Не всё удаётся сделать, как у мастеровых из других стран, но и достижения свои, доморощенные, имеются, иноземцам на зависть. И в деле проверенные, и, главное, в уме заготовленные. Мирослав уже близок к осуществлению своих кузнечных задумок. Если Бог даст, Русь получит отменное оружие наступательное и броню для защиты непробиваемую.
Мысль о таинственном Боге устремила думы Мирослава в новом направлении. Он знает, Русь крещена. И горд этим. Сказывается кровь предков далёких и близких да воспитанье отца и матери: быть и оставаться всегда и всем существом своим в поисках истины и справедливости. Но сам ещё не крещённый. Как и все, кто был с ним в работном путешествии. Мирослав ждёт приезда домой и не изведанного им действа – крещения. Волнуется и готовит душу к принятию веры желанной.
Ближе к столице всё чаще являются избы с крестами. Они притягивают взор, нацеливают ввысь, меняют пространство вокруг. Деревья и дома рядом с крестами выглядят стройнее, человек поднимается в свой рост. За годы после крещения народ стал несколько иным. Будто подобрели люди. Хотя за словом гневным и бранным за пазуху, как и прежде, не лезут. Всегда наготове словечки такие. Да и рукопашный ответ на обиду, даже пустяковую, наступает без промедления.
Но всё же преобразился народ. После многих лет разлуки с родной землёй Мирослав это заметил. Заметил и другое. То, что его возмущением переполнило. По берегам нередко встречались сожжённые деревни. Молодой путешественник возроптал в душе, узнав, что в деревнях тех жили язычники, не пожелавшие принять новую веру. По их запущенным хлебным полям ныне раскиданы останки твёрдых приверженцев старой веры.
Рулевые и гребцы отгребали от такого берега. Уходили на стремнину, к середине реки, подальше от тех страшных полей. Тягостное настроение сейчас усугубилось атакой с восточного берега. Стрелы хоть и на излёте, но шумно забарабанили по бортам ладей. Одна из них, особо искусно печенегом пущенная, крутой дугой долетела до ладьи Мирослава и вонзилась в плечо гребцу. Тот, не дрогнув, в единении с другими гребцами, изо всех сил исполнил манёвр рулевого. Ладьи, развернувшись к врагам высокой кормой, уходили к правому берегу: у него всё же спокойней.
Воевода Хлебник не дал команды отстреливаться. Не тот враг, стрел жаль на него. Мощные ладьи, словно не замечая вражину, спокойно, с уверенностью сильного, стремительно идут домой. За один суточный переход до столицы причалили к берегу. Мирослав торопился, уже часы считал, но воевода Хлебник был непреклонен. По уставу воинскому следовало должным образом подготовить дружину к встрече с великим князем. Кольчуги должны быть латаными, мечи острыми, шлемы и щиты блестящими, яко солнце в чистом небе.
Ладьи завели с осторожностью в широкий речной залив. Вокруг него, в буйной зелени фруктовых садов, разместилось большое село. Был воскресный день. Время шло к вечеру. Солнце тёплыми лучами ласкало ухоженную землю и соломенные крыши домов, отражалось в бычьих пузырях оконцев и в мутных лужах вокруг коровников. Дома опустели в мгновенье. Люди оставили ужин и двинулись, торопясь, к реке. Творилось там сейчас нечто для селян интересное. Стар и млад, мужики и бабы стекались по узким тропкам и улочкам на широкую дорогу, ведущую к общинному водопою. Там причалила грозная дружина.
На лицах селян нет страха, удивления тоже. Не такое видывали на своей реке. Но любопытство и ожидание нового заметны в их поведении. Толпа красочна. Пестрят воскресные одежды. Платья, рубахи белого, красного, синего цветов трепещут под лёгким ветром, выделяясь на фоне зелени дерев и травы. Лица людей загорелые, волосы и прямые, и вьющиеся, девичьи косы ниже пояса, тела стройные, руки, что у мужиков, что у баб, мускулистые. А глаза!.. Голубые, карие, серые – искрятся любопытством, надеждой на сказочное. Красота несравненная, но привычная здесь, потому незаметная…
Через день, когда солнце стояло в зените, столица торжественно встретила долгожданных путешественников. Великий князь был доволен увиденным и услышанным. Молодой боярин Мирослав показывал образцы иноземного вооружения. Однако предпочтение отдавал рудам железным и медным, найденным им в местах глухих, труднодоступных. Рассказывал о пользе их для производства отечественного. Поведал о надеждах использовать те руды для изготовления оружия неотразимого.
Князь рассматривал руды неведомые, с трудом представляя, какой в них прок. Но верил Мирославу, с ранних лет любознательному и в мастерстве оружейном проверенному. Оттого и посылал князь за опытом и недра изведывать посольство учёное под властью молодого боярина. В общем, доволен остался великий князь. Потому благодарностью ценной учёных мастеровых наградил. Особой милостью отметил Мирослава-умницу. Обнял троекратно да прибавил к вотчине отца его немалый кус урожайной земли, той, что отвоевала недавно дружина князева с воеводой Димитрием Смелым во главе. Всех облагодетельствовал великий князь, кто старания в путешествии важном проявил. И тут же наказ дал строгий. Внедрять немедля и с Божьей помощью опыт полезный в воинскую жизнь. Одной отвагой ратной да силой телесной врага нынешнего не победить. Нужно оружие победоносное и броня кольчужная непробиваемая.
От великокняжеского подворья домой Мирослав возвращался вместе с отцом. Кони их неслись, нетерпеливо подгоняемые всадниками. Отец участвовал в торжественной встрече учёного посольства. Горд сыном был бескрайне. Глаз не спускал с родного лица, много мудростью и мужеством повзрослевшего за долгие годы разлуки. Впитывал сердцем воевода все похвалы в адрес сына, но сам не высказал ни одной. Не в обычаях семьи славу петь близким людям. Сейчас, нарочно отстав на полконя, отец всматривается в профиль сыновьего лица. Не по возрасту глубокие морщины пролегли поперёк высокого лба и от носа к губам. Следы, видно, труда поискового, учёных раздумий глубоких и жестоких воинских битв. Вгляделся отец в каштановые под солнцем локоны. О Боже! Висок, ветром открытый, сплошь седой. В неполных двадцать три года!
Отец поравнялся с Мирославом:
– Сынок, давай ещё пришпорим. Дома мать ждёт. Уж все глаза, верно, проглядела. Тебя любила она всегда особо. А теперь… ты… ты нашим старшим сыном стал. Два года как Олег погиб, схватившись с двумя десятками печенегов…
Мирослав вздрогнул, посерел лицом, пригнул голову к шее коня. Пришпорил – и стрелой вперёд.
Дома встретили мать и сёстры. Младшие братья – на войне. Мать бросилась к сыну, не дав ему сойти с коня. Прижалась к сыновьей ноге грудью, щекой. Губы немые, разжаться не могут. В глазах мольба. Спасибо, Господи, за сына живого! На второй ноге – цветник сестёр. Губы целуют, но из горла ни звука. Отец поспешно отдал коня взволнованной домашней челяди, стоит, согнув обычно несгибаемую спину. Руки, ни разу не дрогнувшие в битвах, сейчас дрожат. В зубах крепко зажат седой ус. Глаза напряглись, сощурились, как от ветра иль мороза, слезу вышибающего… Наконец тряхнул головой шибко, хряпнул громко, с усилием стирая с лица приметы грусти и нежности.
Мать молчит по-прежнему. Дыхание затаив. Чтобы продлить долгожданное свидание с сыном. Мирослав осторожно высвободил ногу из ладошек сестёр, перекинул через коня и, стараясь не потревожить матушку, стал скатываться к ней. Вот грудь сына у головы матери. Губы прижались к сердцу родимому. Сын остановил движенье. Чуть погодя медленно встал на ноги. Склонился. Щека к щеке. Не отрываясь. Как в годы синяков иль глотошной, других младенческих недугов.
– Сынок… Родимый… – И самый нежный в мире звук, звук материнских поцелуев…
В один из вечеров, после баньки с парком, сидели отец и сын за обильным столом. Женщины накрыли его заботливо, посидели, удалились. Дали возможность мужчинам побеседовать о мужском. Их двое осталось в большой семье. И скоро снова разлука. Война вновь за порогом.
Мирослав рассказал о жизни в работном путешествии, о мыслях своих, сомнениях и чаяниях и, конечно, о своём отношении к крещению. Воевода Димитрий Смелый слушал внимательно, молчал, раздумывая. Потом молвил:



