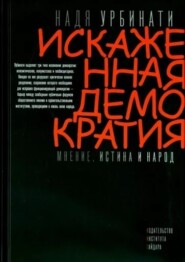
Полная версия:
Искаженная демократия. Мнение, истина и народ
Судья Кеннеди не приводит никаких данных, которые были бы получены Конгрессом или другими источниками и подтверждали бы его заверения; тем не менее он приходит к выводу, что единственная причина, по которой корпорации или кто-либо другой готов тратить деньги, чтобы повлиять на публику, состоит в том, что последняя обладает «окончательным влиянием» на официальных политиков. Его вывод нацелен на уравнивание корпораций в гражданских и политических правах с гражданами как физическими лицами. Однако он не может доказать полное отсутствие данных о том, что американцы в последние годы потеряли веру в демократический потенциал своей политической системы и сомневаются в том, что их равные избирательные права дают им возможность сколь-нибудь ощутимо влиять на институты и представителей[164]. Кроме того, общеизвестным историческим фактом является то, что билли о правах и конституции были написаны и приняты, когда отношение между политической властью и гражданским обществом, наконец, укрепилось и устоялось, так что такие конституции были признаком появления у субъекта возможности свободно влиять на власть выборных должностных лиц и в то же время контролировать ее.
Отношение между решением и обсуждением, составляющее диархию демократии, достаточно очевидно указывает на то, что, хотя только голоса имеют значение, а «само по себе публичное обсуждение ничего не решает», законодатели и граждане могут найти немало исторических и эмпирических данных, если пожелают доказать наличие этой связи между социальной властью и политическим влиянием вне и за пределами формального события выборов. Решение Верховного суда США от 2003 года, одобряющее проводимую Конгрессом реформу финансирования кампаний, подтверждает идею диархической природы демократии и максиму демократического влияния. Если говорить словами верховных судей Стивенса и О’Коннора, хотя тайное голосование не позволяет нам получить «конкретные подтверждения» того, что «деньги покупают влияние», это голосование не является достаточным индикатором состояния демократии, поскольку, собственно, это не единственная форма, которую принимает голос народа. «Конгресс не обязан игнорировать исторические данные, относящиеся к той или иной особой практике, или рассматривать поведение отдельно от его контекста». Короче говоря, мнение – это власть и тогда, когда оно используется для продвижения политической программы или финансирования кандидата, и тогда, когда оно применяется гражданами для выражения своего несогласия с мнением большинства или для запроса более полной информации по деятельности правительства. В результате всего этого равные возможности участия в суверенитете мнения становятся щекотливым вопросом, хотя нет доказательств того, что влияние на мнение отражается в решениях.
Максима демократического влияния основывается на идее представительной демократии как диархии. Она признает то, что политическое участие в представительной демократии является комплексным и означает не только выбор законодателей, но и опору на эффективных представителей, выступающих проводниками интересов как вне, так и внутри государственных институтов; короче говоря, оно означает наличие равных возможностей участия в публичном форуме в роли избирателей и граждан[165]. Кроме того, она закрепляет нормативное значение демократического процедурализма в его безупречной способности опираться на равную свободу и воспроизводить ее. Наконец, она указывает на то, что демократическое правление должно ощущать ответственность за такое регулирование публичного форума мнений, которое наконец гарантировало бы всем равные возможности оказывать определенное влияние на политическую систему, даже если:
а) не все желают использовать эту возможность;
б) те, у кого больше материальных средств для оказания политического влияния, воздерживаются от их применения;
в) избранные политики достаточно добродетельны, чтобы не отвечать на давление влиятельных граждан.
Коммуникативная власть
«Для того чтобы общественный форум был свободен, открыт для всех и заседал постоянно, каждый должен иметь возможность получать от него пользу… Свободы, защищенные принципом участия [то есть всеобщим избирательным правом], теряют значительную часть своей ценности, когда тем, кто имеет бо́льшие личные средства, позволяется использовать свои преимущества для контроля над ходом общественного обсуждения. Дело в том, что в конце концов эти неравенства позволят людям, находящимся в лучшем положении, оказывать большее влияние на ход законодательного процесса»[166]. Этой чеканной формулировкой Джон Ролз в 1971 году определил идею политической справедливости. В рассуждении Ролза перефразирована мысль, которая была широко распространена в первые десятилетия после Второй мировой войны и которую можно заметить в обсуждавшемся у Роберта Даля условии, необходимом для достижения политического равенства, а еще раньше – в позиции Джерома Баррона, полагавшего, что «существует неравенство в способности сообщать свои идеи, точно так же как есть неравенство в экономической силе; признавать последнее и отрицать первое – попросту идеализм». Баррон развивал эту мысль так: если мы признаем то, что политическое участие в демократии включает в себя и «коммуникацию идей», а не только голосование, мы должны также признать, что «публичная информация жизненно важна для появления информированных граждан», а демократический подход к свободе информации и к силе влияния должен предполагать не невмешательство со стороны государства, а политику регулирования или вмешательство, нацеленное на устранение барьеров, закрывающих гражданам доступ к этим средствам. Применяя к медиакоммуникации или силе влияния принцип Ролза, согласно которому процедурные правила являются самостоятельной и независимой ценностью, поскольку в качестве «чистого процесса» они обеспечивают возможность равной свободы, Бэйкер разрабатывает принцип демократического рассредоточения для коммуникативной власти, требующий «максимального рассредоточения собственности на медиа»[167]. Это нормативное требование, которое не обязано обосновываться эмпирическими данными. Его оправдание «состоит в том, что оно допускает формирование публичного форума, на который опирается демократия, то есть в признании того, что власть денег – это фактор, который дает нечестное преимущество в отправлении политической власти, несмотря на то, что каждый голос формально обладает одним и тем же весом, а каждый гражданин формально может распоряжаться одним и только одним голосом. Демократический политический порядок отчасти предполагает борьбу разных групп, у каждой из которых свои проекты и интересы, свои нужды и своя концепция желательного общественного мира»[168]. Эгалитарные условия важны для того, чтобы у всех граждан была возможность участвовать в формировании, обнародовании и разработке этих взглядов.
Все теоретики демократии, какова бы ни была их концепция – чисто процедурная, конституциональная или партиципативная, утверждают, что конкуренция идей и политических взглядов является фундаментальным условием для формирования мнений граждан и их выбора. Поскольку демократическое государство не должно интересоваться регулировкой количества поданных голосов, оно должно быть заинтересовано в обеспечении того, что «в республике, где суверен – народ, главную роль будет играть способность граждан делать информированный выбор между кандидатами»[169]. То, что Уолтер Липпман неодобрительно именовал «псевдосредой», расположенной «между человеком и его средой»[170], в демократии является политическим благом, областью, в которой осуществляется политическое участие; также это парадигматическая территория конфликта между политикой и сферой публичного и частными интересами и сферой социального. Именно на этой территории в современной демократии идет борьба – скорее за политическое равенство, чем за избирательное право.
Цепочка косвенности
Таким образом, мы прояснили политическое значение свободы слова, причины, по которым мнение в современной демократии является политической силой, а правовое вмешательство ради равной свободы на форуме является оправданным. Теперь мы можем обратиться к вопросу о «качестве» доксы или средствах, на которые опираются, формируясь и сообщаясь, мнения. В противоположность родственной суверенной власти, а именно избирательному праву, для формирования и выражения мнений граждан необходимо нечто большее их решения действовать.
Хотя мнение отождествляется с голосом и решением индивида высказать то, что он думает, на самом деле оно опирается не только на голос и решение индивида его использовать. Права свободы слова и свободы мнения отправляются при помощи технических средств, и эти косвенные материальные средства способны стать новым источником неравенства[171]. В самом деле, чтобы мнения были услышаны и стали влиятельными, граждане должны сделать некоторое дополнительное усилие помимо решения отточить свои риторические способности, мыслить свободно и говорить честно и открыто. Традиционно эти индивидуальные качества считались доказательством существования определенных форм естественного неравенства, которые не только не устраняются равным правом на участие в политической жизни, но еще больше усиливаются, получая возможность проявить себя и даже развиться[172]. Классическое описание демократии как правления, в котором индивиды используют только аргументы, является, следовательно, неадекватным, поскольку, хотя граждане не могут использовать деньги напрямую, средства, необходимые, чтобы их мнения получили публичный отклик, довольно дороги и для них нужны деньги. Если следовать идее Ролза о том, что пользование свободой состоит в пользовании одновременно «основными свободами и ценностью этих свобод», мы можем сделать вывод, что «без финансовых средств для осуществления права на свободу слова это право, судя по всему, не будет иметь никакой действительной ценности»[173].
Неравные личные качества, такие как хорошие риторические способности и приобретенные обучением навыки политической игры, бледнеют в сравнении с неравной собственностью и контролем над средствами коммуникации. Хотя граждане демократии признают и приобретают равное право на политическое участие, это не гарантирует того, что они будут оказывать равное влияние на политическую повестку и лидеров, если их голоса не слышны за пределами узкого круга друзей и, кроме того, если у них нет сил выйти за этот круг[174]. Технологические средства, действующие между правом на свободу слова и действительной «заметностью» мнений, – это ключевой фактор, который дополняет уникальность представительной демократии как правления посредством мнения[175]. Вопрос о геополитическом размере современных государств – это важный фактор, который помогает объяснить эту уникальность: как известно, Аристотель полагал, что слишком большой полис не мог бы быть политическим сообществом, поскольку не бывает глашатая с таким громким голосом, чтобы его услышал весь народ. Но тот тип косвенности, о которым мы говорим, не связан с размером.
Высказать мнение – не то же самое, что сделать его коммуникативным. «Коммуникация, – писал Никлас Луман, – возникает лишь тогда, когда кто-то видит, слышит, читает и постольку понимает, что здесь могла бы последовать дальнейшая коммуникация. Одно только действие, передающее сообщение, следовательно, еще не является коммуникацией»[176]. Мнения, следовательно, связаны не только с самой речью, но и с совместной речью с другими, а когда сообщество достаточно широко, нам нужна кое-какая дополнительная помощь, чтобы сделать коммуникацию возможной. Как писал Кант: «Хотя и утверждается, что властями может быть отнята свобода говорить или писать, но не свобода мыслить, но только сколько и насколько правильно мы мыслили бы, если бы не думали как бы сообща с теми, с кем обмениваемся своими мыслями!»[177]. Кантовское обоснование коммуникации нашло дополнительную поддержку в словах судьи Верховного суда Таргуда Маршалла, который, выступая по делу «Kleindienst v. Mandel» (1972), заявил, что «свобода говорить и свобода слушать – неразделимы; это две стороны одной и той же медали… Но сама медаль – это процесс мышления и обсуждения. Деятельность, в которой говорящие становятся слушателями, а слушатели – говорящими в живом обмене мыслями, – это средство, необходимое для открытия и распространения политической мысли»[178]. Публичный форум – это такое средство коммуникации, и он предполагает не просто желание говорить и слушать. «Если людей не слышат и если они не говорят, и демократия, и дискуссия в опасности»[179].
Право на свободу слова требует некоторых внешних материальных условий, которые позволяют нашим мнениям быть переданными в коммуникации, если последняя – это то, что мы желаем достичь посредством речи, то есть если речь должна служить публичной цели, а не ограничиваться дружеским кругом. (Таков же был смысл использованного Цицероном различия между sermo и eloquentia.) Для существования публики в большом полисе нужны определенные технические инструменты. Но средства коммуникации, являясь техническими устройствами, приносят с собой немалое затруднение, поскольку они зависят от денег, технических знаний и материальных факторов, которые в значительной мере обуславливают принцип прав и возможностей. В ранее процитированном решении судья Маршалл предполагал, что в вопросе о коммуникации не следует упускать из виду то, что «возможно, является частными качествами, присущими последовательным, проходящим при личном участии спору, дискуссии, опросу»[180]. Никто лучше Аристотеля не поможет нам понять отношение между автономией суждения и «поведением», средствами коммуникации и конституционным правлением.
Аристотель, как известно, утверждал, что небольшой размер полиса и непосредственные отношения между гражданами в повседневной жизни – это ключевые условия политической свободы: «Государство с чрезмерно большим населением… скорее племенная единица, нежели государственная, так как ему нелегко иметь какое-либо правильное устройство. Действительно, кто станет военачальником такого до чрезвычайных размеров возросшего множества, кто будет глашатаем, если он не обладает голосом Стентора?». Глашатай считался ключевой фигурой, поскольку суждения граждан, не менее важные, зависели от него. Античная демократия отличалась не только тем, что ее граждане непосредственно участвовали в политике, но и тем, что они непосредственно судили и принимали решения в соответствии со своими «идеологическими предпосылками, стремясь к наиболее полному осуществлению своего собственного интереса и интереса государства»[181]. Технические средства не встревали между людьми и их мнениями. Если парафразировать заявление Верховного суда по делу «Miami Herald v. Tornillo», существовал «подлинный рынок идей» с «достаточно легким доступом к каналу коммуникации». В современной же демократии «рынок идей» не открыт и не является действительно свободным рынком. «Газеты стали крупным бизнесом, причем их количество сильно уменьшилось, тогда как количество грамотных людей увеличилось», так что эти «средства» – это уже не просто проводник, переносящий идеи и мнения, а силы, находящиеся «в руках у немногих», «информирующих» и «оформляющих общественное мнение» граждан. Вопрос теперь уже не просто в том, что не у всех есть равный доступ к «рынку идей», но в том, что у некоторых голос громче, чем у других, благодаря материальному богатству, которое у них есть и которое они могут использовать для усиления своих голосов и продвижения своей повестки. Равенство, таким образом, понесло существенный урон, и это вызов политической свободе[182].
Заявление Аристотеля о том, что население и территория должны быть ограниченными по размеру, проистекало из его требования социальной и политической самодостаточности граждан. Этим может объясняться то, почему isegoria, «всеобщее право говорить на собрании, иногда использовалось греческими авторами как синоним „демократии“»[183], поскольку и это право, и демократия должны были отправляться неопосредованно. Согласно Аристотелю, понятие самодостаточности относилось как к производству идей и мнений, так и к их выражению на собрании. Гражданам, чтобы действовать в качестве самодостаточных субъектов, нужно было как независимое суждение, так и экономическая независимость. Для свободного и ответственного выбора им были нужны как материальные блага, так и знание. По Аристотелю, в двух публичных сферах, для которых характерна власть выносить решения – распределение политических постов и применение законов – граждане должны были формулировать свои суждения в частном порядке, а не сообща. И распределение власти (при выборе гражданами должностных лиц), и отправление правосудия (когда судьи судили людей за их поступки) требовали непосредственного знания. Так же, как судьи в своих делах не могли работать с косвенными или полученными из вторых рук знаниями, граждане не могли выбрать достойных должностных лиц или принимать хорошие законы без знания качеств кандидатов.
Если в античных республиках единственным посредником между гражданами и институтами был глашатай, в современной демократии коммуникация и информация – это конструкция, создаваемая акторами-посредниками, которые также управляют системой выбора кандидатов, разработки политической повестки и формирования мнений по многим вопросам, которые могут стать предметом общественного суждения. В античной демократии граждане могли узнать о личных качествах лидеров или ораторов, самолично проверить их и вынести о них суждение. В современной демократии качества кандидатов и информация о действиях выборных официальных лиц искусственно конструируются и передаются гражданам. Более того, такая информация превращается в спектакль, который должен забавлять, отвлекать, провоцировать или успокаивать аудиторию, которая по этой причине превращается в реактивных, но пассивных граждан[184].
Следовательно, современные граждане более пассивны не просто потому, что выбирают политических лидеров, а не принимают решения непосредственно, но и потому, что они не имеют равных возможностей видеть и быть увиденными, выносить на обсуждение свои идеи и делать так, чтобы их услышали. Еще в 1861 году Милль сетовал на то, что в представительной демократии Фемистокл и Демосфен, чтобы их услышали, должны были бы победить на выборах в парламент, но чтобы стать кандидатами, им пришлось бы прибегнуть к помощи партии[185]. Более того, им понадобилась бы достаточно дружественная медиасистема, чтобы они могли понравиться аудитории или мощным лобби, финансирующим их избирательную кампанию в надежде на то, что они помогут принять выгодные тем законы. В современной демократии политическое суждение как самостоятельная косвенная власть является косвенным еще и в силу тех условий, которые делают его эффективным. Цепочка косвенности – вот что должно поддерживать внимание граждан к качеству их равных прав, когда они оценивают вопросы свободы мнения в публичной сфере информации и коммуникации.
Два понятия свободы
Если парафразировать Аристотеля, современным гражданам не хватает самодостаточности в сборе и интерпретации информации, в достижении эффективной коммуникации. Эта нехватка автономии значительно сокращает возможность принятия автономных политических решений и, более того, осуществления контроля над теми, кто был выбран править. То есть здесь страдает не только их участие в политике. Слабой и беззубой становится сама их свобода. Нарушение принципа равной свободы в области мнений – это нарушение системы сдержек и противовесов; оно выражается в концентрации власти на одной стороне, а на другой – в недостаточной силе противодействия, которая могла бы либо остановить деспотическую или чрезмерную власть, либо сопротивляться ей.
В демократии, в которой наиболее важная власть граждан является, по существу, «негативной», поскольку это в большей мере власть суждения и влияния, а не каких-либо действий, тот факт, что их косвенная власть осуществляется через сеть опосредования, которая в значительной мере опирается на деньги, а потому отличается структурным неравенством, означает то, что она, возможно, уже не является эффективной контролирующей силой. Скорее, косвенная власть представляется источником новой, вездесущей власти, неподконтрольной гражданам. В деле, которое было признано «поворотным» и стало прецедентом для политики государственного невмешательства как лучшего способа сдерживания монополизации в медиаиндустрии, судья Верховного суда Байрон Уайт заявил, что «самым главным является право зрителей и слушателей, а не право телеканалов. Цель Первой поправки – сохранить свободный рынок, не ограничиваемый ни государством, ни частными лицензиями»[186].
Хотя возможны аргументы в пользу ограничения монополии, которые бы защищали интервенционистскую стратегию законодательной власти, здесь мне важно привлечь внимание к тому важному признанию, что правило государства – защищать поток информации от концентрации власти и что свобода тех, кто находится в состоянии пассивности, например, аудитории, – это первейшее благо, которое должно защищаться правом. Косвенность, укрепляемая в политике технологиями и деньгами, усугубляет неравное положение оратора и слушателя, предполагавшееся уже традиционным риторическим стилем коммуникации, а потому слушатель больше нуждается в защите, чем оратор. Кроме того, она проясняет столкновение между правами частной собственности и простым наличием доступа к коммуникации[187].
Следовательно, коммуникация – это территория нового конфликта в представительной демократии между негативной и позитивной свободой[188]. Будучи благом, которое наделяет «содержанием» принцип самоуправления, она должна защищаться. Это, если следовать традиции Брандейса, важная функция Первой поправки[189]. В традиционной либеральной концепции свободы слова ее защита рассматривается на основе представления об индивиде как автономном суверене, которому противостоят все остальные индивиды и общество. Нежелание рассматривать ее в качестве еще и части политического права или как право на участие в политической жизни обосновывается той посылкой, что свобода слова не должна вступать в конфликтные отношения с другими благами, например, такими как равенство, иначе не избежать риска ограничения или принудительного вмешательства.
Однако здесь вопрос не в конфликте между свободой и равенством, а в двух концепциях свободы, одна из которых выстроена по модели чистого невмешательства, тогда как другая говорит о свободе взаимодействия и политического участия. Вмешательство со стороны государства должно быть ориентировано не на содержание (как совершенно справедливо подчеркивается в аргументах о невмешательстве и непринуждении), а, скорее, на поддержку действия основных политических прав: цель свободы мнения еще и в том, чтобы позволить гражданам участвовать в споре по политическим вопросам таким образом, чтобы никто из них не получал привилегий и не был ущемлен по причине отсутствия материальных ресурсов[190]. Конституционная демократия преодолела либеральный подход XIX века, устранив расхождения с принципом самоуправления и его нормами. Критерии демократической политики коммуникации – это ответственность и равные возможности. Выборные политики и органы должны отвечать перед гражданами, а чтобы это было возможно, необходимо точное отображение политических вопросов и интересов, а не просто регулярные выборы. Распределение возможностей высказываться и быть услышанным – это также центральная проблема, поскольку только на основе такого распределения граждане могут участвовать в определении политической повестки и в то же время в контроле и проверке политиков и институтов. Эти критерии согласуются с диархическим взглядом на демократию, согласно которому граждане играют две роли – как участники, выдвигающие представляющих их кандидатов, и как «конечные арбитры или судьи в политических спорах»[191]. Цель – выполнить основное обещание демократии, а не создать некую образцовую демократию или какую-то этическую концепцию хорошего общества.
Этим дополняется аргумент, утверждающий, что область политического мнения требует стратегий контроля, похожих на те, что были приняты конституционной демократией ради регулирования отправления власти. В современной демократии, чтобы публичный форум был открыт для всех, для формирования мнения и коммуникации требуется нечто большее защиты свободы выражения или классической либеральной стратегии государственного невмешательства. Конституционной политики (невмешательства правительства), возможно, больше недостаточно, так что, вероятно, требуется демократическое законодательство, которое не воздерживается от действий, а, напротив, применяет активную стратегию противодействия экономической власти на публичном форуме. Более активная стратегия нужна потому, что, апеллируя к частному праву на самовыражение, классический либеральный подход не может привлечь должного внимания к политической несправедливости, которая возникает из огромного неравенства в возможности быть услышанным[192].



