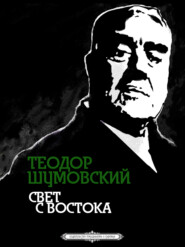
Полная версия:
Свет с Востока
И никого из них я не встречал на воле. Как, следовательно, широк мир и как широко простерлась рука, согнавшая в казематы столько не знакомых друг другу людей!
Но нет, мир все-таки тесен. 9 апреля в камеру ввели человека, лицо которого показалось мне знакомым…. Да, это профессор Генко, крупнейший кавказовед страны. В октябре прошлого 1937 года он выступал в Институте востоковедения Академии наук на всесоюзной сессии Ассоциации арабистов с докладом об арабских влияниях на Кавказе. Мне запомнились энергичные черты, порывистые движения, живые глаза, черные ухоженные усы. Профессор был красив, говорили, что он происходит от греков.
– Здравствуйте, Анатолий Нестерович!
Генко вздрогнул, испытующе посмотрел на меня.
– Вы кто? Откуда я вам знаком? Арестанты с любопытством прислушались к нашему разговору.
– Анатолий Нестерович, вы делали доклад… читали доклад на сессии арабистов… Она проходила под председательством учителя моего, Игнатия Юлиановича Крачковского… Я выступал тогда в прениях по вашему докладу.
Генко опустил голову.
– Да-да, сессия… доклады… Игнатий Юлианович… Все это теперь кончилось для меня, все пропало… как моя библиотека, которая была мне дороже самого себя…
– Отбой! – крикнул охранник сквозь решетку. Все засуетились, начали спешно настилать нары, укладываться спать.
На следующий день мы с Анатолием Нестеровичем долго сидели в стороне, вспоминая Институт востоковедения. Академик Крачковский предложил мне внештатную работу в Арабском кабинете этого института, когда я был студентом четвертого курса, таким образом, к середине пятого довелось узнать многих научных сотрудников. Значительную их часть, начиная от директора, академика Самойловича, поглотило лихолетье, которое переживала страна. Как правило, жертвами расправ были самые талантливые; судьба Крачковского, особенно после зловещей статьи Л. И. Климовича в 1937 году, висела на волоске. Разговор наш с Генко переходил от человека к человеку, одного только я старался не касаться – того, что всего полгода назад Анатолий Нестерович был выдвинут в члены-корреспонденты Академии наук. Собеседнику было бы тяжко вспомнить об этом в тюремной камере.
Генко стали таскать на допросы, чаще всего, как было принято, ночные. Они действовали на профессора особенно угнетающе и разрушающе: он осунулся, побледнел, стал повышенно возбудимым скорее, чем другие. Вместе с появившейся проседью, обвисшими усами и недавно щегольским, а теперь мятым и запачканным синим костюмом это производило удручающее впечатление.
– Знаете, – сказал он мне однажды, лихорадочно блестя глазами, – я хочу с вами проститься. Если вам суждено выйти на свободу – дай вам это бог, вы же еще так молоды – поклонитесь от меня дорогому нам обоим Институту востоковедения.
– Анатолий Нестерович, о чем вы говорите?
– Когда меня вызовут на очередной допрос, я не вернусь в камеру. Брошусь в пролет лестницы, и все будет кончено. Нет смысла и нет желания жить.
Я задрожал всем телом и приготовился умолять обессилевшего душой человека отказаться от рокового решения. В тот же миг из-за решетки прозвучало:
– Кто на «гэ»?
Генко увели. Я в ужасе смотрел на сомкнувшуюся дверь. Почему было не крикнуть вдогонку: «Он хочет покончить с собой, остановите!» Но разве можно такое кричать, это бы навлекло на него новые беды за попытку «уйти от заслуженного наказания». И все же… и все же… Да просто онемел язык от неожиданности вызова, от страха за этого человека…
Примерно через два часа загремел замок, в камеру вошел Анатолий Нестерович. Я бросился к нему. Он мельком взглянул в мои широко раскрытые глаза и обронил:
– Пролеты затянули сетками. Наверное, уже были случаи. Но я все равно… уйду от их рук и сроков. Теперь это окончательно решено, и отговаривать меня бесполезно.
Анатолия Нестеровича как-то вдруг перестали вызывать, – может быть, следователь уехал в отпуск? – и он часами сидел неподвижно, о чем-то думая. Ах, как бы хорошо, если б о своих кавказских языках!
Один раз, когда мы с ним тихо беседовали за «вторым столом» – очень хотелось не оставлять его наедине с мрачными мыслями – к нам подсел Борис Борисович Полынов.
– Угадайте-ка, что мне пришло в голову? – заговорил он, хитро сощурив глаза. – А вот что: давайте организуем в сих благородных стенах вольный, то есть неофициальный университет. Ей-богу, а? Слушателям будет польза, потому что они отвлекутся от всякой своей тоски, глядишь, узнают кое-что новое. Нам, лекторам, тоже будет весьма кстати побудоражить свои знания. Итак, я берусь читать курс географии в самом широком смысле, включая теорию ландшафтов, которая с неких пор стала моей слабостью, Материала хватит на сто лет. Вы, Анатолий Нестерович, смею думать, не откажетесь поведать нам о языкознании – здесь, как мне кажется, тоже много сверхлюбопытного. Ну, а Теодор…
– Борис Борисович, я предпочел бы пока слушать, а не говорить.
– Скромница! Вы же пятикурсник, без пяти минут дипломированный специалист!
– Пять минут оказались больно длинными…
– Ваш учитель Игнатий Юлианович Крачковский, которого я давно знаю и глубоко уважаю, тоже посоветовал бы вам не только писать статьи, но и выступать перед разными аудиториями. Ученый должен привыкнуть смотреть в глаза многим. Ладно, пока слушайте, а потом начните выступать, я вам советую…
Таково было рождение «вольного университета» камеры 23. Первая лекция состоялась в конце мая. Полынов читал ее увлеченно, с большим подъемом – знания требовали обнародования, но сказывалось и то, что старый ученый истосковался по своему делу, которому была отдана жизнь. Почти все обитатели камеры – исключение составляли плохо знавшие по-русски финн Рянн, ассириец Нисанов и некоторые другие – уселись вокруг докладчика и внимательно слушали. Народ ценит живое слово истинной – научающей – науки, обращенное к нему. Днем позже Анатолий Нестерович стал рассказывать об истории русского языка, об исторических судьбах слов, и я доныне помню благоговейную тишину, которая сопровождала негромкую – чтобы не привлекать внимание охраны – речь лектора, и вижу десятки блестящих любопытных глаз, устремленных к нему. Бесправные, униженные люди, которых пытались низвести до положения животных, вдруг на мгновения прикоснулись душами к чуду науки, оно отыскало в них живой отзвук, напомнило о том, что они все-таки остаются людьми.
Деятельность «вольного университета», постепенно ставшая привычной частью внутренней жизни камеры, приподняла и осветила арестантские будни, наполнила их новыми увлеченными занятиями. Нашлись люди, знакомые с английским, французским, немецким языками, другие старались перенять их знания, прилежно заучивая незнакомые слова. Вряд ли они думали о практическом применении узнанного, их привлекали процесс изучения и его возвышенная природа, пробуждавшая в душе сознание человеческого достоинства и отвлекавшая на время от ужаса окружавшей действительности. И вот уже кто-то предложил: «А что, если создать кружок философии, у нас же есть специалисты…»
Люди стремились вверх, но силы были слишком неравны: тяжкая пята распорядка «внутренней тюрьмы» и террор «следствия» распинали слабых, сдерживали осторожных, охлаждали всех, кто хотел избежать кары за «неположенные занятия». Ряды увлеченных понемногу редели, оживление стало выдыхаться.
В июле «вольному университету» был нанесен сокрушительный удар. Очередная «выписка» продуктов задержалась, и один из арестантов по просьбе Полынова и обкомовца Ильева продолбил отверстие в стене, чтобы получить из соседней камеры пачку папирос. Вероятно, дырка в стене была пробита узниками еще в прошлом веке. Ведь непросто было бы сейчас буквально за один вечер, действуя заточенной ручкой от оловянной ложки, выполнить столь трудоемкую работу. Может быть, лишь отыскали спасительное отверстие, расширили… Как бы то ни было, папиросы были переданы, Ильев и Полынов с наслаждением закурили. Нашелся среди новоприбывших в камеру некто, который при очередном вызове к следователю донес начальству о случившемся. И вот загрохотал замок, дверь в наше обиталище широко распахнулась. Вошел корпусной начальник с двумя помощниками. Мы были построены в шеренги, он обратился к нам с прочувствованной речью.
– Вот! Народ строил эту тюрьму, силы на нее положил, а вы разрушаете! Какие же еще нужны доказательства тому, что вы и есть враги народа!
Умозаключение было неотразимым. Полынова с Ильевым увели в карцер, как-то забывши в их тени о третьем, возившемся у злополучной дырки; отверстие заделали. Предатель выдал себя вызывающим поведением в камере: считая, что в общество «преступников» он попал временно и что администрация на его стороне, он требовал внеочередного предоставления ему «удобств», полагающихся по арестантскому этикету старым узникам. С ним перестали общаться: не станем тебя душить, но уж разговаривать с тобой никакие твои начальники не заставят.
После отправки Полынова «на перевоспитание» наш «вольный университет» умер – ведь старый ученый, в котором кипела молодая душа, был «движущим духом» всех просветительных начинаний в камере 23: помимо личного участия в лекторской работе он организовывал выступления профессора Генко и некоторых других специалистов – всех, кого можно было втянуть в живой научный разговор, обмен мыслями. Нередко, отдыхая от лекций, Полынов читал вслух книги русских и западных писателей, которые ему удавалось получать в тюремной библиотеке. Я остро переживал разлуку с Борисом Борисовичем. Увижу ли я его еще когда-нибудь? Запомнилось, как однажды он сказал мне: «Нам с вами надо написать книгу о влиянии ландшафтов на происхождение и развитие человеческой культуры в разных обществах. Я возьму на себя географическую часть, вы – лингвистическую…» Сбудется ли?
А Генко после скоротечного оживления в ходе лекций медленно сходил на нет. Вновь я видел его отделившимся от всех, озирающимся затравленным взором, тяжело задумавшимся нелюдимом. Вступать с ним в беседу было труднее, чем раньше, – вмешательство со стороны, даже доброжелательное, стало его раздражать. Что-то его ждет?.. Кого спросить о нем, когда наши тюремные пути разойдутся? Через много лет я узнал: не то в 1939, не то в 1940 году Анатолий Нестерович был освобожден, опять увидел свою бесценную библиотеку, свой Институт востоковедения; но в начале войны был снова схвачен и уже не вернулся. Так и не пришлось больше встретиться с этим своеобразным – замкнутым, но щедро одаренным человеком, замечательным ученым. А с Полыновым судьба свела меня на два часа в 1946 году, но об этом нужно говорить отдельно.
Мои филологические раздумья, сопоставления, поиски примеров продолжались, постоянная работа ума поддерживала силы. А вот еще… Пишу эти строки, а передо мной лежит старый, сороковых годов листок бумаги, на котором почти выцветшими чернилами сохранены арабские слова. Это мой перевод пушкинского «Если жизнь тебя обманет». Под стихами тоже по-арабски стоит: «апрель 1938, переведено по памяти в тюрьме». Тогда же, в июле, я начал изучать армянский язык при помощи моего первого учителя по этой части – такого же заключенного, Пайтяна.
7 августа меня вызвали из камеры «с вещами», то есть навсегда. Я грустно оглядел помещение, где протекли первые полгода моей неволи; здесь родились новые мысли, которые, вынеся за эти стены, надо сберечь. Охранник открыл решетчатую дверь, я кивнул оставшимся товарищам, вздохнул и вышел. В кабинете следователя мне дали подписать бумагу о том, что я осведомлен: изъятые у меня письма и открытки моей матери – как не содержащие материала для обвинения – сожжены 14 июля 1938 года; конечно, гуманистам из НКВД так поступать проще, нежели возвращать «писанину», как презрительно они выражались, родственникам заключенных. Затем я был сведен во двор и водворен в тюремную машину, которая, получив груз, помчалась неизвестно куда.
За двумя вокзалами
Грузовик с наглухо зашитым кузовом вынесся из двора ленинградского Дома предварительного заключения на улице Воинова, 25, прогрохотал по Литейному мосту над Невой, затем свернул вправо, пробежал по Арсенальной набережной. Остановился у здания № 7, раздался нетерпеливый сигнал. Ворота распахнулись, грузовик прошел под полутемным длинным сводом и замер. Меня высадили, ввели в высокое кирпичное здание старой постройки с решетками на окнах. По узкой железной лестнице я взошел на верхний этаж, здесь дежурный страж открыл передо мной одну из многочисленных камер, я вошел.
На досках, настланных на остов единственной койки, и прямо на полу в полутемном помещении тесно сидели полуголые люди. Бледные, давно не бритые лица были безучастны. Царило испуганное молчание, возникшее при скрежете отворяемой двери. Когда же она закрылась вновь, один из сидевших на койке спросил меня:
– Откуда в наши «Кресты», товарищ?
Вот куда теперь довелось попасть, в «Кресты»! Старая петербургская тюрьма за Финляндским вокзалом, печально знаменитая, изломавшая так много человеческих судеб.
– Откуда? Из «Домой пойти забудь». Спасайся усмешкой, арестант: скорей отскочит боль заточения; легче выжить.
– А-а, из ДПЗ, – проговорил собеседник, – Давно сидите?
– Полгода.
– Не так много, но не так и мало. А вы кто? Я удовлетворил естественное любопытство этого человека и других, жадно слушавших разговор своего товарища с новоприбывшими. Почему они «с ходу», только что, впервые увидев меня, начали сразу, с некоторой даже бесцеремонностью, столь настойчиво расспрашивать? Тут, конечно, сказывается скука длительной оторванности от живого дела. Жажда новизны и обостренное внимание к новостям тоже особенно сильны в тюремных стенах. Но, с другой стороны, каждый на этом крохотном пятачке, с которого некуда уйти, хочет знать – кто сосед? С кем невесть как долго придется вплотную спать, сидеть, разговаривать? Поддержит ли он в случае чего или продаст, утешит или толкнет глубже в пропасть?
А камера и впрямь была с пятачок: семь квадратных метров. Когда-то здесь была одиночка, а теперь тут наедине с парашей заперто двадцать человек, говорят, что и двадцать два было. По три человека на квадратный метр, в ДПЗ было все же по два. По два, по три – кого? Не забывайте единицу измерения: заключенных, этих можно натолкать сколько угодно. Новые товарищи постепенно меня просвещали: «Кресты» – два крестообразных корпуса, в каждом пятьсот камер; из общего числа работает 999, в тысячной погребен строитель. Всего прославленного сооружения безвестный зодчий-умелец. Итак, в этой тюрьме по нынешним меркам одновременно могут содержаться двадцать тысяч заключенных; а в Ленинграде имеется не одно учреждение такого рода.
Кое-кто добавлял: следующий за входом со двора круглый зал, откуда входят в четыре отсека здания и поднимаются на этажи – не простая площадка: сюда, бывает, сгоняют узников и объявляют им приговор суда, которого никто из них в глаза не видел: Особого Совещания при НКВД СССР. Оно, Совещание, не упоминается ни в каких законах, но существует и карает невидимые свои жертвы: кому – пять лет «исправительно-трудового» лагеря, кому – восемь, а кому и «потолок» – десять лет. Как повезет, словом, та же лотерея, что и с выбором предъявляемого обвинения.
«А вы заметили, – спросили меня, – обратили внимание, когда вас вели внизу: на входе в один из четырех отсеков решетки защиты досками? Это отсек смертников». И я вспомнил, как в нашу 23-ю камеру Дома предварительного заключения привели некого Головина, которому казнь заменили десятью годами заключения: еще не стар, а изжелта сед, все время дрожит и то и дело срывается на крик.
…Дни шли за днями, я постепенно осваивался на новом месте. Людей распознал не сразу: какие-то крестьяне с правобережной Украины, какие-то геологи из Узбекистана, молодой монгол, еще недавно учившийся в Ленинградском восточном Институте, – среди преподавателей у нас нашлось много общих знакомых; директор крупного предприятия за Невской заставой, его главный инженер, неравнодушные к рассказам о приключениях, – я принялся повествовать им о некоем Госпеле, каждый день придумывая ему все новые и новые похождения. Эти сочинения на ходу, по-видимому, были довольно удачны – все больше обитателей нашей кельи отвлекались от обычных бесед и слушали меня, наконец, они ежедневно стали напоминать о продолжении рассказов и я, творя и тут же излагая свое творение, вел нить повествования все дальше.
Но из встретившихся мне в камере «Крестов» осенью 1938 года более других отложились в памяти Миша Церельсон и Лю Чжендун.
Миша был оператором киностудии «Ленфильм». Когда его арестовали, он потребовал свидания с прокурором, чтобы доказать несостоятельность обвинения. Требования не выполнили, и Миша прибегнул к последнему средству, редкому в ленинградских тюрьмах, – объявил голодовку. Не подействовало: жизнь каждого заключенного ставилась ни во что, его можно было безнаказанно искалечить и даже убить. Но у тюремного врача нашлось кое-сколько человечности в сердце – он уговорил Церельсона прекратить голодовку, выписал ему для поправки триста граммов белого хлеба и стакан молока в сутки – большее, наверное, было запрещено. И тут этот Миша стал пытаться делить свое сокровище со мной…
Другого соседа по камере, с которым я сблизился, звали Лю Чжендун. Миша только что родился, когда Лю во главе отряда китайских добровольцев защищал новорожденную Советскую власть от Колчака. Из гражданской войны он вышел с простреленными ногами, но, к счастью, все постепенно зажило и в камере он даже попытался однажды показать исполнение какого-то китайского военного танца. Я попросил его познакомить меня с иероглифами. Как положено по уставу просвещенной темницы, у нас не было ни бумаги, ни карандаша, но старых арестантов, какими мы уже были, это не смущает: можно ведь писать концами обгорелых спичек на развернутых папиросных мундштуках. Тем и другим снабжали нас курильщики, нам оставалось работать. Лю терпеливо учил меня китайскому языку, может быть, ему самому хотелось напомнить себе родные слова вдали от своих отчих мест. Я напряженно старался постичь таинства открывавшегося мне нового мира, не всегда это сопровождалось успехом. Помню, долго не удавалось уловить разницу в произношении слов «шу» – «дерево» и «шу» – «книга».
– Как твоя не понимай? – удивлялся мой учитель и даже сердился. – Твоя смотри: это «шу», а это – «шу»!
Разница была тонкой, но постепенно удалось ее «схватить». Мало помалу, спотыкаясь, я начал объясняться с Лю по-китайски. Общение происходило не только на уроках: мы часто делились друг с другом хлебным и сахарным пайками.
Мишу Церельсона и Лю Чжендуна вызвали из камеры «с вещами» раньше меня. Вскоре, 26 сентября, пришла и моя очередь.
Меня не вывезли из «Крестов», а спустили в первый этаж и водворили в холодное, странно пустое помещение. Но нет, не пустое: когда глаза привыкли к полутьме, я увидел Нику Ереховича. Он был погружен в раздумье, столь глубокое, что не слышал грохота ни отворенной, ни вновь захлопнутой двери камеры.
– Здравствуй, Ника, – проговорил я, садясь рядом с ним на узел со своими пожитками. Он вздрогнул и оживился.
– Здравствуй! Ты получил обвинительное заключение? Как же без этого? Вот оно.
– Дело-то плохо: нас будет судить военный трибунал.
– Да, военный трибунал Ленинградского военного округа. Это какая-то ошибка – ведь ни я, ни ты, ни Лева Гумилев, третий наш со-процессник, никто из нас никогда не служил в армии. У нас была студенческая отсрочка. Я думаю, на суде это должно выясниться.
Ника горестно вздохнул.
– Выяснять не станут. Вероятно, дело передали на трибунал потому, что нам пришивали террор. Тебе его сватали?
– Да, приписали подготовку покушения на Жданова. Это как всем, арестованным в Ленинграде. Только быстро отстали, наверное, остатками ума поняли: ни в какие ворота не лезет.
– Меня тоже обвинили по террору, и я не помню, осталось ли это в протоколе. Все плохо.
Я положил руку на Никино плечо.
– Брось. Как-то все будет, перемелется. Если засудят, подадим кассацию… Не может быть, чтобы карали невиновных. Все-таки, следствие – это одно, а суд – совсем другое, тут и адвокат полагается.
Ника хотел возразить, но тут шумно приоткрылась дверь и сразу столь же шумно захлопнулась. Это впустили к нам Леву Гумилева.
– Ну, вот, все в сборе – сказал он, подходя. – Здорово, братцы.
Завязался немолчный разговор. Так давно мы расстались, так долго не виделись! Вспоминали университет, своих учителей, друзей. Дивились внешнему виду друг друга: у Левы и Ники за месяцы неволи отросли усы и окладистые бороды: у меня растительности было меньше, но сильно исхудало лицо, глубоко запали глаза.
– Вот так, братцы, – раздумчиво проговорил вдруг Лева и вздохнул.
– Сидим и ждем, когда нас начнут судить по ложным протоколам.
– Тебе хорошо, – грустно пошутил я. – Ты как расписывался? Достаточно к первой букве имени приставить первый слог фамилии и все будет в порядке: «Лгу».
– Я так и делал! – вскричал Лева и засмеялся. Даже удрученный Ника улыбнулся злой игре букв. Постепенно речь зашла о филологии, потом все мы углубились в историю Востока. Пошли споры, до которых Лева был большой охотник. Вечно – и когда мы учились в университете, и сейчас – он доказывал что-то свое, но и у меня было собственное мнение, и Ника уже думал по-своему. Так, воюя доводами, приводя одно изощренное возражение за другим, каждый из нас позабыл, где мы находимся, и выпала из головы мысль о трибунале. Тюремная ночь с 26 на 27 сентября 1938 года подходила к концу: обессиленные спорами, мы прикорнули друг возле друга.
Утром нас подняли, заперли в грузовик, повезли, высадили. Снова слепой асфальт казенного двора, снова лестница, коридор – и узкий застенок, словно в первый день заключения, тогда, 11 февраля. Как давно это было! Но сейчас я вижу стены, исцарапанные надписями. Мы трое вглядываемся в знаки человеческой скорби, в памятники отчаяния и мужества; читали с Никой древние семитские рукописи, теперь читаем новейшие русские. «Здесь седел…» Кто-то, не умудренный большой грамотностью, хотел начертать «сидел», но какая красноречивая ошибка! Здесь в течение нескольких мгновений седеют, отсюда часто не выходят – выносят.
«Смотрите! – возбужденно шепчет Лева – Они уже осуждены!» Эта надпись о судьбе шести знакомых ему студентов: фамилия – срок, фамилия – срок. Двум дали по шесть лет «исправительно-трудового» лагеря, двум – по восемь, двум – по десять. Рядом другой рукой надпись по-немецки: «несмотря ни на что!» А дальше по-итальянски – стих Данте, легший на врата ада.
Нас выпустили и повели наверх. Впереди – конвоир, за ним Лева, за Левой конвоир, за ним я, за мной конвоир, за ним Ника, а за ним все шествие замкнули два конвоира. Пятеро вооруженных людей против трех безоружных. Когда недомыслие хочет представить себя сильным, оно невольно обнажает свою слабость, заключенную в трусости.
Ввели в небольшой зал, провели мимо построенных шеренгами стульев, усадили в первый ряд. Перед нами был длинный стол, за которым восседали судьи; конвоиры встали позади обвиняемых. Из окна за судейским столом открывался вид на площадь Урицкого – Дворцовую с ее вечным столпом и ангелом. Вот где поместился военный трибунал, в самом сердце великого города.
Председательствовавший Бушмаков, члены суда Матусов и Чуйченко, секретарь Коган были в военной форме; по замыслу подготовителей процесса это должно было производить устрашающее действие на подсудимых. Никакого адвоката, одни прокуроры. С конвоирами, готовыми кинуться и растерзать по первому знаку, – девять человек против трех беззащитных.
Первым допрашивали Гумилева.
– Признаете себя виновным?
– Нет.
– Как же так, – сказал Бушмаков, лениво перелистывая лежавшее перед ним дело – вы же подписали.
– Меня заставили следователи: Бархударян и тот, другой, в протоколе он указан. Я подвергся воздействию, были применены незаконные методы…
– Что вы такое говорите! – прервал Бушмаков. – У нас все делается по закону. Пытаясь уйти от ответственности, вы делаете себе хуже. Тут же ясно написано: я, Гумилев, состоял… проводил систематическую, ставил своей целью… Теперь запирательство бесполезно. Садитесь.
Таким же образом, повторяя наскучившие обвинения, председатель говорил с Ереховичем и со мной. Члены суда безмолвствовали, никто из них не попытался обратить внимание на отсутствие независимых доказательств, на грубую работу обвинителей. Глядя на скучающие лица военных судей, можно было сразу понять: присутствуя при очередной – сотой, тысячной или десятитысячной – расправе, зная, что обвинительный приговор предрешен, они хотели, чтобы все это скорее кончилось и можно было вернуться к житейским удовольствиям. Поэтому, важно удалившись по окончании судебного следствия в совещательную комнату, они там, наверное, просто пили чай и переговаривались о всяких разностях.
Мы же на это время были уведены в знакомый застенок. Потом охрана вновь привела нас в зал, и мы услышали, что именем… военный трибунал, рассмотрев… приговорил Гумилева к десяти годам заключения в исправительно-трудовых лагерях с поражением в правах на четыре года; Ерехович и я получили по восемь лет лагерей с поражением на три года. Всем троим была определена конфискация имущества, скудных студенческих пожитков.



