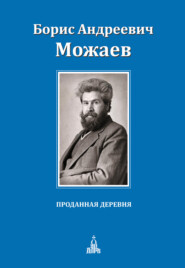
Полная версия:
Проданная деревня (сборник)
Приходит Леванид в сельсовет, а там сидит подполковник:
– Вы Булкин Леонид Афанасиевич?
– Я самый. В чем дело?
– У меня, – говорит, – награды ваши. Двадцать три года разыскивали вас насчет вручения орденов. И вот наконец вы нашлись.
– Да я сроду не скрывался нигде, – отвечает Леванид.
– Вас никто не подозревает. Только бумаги ваши долго ходили. Значит, вы награждаетесь орденом Отечественной войны первой степени и орденом Красной Звезды.
– Спасибо, – говорит Леванид.
– Надо отвечать – служу Советскому Союзу!
– Да я уж позабыл. Служба моя теперь вокруг бабы да коровы. Давайте ордена!
– Оба нельзя. Тут одна неувязка. Ваше отчество Афанасиевич?
– Так точно.
– Вот видите. А здесь в одном документе записано Афанасиевич, а в другом Аффониевич.
– Так, может быть, это не я?
– По всему видать, вы. И год рождения ваш, и место рождения… только отчество Аффониевич? Этот орден Красной Звезды мы отправим обратно в Москву и сопроводиловку пошлем, где укажем, что вы не Аффониевич, а Афанасиевич. Там исправят и пришлют обратно. Вы согласны?
– Согласен. Мне можно идти?
– А второй орден! Этот мы вам вручим.
– Ну, давайте! – Леванид протянул руку.
– Так просто из рук в руки орден нельзя передавать. Надо представителей власти собрать. Торжественную обстановку сделать. Тогда и вручим вам этот орден.
– Да мне некогда ждать торжественной обстановки, – говорит Леванид. – Мне корову надо грузить.
– Корову можно отложить.
– Никак нельзя. Два месяца ждал.
– Ну как же нам быть? И мне надо в район ехать… Тогда вот что! – придумал подполковник. – Накройте стол красной скатертью, над этим столом я вручу вам и орден и руку пожму.
Наш председатель сельсовета Топырин достал из сундука красный материал с лозунгом, расстелил обратной стороной на столе, и подполковник вручил Леваниду орден.
Пришел я к нему на другой день – орден на столе.
– Ты чего это достал его? – спрашиваю. – Любуешься?
– Испытание проводил. Я все думал, что орден первой степени из золота сделан. Но вот рассмотрел его, покусал… Простой металл.
И он стал рассказывать мне, как сдавали корову и сколько она скинула в живом весе за последние два месяца:
– Была корова, как печь. А пока сдали ее, мослы выщелкнулись.
Про мою личную жизньТрудовая автобиография советского человека иной раз осложняется личной жизнью. То есть ежели вы, к примеру, выпимши поскандалили, стекла повыбили или кому-нибудь по шее заехали, а то, может, на стороне зазнобу завели и в свободное от работы время уклоняетесь от исполнения семейных обязанностей – все это и называется личной жизнью. Личная жизнь разбирается на партийном бюро, а ежели вы беспартийный, то на правлении колхоза или на товарищеском суде. Из чего следует, что личная жизнь есть язва на теле общества, то есть пережиток.
Заболел я ей, можно сказать, случайно. И ведь горя не было б, кабы я свою Маруську не любил. Она хотя и скандальная у меня особа, но хозяйство держит исправно, напоит тебя и накормит вовремя и спать уложит. Так что Маруську я не променяю ни на какую личную жизнь. А повело меня на уклонение от семейных обязанностей, должно быть, с устатку. Весна выдалась трудной…
Сижу это я в кабинете один, в сумерках. И вот тебе заявляется пасечница с дальней корабишенской пасеки и подает мне акт. Читаю: «Акт составлен ниже в следующем, в том, что вчера при свете приехали ко мне на пасеку начальник охраны Хамов Леонтий с братом Михаилом и стали якобы проверять меня на сомнительные ульи. Леонтий ходил по ставу и хлестал по ульям кнутом насчет выявления сомнительного улья. Якобы один нашел. Открыли его, мед взяли и бросили раскрытым. А другие пчелы набросились и уничтожили весь рой…»
Читаю и смотрю я не столько на бумагу, сколько на саму пасечницу, – в хромовых сапожках она, икры голенищами обтянуты, как резиночками – не ноги, а прямо калачи ситные. Фуфайка зеленая распахнута, и кофточка розовая на груди с просветом, аж лямки лифчика видны. Волосы в пучке на затылке, что твоя копна высится, брови черные с росчерком, как крылья от серпочка… Брат родной! У меня аж во рту пересохло и в ушах зажухало: «Жух, жух, жух!» И вспомнил я, как в армии на турнике солнце крутил… Плечи расправил, смотрю на нее, как одурелый. А она стоит, избочась, да прутиком о голяшки сапог хлысть, хлысть. И повело меня на уклонение…
– Катерина Ивановна, – говорю, – какое же у вас мнение о председателе, то есть обо мне? Разве можно вам стоять в моем присутствии? Это было бы неуважение с моей стороны. Садитесь на диван.
А она мне якобы сквозь смех:
– А может быть, мне скучно одной-то на диване сидеть?
– Это вы, – говорю, – напрасно сумлеваетесь. Со мной вам скучно не будет.
– Ну, шире – дале…
Муж у нее в бригадирах ходил – квелый мужичонка: ноги сухие и длинные, как палки в штанах, нос картошкой, глазки маленькие и кепка по самые уши, как на чучеле огородном. А бегал – на лошади не догонишь. Его и прозвали Дергуном…
Первым делом я отправил его на лесозаготовки – с глаз подальше. А сам пересел в седло, чтобы без свидетелей…
Бывалочи вечерком подтяну подпруги – и гайда! Седельце у меня было в серебряном окладе, лука низкая – сотню верст скачи – не притомишься. Только на опушке леса покажусь – она уж тут как тут, ждет меня моя касаточка. Я ее одной рукой с земли приподнимал и прямо в седло, к себе на колени. И везу куда хочу.
В омшанике мы сеновал устроили – постель под самой крышей на сене духовитом, да под пологом. Разденемся, бывало, донага, нырнем под полог, как в твою речную волну, и всю ночь челюпкаемся. Я, говорит, за то тебя люблю, Петя, что после ночки с тобой я день-деньской пластом валяюсь. Да и я ее любил, признаться, – в передовые пчеловоды вывел, часами ручными наградил и почетной грамотой.
Все бы оно хорошо… Да беды не предвидишь, от нее не уйдешь, как от районного начальства. Вот звонят мне из района:
– Никуда не уезжай – к вам уполномоченный.
Значит, готовь лагун меду. Послал я за медовухой к Дуньке Сивой, сижу в правлении, жду.
Приехал, оказывается, корреспондент с фотоаппаратом – передовиков фотографировать. Тут я думаю: порадую-ка свою Катерину Ивановну. Сфотографирует он ее и в районную газету поместит. Парню этому я верил – не раз выпивали. Опростали мы с ним вдвоем лагун медовухи и поехали к Катюше на пасеку.
У нее было много платьев – в сундуке лежали, в омшанике. Принарядится, соображаю я, в самый раз будет.
Так и есть. Обрадовалась она… Медовухи нам поставила, а сама то в одно платье оденется, то в другое. Выйдет перед нами – прямо краля бубен! То шеей лебедя выгнет, то ручкой… Ну, меня и разожгло:
– Давай, Катюша, изобразим картину у шатра!
У нас в омшанике ковер висел, масляными красками писанный: в красный шатер несет персидскую царевну Стенька Разин. На ней ночная рубашка с кружевами, так что грудь голая видна, а на Стеньке алые шаровары и пояс голубой. Ковер этот я ей преподнес, – на мед выменял, в Пугасове на базаре.
Она тоже запьянела… Вынесли мы полог из омшаника, растянули его на лугу, полу одну приподняли, так чтобы постель там была видна. Разделась она до рубашки – груди, как у той царевны персидской, в стороны торчат. И я все с себя снял. В одних подштанниках остался. А шарфом газовым пупок повязал. Чем не Стенька Разин?
Поднял я ее на руки, она меня за шею обняла, и говорим:
– Таперика фотографируй!
Он нас по-всякому сфотографировал: и перед шатром, и в шатре, якобы она лежит на подушках и руки ко мне протягивает, а я вроде бы наклоняюсь над ней. И как она платье снимала, и как мы на постели лежим… Ну, так и далее. Хорошо время провели, весело.
Тут как раз прислали нам новую автомашину. Повез я молоко в район и заехал в редакцию к тому другу-корреспонденту. Он мне дал целую пачку этих фотографий под названием «Стенька Разин и персидская царевна». Я сунул их в карман, и на радостях мы во всех ларьках заправлялись. Домой приехал, еще стакан тяпнул и уснул.
А у меня мужики собрались, новую машину обмывали. Яков Иванович, бухгалтер, хватился – папиросы кончились. Он, чудак, и полез ко мне в карман за куревом. Я дрых на кровати. Ну и вытащил он всю эту пачку фотографий. Маруська увидела – и на него:
– Ты куда полез? Чего вытащил? А ну-ка, дай сюда!
Как увидела она это изображение, и тут же при всех устроила мне представление из татарского побоища. Мои мужики от страха поразбежались…
Утром проснулся я – что такое? Не могу шею повернуть, и шабаш! Правый глаз затек, и губа выше носа вздулась…
– Вставай, Степан Разин, атаман донской!
Маруська сидит за столом в новом платье, платочек на плечи накинула газовый. Дурная примета – ежели она с утра принарядилась, значит, быть скандалу. Силюсь вспомнить: что я вчера натворил по пьянке? Или стекла побил, или на столб наехали? Чую что-то неладное, но вида не подаю. Спрашиваю:
– Ты чего вырядилась? По какому такому празднику?
– Решила верующей стать, – говорит. – Вот к исповеданию приготовилась.
И голосок у нее такой вкрадчивый, и губы поджимает. А это уж бывает перед тем, как тарелки в ход пустить. Да что ж я такое натворил?
– Садись, Петя, садись. Может, и ты причаститься хочешь? Сажусь да поглядываю: чем ты меня только причащать будешь?
А она все тянет:
– Может, опохмелиться хочешь?
Стопку поднесла, выпил…
– Ты, случаем, не заезжал вчера к Дроздовым на машине?
– К каким Дроздовым?
– На пасеку, в Корабишино?
– С какой стати?
– Будто ты у них прихватил что-то.
Ну, думаю, начинается моя личная жизнь. Уж не потому ли пострадала моя физиономия? Но чтобы там ни было, а личную жизнь сперва-наперво надо отрицать. Я изобразил обиженный вид.
– Ты меня, – говорю, – за вора выдаешь. Я чужих вещей не беру.
– Да не вор, Петя, а разбойник… Стенька Разин!
– Мне твоя игра в казаки-разбойники вовсе не понятна.
– Неужели? Ну-ка вспомни, зачем туда ездил?
– Я там быть не бывал… Ну, может, до войны еще. По совести говоря, я и дорогу позабыл туда.
– Вот оно что! Значит, ты еще в довоенную пору фотографировался.
Тут она вынула из кармана мои фотокарточки, где я в подштанниках Стеньку Разина изображал, и спрашивает:
– Узнаешь?
– В первый раз вижу, – и даже физиономию отвернул, будто меня это вовсе не касается.
Тут я допустил грубую тактическую ошибку, – потерял противника из поля обзора. У нее под столом была заготовлена тяжелая глиняная миска. Вот этой миской она меня и накрыла с левого фланга, прямо по уху…
Очнулся я на полу. Лежу весь мокрый – водой меня окатила, холодной, прямо из колодца. Приподнял я голову – у меня под носом догорает вся эта знаменитая история про Стеньку Разина и персидскую царевну. Кучка пепла ото всех моих фотографий.
Но Катин муж, Дергун, поступил коварнее. Налил он лагун меду и заявился в райцентр к фотографу-корреспонденту. «Вот вам Петр Афанасиевич медку прислал. Очень ему ваши фотокарточки понравились. Он просил еще прислать, если можете». – «Да поищите вон в куче на столе». Дергун сам выбрал, какие поинтереснее. И отнес их в райком вместе с заявлением: «О том, как председатель сожительствует с моей женой, а меня сослал на лесозаготовки…»
И вызвал Семен Мотяков меня на бюро. А у меня еще не зажили на лице следы домашнего разногласия. Явился я, а Семен Мотяков говорит:
– Вот он, Стенька Разин без порток… Его и спрашивать нечего. Вся личная жизнь у него на физиономии отпечатана.
Начальство не жена. Здесь тактика огульного отрицания успеха не приносит. То есть тебя просто не слушают. Поэтому я все перевел на производственные отношения.
– Какая там личная жизнь! Это я с лучшим пчеловодом общался без задней мысли.
– Поговори у меня! Не то я из тебя вышибу и задние и передние мысли. Пригласите потерпевшую, – приказал Мотяков.
И вошла она… Платье розовое, туфли на каблучках, и даже этот самый радикуль в руке, наподобие сумки портмане, то есть большой кошелек с шишечками. Стоит и покачивает радикулем.
– Я вас, – говорит, – слушаю, Семен Иванович.
Мотяков даже крякнул от такого обхождения:
– У вас никаких притензиев нет к этому гражданину? – и указывает на меня.
– Какие могут быть претензии! – Катюша так и заулыбалась. – Мы с ним просто представления разыгрывали… Как на сцене.
– Это вы правильно, – сказал Мотяков вроде бы тоже с улыбкой. – А насчет производства зайдите ко мне в кабинет, после бюро.
– С большим даже удовольствием…
Мне дали строгача, а Катюшу перевели через неделю в райцентр, продавцом поставили. Дергуна же ее послали в Пугасово, экспедитором на базу. Встретил я его как-то потом в Пугасове, в столовой. Он пьян в дымину.
– Вот ты и донес на меня, – говорю. – Но что ты выгадал? То был на лесозаготовках за пятнадцать верст, а теперь тебя за сорок пять километров отправили.
– Не в том, – говорит, – беда, Петр Афанасиевич. Просто меня чужая личная жизнь заела.
Кто такие оппортунисты?Сидим мы как-то вечером на бревнах – я, Филипп Самоченков и Петя Долгий – все три председателя. Решили Самоченкову дом новый построить, всем колхозом. Ну, и пригласил он выпить. Отказываться неудобно. Выпили, разговорились.
– Когда человек стареет, мозги у него разжижаются, – сказал Филипп.
Петя Долгий засмеялся, а я спросил:
– Ты кого это имеешь в виду?
– Так, к слову пришлось. Старость моя, и больше ничего.
Я крепкий на слезу был человек. А вот когда постановление вышло – дом мне построить, не вытерпел. Потекло у меня из обоих глаз… Семена Мотякова вспомнил.
– Где он теперь? – спросил Петя Долгий.
– В Касимове, на речной пристани грузчиком работает, – ответил Филипп.
– Да он вроде бы кадрами заведовал?
– Сняли за пьянку, – сказал я. – Намедни в Касимов приехал. Сошел с пристани. Глядь – Мотяков! Лошадь его с повозкой завязла. Он орет на всю набережную и лупит ее чем ни попади. И вот ведь какой дьявол – все промеж ушей норовит ударить.
– Самая притчина, – сказал Филипп. – Он и раньше в точку метил. Сколько лет я при нем отработал! Семен Иванович, говорю, мне бы дом построить. А он: «Тебе казенный обеспечен на старости лет. Все равно проворуешься». Да разве ж я с целью обогащения работал? Я, бывалочи, только и смотрел за тем, как бы линию держать.
– А как ты ее понимаешь, эту линию? – спросил Петя Долгий.
– Да когда мне было понимать ее? – Филипп даже удивился. – Жизнь не на понятии строилась. И занят был я по горло. Ты вот с утра выехал в район, а в обед глядишь – дома. После обеда спрашиваешь: «Где Петр Ермолаевич?» Говорят – в район уехал. А к вечеру опять по колхозу бегаешь. Я ж, бывало, поеду с утра, отзаседаю там, возвращаюсь на другой день, а тут уж телефонограмма – обратно вызывают. «Сашка, перепрягай лошадей! Поехали…» Один вопрос заострили, второй ставят. И ты, бывало, идешь от вопроса к вопросу, как по столбовой дороге. Тут и понимать нечего. Только линию держи. Когда меня поставили председателем, я испугался: «Что я буду делать? Я же малограмотный!» – «Не бойся, за тебя все решат». И верно, сообща решалось. Ты как ноне премиальные выдаешь? Кто перевыполнит норму на косьбе, к примеру, или на пахоте – получай три рубля. Кто на согребании – два рубля. «Сашка, расплатись!» Сашка вынет ведомость и тут же, опираясь на «Волгу», запишет и деньги выдаст. А раньше? Хочешь премию выдать – проведи сначала через правление, потом на исполком вынеси, потом в райкоме утверди. А потом уж акт вручения – соберут весь колхоз, представитель приедет и вручит почетную грамоту.
Петя Долгий засмеялся, а я сказал:
– Ты, Филипп, путаешь практику с теорией.
– Да нет. Это я к тому говорю, что жизнь у нас ноне пошла вроде бы самотеком.
– Это верно, – сказал я. – Раньше постанов был строже. Бывало, Семен Мотяков соберет нас всех и задаст вопрос: «Ну, что культивируется на сегодняшний периуд?» Допустим, наступление на клевера. Или глубокая весновспашка… Значит, кто пашет мельче, чем на двадцать два сантиметра, тот – оппортунист.
Петя Долгий только посмеивается да головой крутит.
– Тебе смешно, – сказал Филипп, – а я за этот оппортунизм чуть билетом не поплатился. И все через политзанятия. Бывало, Покров день подойдет, и политзанятия открываются. Что за манера? Тут перепьются все, по улице ныряют, в грязи челюпкаются, а они – политзанятия. Да мало того. Ему еще вопросы задавай. А вопросов не будет, значит, не усвоил.
– Меня за эти вопросы тоже таскали, – ввернул я. – Провели мы вот так же первое политзанятие, не то на Покров, не то на Миколу. «Вопросы имеются?» Встал Парамон и говорит: «Мне надо бы знать, крепостное право отменено?» – «Понятно… Еще вопросы?» Лектор посмотрел на нас мрачно. Все молчат. «Крепостное право было отменено в одна тысяча восемьсот шестьдесят первом году. Понятно?» – «Понятно…» Уехал он. А на другой день уполномоченный заявляется: «Товарищ Булкин, что у вас тут за крепостное право открылось?» – «Извиняюсь, говорю, у нас высшая фаза, то есть в коммунизим идем полным ходом». – «А провокационные вопросы почему задаете?» – «Чистое недоразумение, говорю, потому как мы каждый год политзанятия начинали изучать с крепостного права. А инструктор сам перепутал, с другого периуда начал. Потому и спросили…» Ну, лагушок выпили и мирно разъехались.
– Ты дешево отделался, – сказал Филипп. – У меня оборот другой вышел. Как раз накануне Покрова дня приехал инструктор из районного комитета. «Где парторг?» – «Теще за дровами уехал». – «Тогда собирай ты людей. Мы, говорит, вкратце пройдем главу». Вкратце так вкратце. Послал я техничку школьную, сам пошел по избам. Пособирали всех, кого нашли, – и коммунистов и беспартийных. Думаю – сойдет. Ладно. Расселись, а ночь уж на дворе. Он – в свою тетрадь, а мужики храпака задают. Уж он читал нам читал – часа два. Потом и говорит: «Вопросы имеются?» Ну какие вопросы на Покров день? Кто очнулся, – сидит, в пол смотрит, кто зевает. Думаю, надо задать вопрос, а то еще скажет – не на уровне. Поднял я руку и спрашиваю: «А кто такие оппортунисты?» Он с минуту посмотрел на меня строго, вроде бы впервые видит, и сказал якобы про себя: «Хорошо». И записал что-то в тетрадь. Потом спрашивает: «Еще будут вопросы?» Ну кто ж ему задаст еще? Ежели он меня записал в тетрадь, то и другого запишет. А потом вызовут – отчитывайся. Все молчат. «Ладно, говорит, два часа читал я вам про оппортунистов, а вы еще вопросы задавать!.. Хорошо». Захлопнул тетрадь и уехал. Вот тебе через день вызывают меня в райком. Я спрашиваю бухгалтера Якова Ивановича: «Может, какие данные требовали?» – «Нет, говорит, данных никаких. Приказ явиться лично». Ну, думаю, беда. Без данных вызывают, да еще лично, значит, не к добру.
Везет меня Сашка, а я от озноба зуб на зуб не попадаю. Выпил в Богоявленском, думал, согреюсь. Нет! Трясет, как в лихорадке. Ну за что меня вызывают? По дороге все передумал. И верите – раз пять преступником себя почуял. Может, думаю, за то, что хлеб в скирдах погнил? А может, потому, что льны посеял на нове в низине и они вымокли? Ну, черт его знает…
Приехали в Тиханово поздно. Известное дело – постояльцы. Мясо привезли, меду. Хозяин поллитру поставил. Ты пьешь, и хмель тебя не берет. И сон не в сон.
На другой день утречком подхожу к райкому – пустынно. Никто больше не идет. Не то что председателей – собаки не видать. Ну, беда! Зашел я в приемную. Вот тебе – милиционер Тузиков передо мной… Стоит, как на часах. У меня так все и оборвалось. Дурная примета. Милиционера заранее вызвали. Я потоптался и вроде бы не то спрашиваю, не то извиняюсь:
– Меня вызывали?
– Ежели вызывали, заходи.
И не смотрит на меня. Стучу в дверь – никто не отвечает. Открываю – а там еще одна. Эх, думаю, совсем спятил. Позабыл, что у них перед кабинетом промежуток вроде предбанника. Это, наверно, для того устроено, чтобы дух перевести.
Вхожу в кабинет:
– Здравия желаем!
– Садитесь.
Сел. Смотрю – народа никого, одни они. Листок бумаги перед каждым. Только карандашами шуршат. А сам Мотяков без сапогов, в одних носках ходит и плюет. Как это называется? Ну, что я в школу намедни привозил для плевания… Вроде табуреток?
– Урны, – подсказал Петя Долгий.
– Вот-вот. У него в кабинете их две стояло – одна в том углу, другая в этом. Он ходит, значит, в носках от одной к другой и плюет.
Беда, думаю. Кабы он хотел что сказать, уже сказал бы. А тут замышляет. И такое, что и высказать не хочет. Ходил он ходил, и вдруг ни с того ни с сего:
– Ты почему провокационные вопросы задаешь?
Я так и обомлел:
– Кому, Семен Иванович, задавал я провокацию?
– Ты не прикидывайся дураком! Кто спрашивал нашего инструктора про оппортунистов?
– Дак ведь это я для поддержания порядка.
Тут все как загогочут. А Мотяков подошел ко мне и рявкнул:
– Комедию ломать! Я отобью у тебя охоту дурачиться враз и навсегда. Ты что, не знаешь, кто такие оппортунисты?
Я аж привскочил:
– Знаю, товарищи члены бюро районного комитета, знаю.
Все опять засмеялись, а меня обида взяла:
– Товарищи, не считайте меня за дурака.
– Ты давай сам не придуривайся. Ну, говори, зачем задавал вопрос? – Мотяков стоит передо мной и на носках покачивается.
А второй секретарь Семкин, такой кучерявенький и очень уж шустрый, говорит:
– Семен Иванович, ей-богу, он это без цели. Позвольте, я ему вопрос задам?
– Задавай.
– Скажите, Филипп Самоченков, кто такие оппортунисты?
И все снова захохотали.
– Дак все мы с вами и есть оппортунисты, – отвечаю.
– Как? И я оппортунист? – Мотяков аж голову вскинул кверху, а все остальные притихли.
– Нет, вы, Семен Иванович, не оппортунист. А мы все оппортунисты.
– Почему?
– Потому как планы мы не выполняем.
И все снова захохотали.
– Дурак, – говорит Мотяков. – Оппортунизм – это течение. Понял, враз и навсегда?
Ну, думаю, пропал. Ежели под течение определили меня – конец. Я знал, что в партии какое-то течение было… Стою я, будто в рот воды набрал. А они смеются. Даже Мотяков прыснул два раза.
– Ладно, – говорит, – потешил. Ты почему хлеб не сдаешь?
– Дак ничего нет, Семен Иванович. Окромя проса.
– Сколько проса у тебя?
– Да пудов шестнадцать осталось. Товарищи члены районного бюро, не сумлевайтесь! Завтра же всю сдам…
Все опять засмеялись. И Мотяков не удержался: «Га, га, га! Ну, Самоченков, запомнишь ты оппортунизм. А просо чтоб завтра же было на ссыпном пункте».
Так я и откупился от оппортунизма просом.
Ну, посмеялись мы. А Петя Долгий и спрашивает:
– В самом деле, кто же такие оппортунисты?
– А кто их знает, – сказал Филипп. – Может быть, это тунеядцы, которых выселяют теперь в отдаленные места.
– Нет, – сказал я. – Оппортунисты это люди, которые не выдерживают руководящей линии. И поэтому за ними нужно следить.
– Ай да Булкин! – сказал Петя Долгий. – Рано тебя на пенсию отправили. Ты еще пригодился бы кое-где.
– А что ж? Все может быть… И пригожусь еще…
О разбойниках, о хулиганстве и о том, как все это изменилось к лучшемуУ Матвея Кадушкина, садовника из деревни Малые Бочаги, на стене висит карта европейской части Советского Союза, – карта перекрещена черным карандашом; и как раз на пересечении линий жирный кружочек выведен. Это и есть Малые Бочаги. Пуп Земли. Тридцать верст до Брёхова и пять километров до Тиханова. Значит, наш район есть центральный, выставленный как бы напоказ. Поэтому раньше у нас было много бродяг, богомольцев, всяких калек, перехожих и воров. Рассказывают, якобы царь с царицей пеш прошли по нашему району (раньше – уезду), в Саров богу молиться ходили. Первых мы перевели начисто, уничтожили то есть, а воровство еще осталось, как пережиток прошлого. И более того, оно усилилось хулиганством. Тут есть объяснение причины: наш народ раньше имел притеснение от помещиков и заезжей буржуазии, купцов то есть. Поэтому много было разбойников.
Возле деревни Желудево у нас городок есть – старинная крепость с насыпными валами. Все говорят, что там разбойник Кудеяр жил со своей шайкой. А на реке Прокоше даже целые разбойные села были, – это Слезнёво и Богомолово. Между ними река сильно сужается, перекаты идут. Вот на этих перекатах и работали разбойнички – купцов встречали. Те, бывало, подходят к верхнему селу Слезнёву – слезы льют. Проскользнут благополучно через перекаты, выйдут на простор к Богомолову – богу молятся. Тут уж не опасно – на лодке не догонишь.
Петя Долгий якобы в книжке читал: пуще всех разбойничали в нашем крае бабы. Мы даже поспорили с ним, потому как таперика, по моим наблюдениям, бабы, то есть женщины по-современному, работают, а мужики пьянствуют и хулиганят. Но Петя Долгий показал мне книгу тамбовского буржуазного историка Дубасова. И я прочел, будто и вправду бабы раньше разбойничали.

