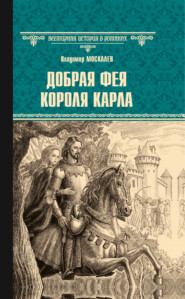
Полная версия:
Добрая фея короля Карла
Я была в отчаянии. Так дальше продолжаться не могло. И вот однажды… В тот день я почувствовала, что надвигается беда. Откуда – этого я не могла понять, но сильно билось сердце, звало меня куда-то, даже ноги будто бы несли прочь из дома. Я посмотрела на лес; вот он, мой друг, который не обманет, не предаст, а всегда придет на помощь. И чувствую всей душой: туда мне надо, к другу, там я должна жить! Не здесь – там! Лес добрый, дарует жизнь, а тут ждет смерть. Там меня любят – деревья, цветы… а здесь ненавидят люди. Так зачем мне жить среди них? Надо – среди друзей. И снова почувствовала я: пора уходить. Причем немедленно! Беда грозит мне, коли не сделаю так, как подсказывает голос сердца!.. И тут, гляжу, идет ко мне та женщина, ребенка которой я спасла. «Соседка, беги из деревни! – стала она умолять. – Донос на тебя подал кюре. Слуги Церкви идут сюда, под стражу хотят взять. «Ведьма! Колдунья! – кричат люди. – Смерть ей! На костер ведьму!» Скоро они будут здесь. Беги же, и да будет с тобой Господь». И ушла, опасливо озираясь, боясь, что увидят ее.
Я быстро собрала кое-какие пожитки и только вышла было из дому, как поняла, что уже поздно. Вокруг дома – солдаты, а у крыльца стоят монахи со священником. Бросились на меня, заломили руки и хотели уже связать, но тут… и вправду, чувствовала я… Вырвался вдруг со стороны поля отряд всадников с мечами в руках и с криками ринулся на деревню – стали обирать людей, убивать, жечь дома. Я догадалась: наемники. Бич войны! И, судя по крикам, – англичане! Увидели они свиту церковную – и к ним, оружие забрать да поизмываться вволю: скучно им без дела, привыкли грабить, рубить. Началась свалка. Меня бросили, стали разбегаться кто куда, а всадники догоняли и безжалостно убивали всех без разбору. Священнику первому голову снесли, сорвали с него распятие, стали гоняться за другими. Вижу, одна я осталась, не замечают меня за стогом сена. Вот он, миг! И другого уже не будет. Не поздно еще, мгновения решают – жить или умереть. И садами, огородами бросилась я к лесу. Только там спасение. Он густой и такой родной! Разве может он выдать, не укрыть меня от банды убийц? И уже добежала, почти скрылась меж деревьев, как, гляжу – рядом кто-то со мной, тоже бежит. Узнала его: виллан из нашей деревни, не злобный, не одураченный попами; всегда, бывало, молчал, когда люди посылали проклятия на мою голову. Переглянулись мы с ним да и побежали дальше вдвоем, не разбирая дороги. Долго плутали, все опасались, нет ли погони – за мной, конечно: до женщин рутьеры весьма охочи. Но обошлось, никто не гнался; да и кому взбредет в голову лезть в такую глушь, откуда и не выбраться?
Выдохлись мы оба, остановились и думаем, что делать дальше. А стояли мы – не поверишь – на том самом месте, где сидим сейчас мы с тобой. Вот тогда и подумали: куда же еще и зачем? Смерть повсюду – не от голода, так от солдат; не от чумы, так от попов. И решили остаться здесь. На другой день пошли в деревню, чтобы взять топоры, косы, еще что-нибудь из утвари, годной в хозяйстве. Нашли все это и прихватили с собой. Жавель, помню, все удивлялся: как это я нахожу дорогу?
– А деревня?.. Подумать страшно.
– Ее как и не было: почти все дома сожжены да мертвые тела кругом. Кому посчастливилось – спасся. Я видела, как разбегались люди – по полям, по огородам. Их не преследовали. Зачем? Добычи никакой. Вернулись мы с Жавелем, мало-помалу очистили поляну, поставили дом, вот этот самый, да и стали жить… Женщину ту мне очень жалко было. Нашла ее… зарубленную. И почему не взяли с собой?.. Должно быть, бросилась на них с косой… да и вправду, лежала рядом коса-то… Поискала я глазами, а сына ее нет нигде. Что с ним сталось – никому не ведомо; может, забрали его рутьеры да и продали в рабство или в семью какую-либо. Такое бывает… А Жавеля – и двух лет не прошло – загрызли волки. Ушел на ночь глядя проверять силки… Уж как я не пускала его, будто чувствовала… Нашла далеко отсюда, на лугу, да и то лишь по шапке. Кости вокруг разгрызенные, а по голове так и не узнать; да силки на зайцев неподалеку…
Резаная Шея сомкнула губы, устав. Много сказано, и много пережито… Эльза сходила в дом, принесла воды. Напившись, какое-то время обе молчали, думая каждая о своем, не шевелясь, слушая, как шумит лес, поют птицы. Где-то далеко протяжно загудел колокол; умолк, потом снова…
Эльза не выдержала:
– А другой муж? Тот, что палач? Как с ним вышло?
Старуха протяжно вздохнула; поникли плечи. Зачем-то посмотрела в сторону тропы. Покачав головой, покивала мелко – и вновь тяжелый вздох:
– Бередишь ты мне душу и сердце, милая. Ну да быть тому, поведаю уж и об этом. – Внезапно она поглядела на небо. – Не успею, пожалуй, до дождя; поэтому коротко, без подробностей. Если потом как-нибудь… да хоть вечером. Напомнишь мне.
Эльза замерла, сгорая от любопытства: надо же – палач!..
– Случилось это в городе, я пошла туда за солью, сахаром… чем-то еще, не помню сейчас. Заячьи шкурки понесла на обмен. Смотрю, люди торопятся куда-то, текут по мосту рекой. Оказалось – на площадь Песчаного Берега[4], там сегодня казнь. Решила посмотреть. Спрашиваю женщину, что рядом, – кого, мол, казнят и за что? Она отвечает… ох, упаси господь, дочка, и тебе когда-либо услышать то, что она сказала в ответ. Сердце у меня едва не встало от ужаса: отец будет вешать своего сына… Каково?! Потом уж, на месте, узнала я… Отец – парижский палач мэтр Карон, а сын его приговорен к смерти…
И вот подъехала, колесами скрипя, позорная телега осужденных на казнь или тех, кто подвергался истязаниям и бичеванию. А в этой телеге молодой человек – красив, как бог Дионис, в белой рубашке, со светлыми кудрями, гордым взглядом. Его обвинили в убийстве сына богатого горожанина, имевшего полезные знакомства с именитыми людьми при дворе. Втроем они напали и жестоко избили этого сына, оказавшегося, как выяснилось позже, порядочным негодяем. Ведь что удумал, ирод! Была у сына палача… господи, как же его… забыла имя… вспомнила – Арно! Так вот, у него была невеста, а этот богатей с дружками ворвался к ней в дом и надругался над бедной девушкой. А потом и дружки его. Рот заткнули ей, чтобы не кричала. Сделав свое дело, ушли было, да она стала вопить, звать на помощь. Тогда они вернулись и продолжили, да так, что она еле жива осталась. Арно, узнав об этом, встретил этого богача и задал ему такую трепку, что отбил все внутри, а тот возьми да умри от побоев. Арно схватили, он стал объяснять, как было дело, но его не слушали; мало того, удавили его невесту, потом пытали самого – имена друзей хотели выведать – и приговорили к смерти. Это уж позднее узнала я обо всем этом, а нынче – что ж, казнят, стало быть, поделом. Да и все так думали. Но вот смотрю – отец; стоит у виселицы как истукан, весь в черном, красный капюшон у него на голове, а руки сложены крестом на груди. Стоит, молчит, недвижимый, как утес, а над головой у него петля висит… для сына… И вот он поднялся на эшафот, этот юноша, и смело посмотрел отцу в глаза…
На какое-то время Урсула замолчала, недвижно устремив взор в землю. Сердцем и глазами она видела эту сцену, помнила во всех деталях, словно произошло это не десять с лишним лет назад, а только вчера.
– Чувствовала я – что-то здесь не так, – продолжала она, – не мог этот красивый белокурый юноша с приятным лицом ни с того ни с сего стать убийцей. И не слышала я тогда, конечно, короткого разговора сына с отцом, видела только, как стоят они оба и что-то говорят друг другу. Вот что говорили они, как поведал мне о том вскоре сам палач.
«Прости, отец, – молвил Арно, – как прощаю я тебе мою смерть».
«Я люблю тебя больше жизни, – глухо обронил отец. – Зачем она мне теперь, после этого?.. А ведь я надеялся… мне обещали…»
«Не казни себя».
«А теперь я вынужден…»
«Это твоя работа».
«Я проклинаю ее, а потому не стану убийцей своего дитя!»
«Тебя уберут, поставят другого».
«Должно быть… но не я… своими руками…»
«Я умру с улыбкой, ибо смерть придет ко мне от человека, которого я любил больше Бога. Но я не виновен, отец. Знай, это была месть. А теперь делай свое дело, и пусть Бог воздаст неправому по заслугам его».
С этими словами юноша встал на табурет, а отец накинул ему на шею петлю. Еще мгновение и… Но тут закричали из толпы:
«Он невиновен! Правосудия! Лучше бы англичан вешали!»
«Невиновен! Правосудия!» – заревел, заволновался народ.
Кто-то из церковников подал знак палачу: кончай, мол. А он вдруг выхватил из-за пазухи нож и…
– …и убил сына?.. – вся трепеща, впилась глазами Эльза в старуху.
– Не таким уж он оказался медным лбом, девочка. Он перерезал веревку и быстро схватил два меча.
– Какие два меча?
– Они лежали вблизи, никто и не обратил на них внимания. Один он передал сыну, другой взял себе и крикнул:
«За мной, мой мальчик!»
Они прыгнули с эшафота прямо на латников и нырнули в толпу. Солдаты поначалу растерялись, потом кинулись за ними, но люди стояли плотной стеной, не пуская солдат и требуя справедливого суда. Алебарды, однако же, сделали свое дело, толпа нехотя расползлась, и за беглецами устремилась погоня. И тут люди закричали: «Убежище! Кольцо! Церковь Сен-Мерри!» Я, конечно, слышала об этом, но не видела такого кольца. Теперь поняла: достигнув Сен-Мерри и схватившись за кольцо, отец и сын станут под защиту церкви, их не посмеют тронуть. Но надолго ли? В толпе я услышала:
«Теперь они спасены. Жаль, у церкви Святого Духа нет кольца, а ведь это совсем рядом. А до Сен-Мерри им еще бежать…»
«Но куда потом? – спрашивали другие. – Домой к палачу, к Рыбному рынку? Это далеко. Пока дойдут, схватят и повесят обоих».
«Нельзя им оставаться в Париже. Надо ждать ночи, – говорили третьи. – Только бы не увидела ночная стража; а потом – вон из города, или смерть! Бедняга палач…»
«А молодец он-таки! Да и то сказать – собственного сына! Кумушки толкуют, он невиновен вовсе, но деньги делают всё. Королей стаскивали с тронов за деньги».
«Кого же теперь палачом-то?..»
Все это я слышала и решила, что должна помочь этим двоим. Гляжу, расходятся люди по своим делам. Значит, никто этого не сделает, кроме меня. Я почти бегом бросилась вслед за стражниками и увидела их у церкви; они стояли и беспомощно смотрели на отца и сына; оба держались за спасительное кольцо, вделанное в стену. Постояв, солдаты ушли. А беглецы остались один на один с этим кольцом. Похоже, они не знали, что делать дальше. Зато с улыбками глядели друг на друга. Уверена, оба продолжали бы улыбаться, если бы над их головами уже висел топор палача. Потом они посмотрели на меня; да и не на кого больше – поблизости ни души. Тогда я подошла и предложила им свой план: немного погодя, чуть прозвонит колокол к утренней мессе, пусть оба спешат к реке у рва Пюнье, что меж мостами, там я буду их ждать с лодкой… И тут я с опозданием подумала: у меня ведь нет денег! Кто же повезет бесплатно? Палач угадал мои мысли, снял с пальца кольцо с камешком и протянул мне. Я чуть не лишилась рассудка от удивления:
«Да на это можно купить всех лодочников вплоть до самого Ла-Манша!»
Он мне ответил на это:
«А разве наши жизни дешевле этого кольца?»
Словом, вышло так, как я задумала, и вскоре мы поплыли вниз по реке. Совсем немного уже оставалось до излучины и город остался позади, как вдруг с берега раздались крики. Я посмотрела туда и обомлела: стрелки натягивали луки, целясь в нас. Спасения не было; оставалось уповать на то, что стрелы пролетят мимо. Только я подумала так, как они засвистели вокруг нас; две или три ударили в борт, но нас не задела ни одна. Лодочник торопливо греб, молясь Богу, а мы легли на дно лодки; за нами лег и он: все одно нас несло течение. И тут Арно совершил глупость, а за ней другую. До сих пор не пойму, почему я не остановила его тогда. Он встал во весь рост и закричал:
«Хороши стрелки, нечего сказать! Если вы так же метили во врага при Креси, то неудивительно, что король проиграл битву».
Стрелы, утихнув было, вновь посыпались, а он стоял посреди лодки и всем своим видом бросал вызов смерти. А она уже подстерегала его, была совсем рядом. Словно почувствовав это, мы с отцом поспешно увлекли его вниз. Он послушно лег. Потом неожиданно поднялся и снова крикнул:
«Я не виновен! Знайте это все и скажите королю!»
Карон схватил его за руку, потащил на днище… да не успел. Арно продолжал кричать:
«Меня оклеветали, я всего лишь отомстил за свою…»
Он не договорил, охнул и упал прямо на меня. В груди у него торчала стрела. Это была последняя, остальные уже не могли нас достать. Отец бросился к сыну, весь белее мела, уставился на стрелу и дико вскричал… Я не слышала, чтобы люди могли так орать. Это был не крик – чудовищный рев! И вдруг он – кто бы мог подумать! – он, палач парижского суда, истязавший людей, вешавший их без жалости, отрубавший без сожаления головы, руки и ноги, – он заплакал. А потом мучительно зарыдал во весь голос. Нет – даже заревел, как раненый зверь! Я понимала его: на руках у него умирал сын. Тогда еще я не знала, что он у него единственный, другой погиб на войне, а мать умерла от болезни.
Арно бледнел на глазах. Я видела, как смерть уже подбирается к нему: белеют щеки, губы, тускнеет взгляд. Он и сам понимал, думаю, что это конец. Наверно, он очень сожалел, что погиб так нелепо. Его взор был устремлен… нет, не в небо: оно не спасло его, и он в ответ даже не пожелал вручить свою душу Богу. Он смотрел на отца, словно хотел унести с собой его образ. И я услышала:
«Они все-таки убили меня… Отец, мне так больно… Но это не стрела… Ты останешься один… совсем один. Ты так меня любил…»
Палач рванул на груди мантию, вцепился себе в волосы, выдрал клок и заметался в бессилии. Потом взялся за стрелу, попробовал вытащить… Арно издал мучительный стон. Снова попытка – и еще громче стон. Острие вошло глубоко. Но надо рвать. Пусть поранится кость, порвется мясо… но рвать. Хлынет кровь… много крови. Ах, если бы дома, я остановила бы ее и залечила рану. Но что я могла сделать здесь, в этой лодке?.. А отец уже достал нож, собираясь резать грудь сыну, чтобы достать стрелу.
«Оставь. Лучше уж так, – посоветовал лодочник. – Скоро причалим, донесешь до деревни, а там какой-никакой лекарь… Стрелу-то обломи, легче ему будет».
Миновав излучину, мы подошли к берегу. Отец на руках вынес сына из лодки, и мы пошли. Но от деревни осталось одно название: донельзя ограбленные, жители ушли отсюда. А на взгорье – лес. Мой родной! Брат мой… сын! Однако до дома не близко. Но надо идти, не остается ничего другого. И тогда подумали, что правильно сделали, не вынув острие: без конца хлестала бы кровь. Так и пошли, дочка… И нет слов у меня, чтобы выразить… высказать… сколько и как мы шли… А он нес его на руках… своего сына, живого еще… свою единственную и последнюю в жизни любовь… шел… и плакал…
И Урсула залилась слезами. Не удержалось сердце, слишком живо воссоздало оно в памяти ту картину. Забудешь разве?.. Поплакав, очистив нос, утерев слезы рукавом, она продолжала, то и дело горько вздыхая:
– До половины пути уже дошли мы, и ведь живой еще был Арно, слышала я, как стонет. И торопила, подгоняла мысленно и словами молча шагавшего рядом, с печальной ношей, отца: «Скорее! Ради всего святого, скорее! Уже немного осталось! Еще чуть пройти… Вот уже поляна, крыша, виден сад, огород… Ну еще, еще же! Только не умирай, сынок! Не дай смерти взять верх! А уж я мигом отгоню ее: зашепчу, заговорю, зацелую, слезами залью рану твою, и будешь живой и здоровый. Сыном станешь моим. Только не умирай! Ради бога, не умирай!!!»
А отец уже спотыкался, едва не падал, но шел, сжав зубы, с мольбой глядя на дом… И закричала я тогда:
«Господи, если Ты есть, услышь меня, не дай осиротеть отцу! Не отнимай у него дитя! Молю Тебя, Господи! Услышь! Помоги! Отгони смерть!..»
И Карон посылал мольбы – видела я: губы шевелятся, а глаза, все в слезах, устремлены в небо.
Наконец дошли. Вот он, дом! И кинулась я уже дверь открывать, бормоча благодарственную молитву… да так и застыла на пороге, обернувшись, даже крикнуть не смогла, кулаком рот заткнула… Не шел больше отец, стоял на коленях шагах в десяти от крыльца и, обняв сына за плечи и приподняв, смотрел в безжизненные уже глаза его. А изо рта у Арно ручьем хлестала кровь. Бросилась я к ним, пала у тела и успела увидеть только, как бьется оно в руках у отца, а глаза уже закатываются. Недолго билось, замерло вскоре, а голова бессильно откинулась назад, посинели ногти, а в лице – ни кровинки. И поняла я, что не успели мы… не услышал Бог мольбы мои и отца… или не захотел. Как же теперь молиться? Зачем, если в душе после всего, что случилось, одно – презрение к Нему! Ненависть!.. Так и сидела я с думами своими невеселыми. А отец все стоял на коленях и беззвучно плакал, прижимая к себе своего ребенка, уже начавшего холодеть, застывать…
И предали мы тело мальчика сырой земле-матушке, похоронили его здесь же, в лесу, вручили тело и душу не Богу – жестокому и бесчувственному, – а брату моему по духу, по крови. И он принял его в свои объятия. Да вон могилка, дочка. – Старуха повернулась, указала рукой в сторону родника. – Как шли по тропинке до ключа, не видела справа холмик с крестом?
Эльза сорвалась с места. Добежав, застыла, точно стена перед ней выросла, постояла и рухнула на колени, не отрывая взгляда от креста в изножье, а затем переведя взор туда, где голова. Чисто вокруг и тихо; старая береза космы склонила рядом, точно кланялась, а на могиле лиловые фиалки раскинули на стороны свои лепестки да голубые незабудки шепчутся о чем-то своем.
Урсула подошла, села на кочку, ни слова не говоря. Эльза повернулась к ней: лицо заплаканное, а в глазах удивление. Взглядом и рукой указала на другой холмик, рядом.
– А это?.. – Она вскинула руки к груди. – Господи… Да неужели же?..
– Ты права. Его отец.
И, держа на себе вопросительный взгляд, Резаная Шея закончила свою печальную повесть:
– Он остался у меня… с сыном. В Париже, сама понимаешь, его ждала плаха, а еще хуже – виселица. Но он все-таки пошел туда, спрятав лицо под маской. Месяц уже минул, как жили мы вдвоем, или больше того… Одежду хотел он взять из дома, еще кое-что, а дом отдать какому-то своему дальнему родичу, жившему неподалеку. Пришел он домой, а там новый хозяин. Новый палач. Король так распорядился. Карон не стал возражать – ему ли? – а с того, нового, взял слово, что тот не выдаст его. Спустя неделю он снова пошел… и не вернулся. Напрасно прождала я его до ночи на берегу. Люди рассказали, что в тот же день его схватили и бросили в темницу. Хотели спросить у короля Филиппа, как с ним поступить, но того не оказалось в Париже; вместо него сидел принц, его сын, наш нынешний король Жан Второй. Он и повелел: предать смерти за невыполнение королевского приказа. Это я о сыне. И я пришла на площадь, чтобы увидеть, как казнят отца, который не пожелал казнить сына. Конечно же, Карон меня не увидел; откуда ему было знать, что я приду проститься с ним? Ему снесли голову – быстро, одним махом, как сносил когда-то он сам. Потом я купила его голову у палача и принесла сюда… Теперь она там. – Урсула указала пальцем на холмик. – А тело бросили в оссуарий, в груду трупов на кладбище Невинных; там гниют те, кто не опознан, у кого не нашлось родственников, дабы предать земле тело умершего сородича. Говорили потом люди, что король Филипп, вернувшись и услышав эту историю, попенял сыну на излишнюю жестокость. Но тот только рассмеялся в ответ. Таков наш нынешний король, дочка.
– Презренное ничтожество! – сдвинув брови, процедила сквозь зубы Эльза. – И некому отомстить за Карона… Догадываюсь, он был хороший человек, мать Урсула?
– Зла от него я не видела. А так… все больше молчал, мрачнее тучи, да с ненавистью глядел в сторону Парижа. И целый месяц, почитай, пробыл на могиле сына, глаз не сводя с холмика. Но ни разу больше не лил слез.
– Быть может, он мечтал отомстить королю… – промолвила Эльза, как когда-то и Карон бросая тяжелый взгляд на север. – Но не сумел. Принц Жан оказался негодяем, чудовищем! Но ты еще ответишь, Жан Второй, за это злодеяние, полагаю, не первое на твоей совести. Он ответит, мать Урсула! Ответит!..
– Всякому негодяю рано или поздно воздастся по заслугам, – кивнула в ответ Резаная Шея и прибавила: – Теперь живу я тут, как видишь, одна. Нет до меня дела людям, как и мне до них. Отшельницей живу. Худо ли? Ни единая живая душа сюда не наведывается. Жалела только до сего дня, что умру – и закопать некому будет; не хочу, чтобы вороны терзали мертвое тело. Ну да теперь есть кому схоронить… да и… – Старуха улыбнулась, погладила Эльзу по волосам. – Умирать вдруг расхотелось, коль появилась у меня ученица и наследница; пока не обучу ее науке своей – уж не помру, права такого не имею. Любой человек должен передать по наследству своим детям все то, что взял от жизни, чему научился, что приобрел. Зачем тогда он жил? Кому же мне передать, девочка моя, как не тебе?
– А свои дети?.. Ужели не было их у тебя, мать Урсула?
– Трижды я рожала, и лишь третий дожил до пяти лет. Родила и в четвертый раз. Сын это был, а как вырос – ушел в город учиться. «Выучусь, – сказал, – найду себя в жизни, да и заберу тебя отсюда, матушка, в городе будем жить, а не среди зверей». Тому уж много лет, как ушел, только больше я его не видела. Думаю вот теперь о нем, а как вспомню его, маленького, так будто по сердцу утюгом горячим… И не ведаю, где он сейчас и что с ним. Быть может, сложил голову на чужой стороне: времена-то нынче какие…
И Урсула, замолчав, опустила голову. Помедлив, Эльза негромко проговорила:
– Вот, значит, почему люди боятся тебя, называют колдуньей, повелевающей ветрами, солнцем, дождем…
– Человек всегда боится того, чего не знает, не способен понять. Его страшит неведомое, пугает тайна. Он безобиден, но в то же время сверх меры жесток. Он темен, и эта отсталость порождает в нем глупость, переходящую в звериную безжалостность. Но зверь не нападет, когда сыт; человек же нападает ради удовольствия, руководимый желанием убить неважно кого и за что. Таковы охотники и рутьеры. Так не они ли и есть чудовище, страшнее и опаснее зверя? Человек… Это слово звучит горько, точно клопа раздавил зубами. Сколь подлым, изменчивым, сколь коварным, хитрым и свирепым часто бывает это существо. И сколь отвратительно оно в жажде убивать себе подобного ради прихоти своей либо доставляя ближнему горе, издеваясь и смеясь над ним, сознавая в чем-то свое превосходство и силу! Зверь – другое дело, он неразумен, да и то не поступает столь низко и подло. Нет опаснее человека создания на земле. Можно верить зверю, птице; человеку – с большой опаской, ибо соткан из пороков; всегда таится в нем жажда обмануть, возвыситься или предать. Бойся человека, но не детей его: они не успели еще стать людьми. Но не век тебе жить в лесу, когда-нибудь выйдешь к людям. Говори мало, но больше слушай. Гляди в это время на человека внимательно; по голосу, движениям рук, головы определишь, правдив ли он либо вертит хвостом, пытаясь обмануть. Нехитра наука, я обучу тебя сей премудрости. А сейчас просвети меня, Эльза, ибо давно уж не ведаю, что происходит в королевстве французском. Жан Второй по-прежнему в плену? Должно быть, немалый выкуп запросил за него островной король?
– По-прежнему, мать Урсула. Три миллиона золотых монет хочет получить англичанин. Как собрать, когда страна разорена, а казна, идет слух, пуста?
– Как всегда. Прогуляют, пропьют народные деньги, а как дойдет до дела – то их и нет. Но и хорошо, скажу я. Этакую сумму отвалить заморскому гостю! Мерзавец, мало ему своей земли.
– И все же люди считают, что короля надо освободить. Миропомазанник! Власть дана от Бога! Но с народа этот Божий избранник и вытягивает монеты, только платить-то людям давно уж нечем.
– Деньги эти лучше бы употребили на хозяйство, торговлю, нежели бросать на ветер.
– А как же король?
Резаная Шея бросила на собеседницу загадочный взгляд.
– А разве дофин Карл не достиг уже совершеннолетия?
Эльза поняла. Намек был страшен. Но правильно ли поняла?..
– При живом отце нынче не коронуют сына.
И снова старуха ответила не сразу, а словно взвесив слова:
– А не коронуют – так и дальше Франция будет плакать кровавыми слезами.
Стало быть, поняла верно. И вот он, выход, простой на первый взгляд. И нельзя не поверить отшельнице, ибо ей подсказывает чутье… От дьявола? Быть может, от Святого Духа? Так или иначе, но Эльза уверовала, что иного выхода нет; старуха видит наперед то, чего не способен увидеть ни один человек.
А Резаная Шея прибавила:
– Жаль, что он в английской тюрьме.
– Да ведь он уже здесь! Я как раз хотела сказать об этом.
– Как! Шла молва, что он сидит в Тауэре.
Эльзу осенила смутная догадка:
– Понимаю: этот человек причинил тебе зло…
– Я родилась во Франции. Бездарный, глупый король причинил зло ей, а стало быть, и мне. Проиграть битву, имея в три раза больше воинов, нежели у его врага! Имея конных рыцарей! Против вилланов с луками и вилами в руках! На это способно лишь такое ничтожество, как этот Валуа. Но ты говоришь, он уже здесь? Значит, выкуп собрали?

