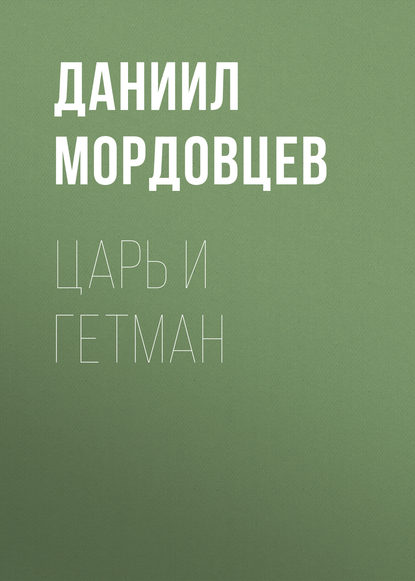 Полная версия
Полная версияЦарь и гетман
– А с чего смута была?
– Да все из-за бород, да из-за взятков: стали это брать с их банные деньги, с бани по рублю, да с погребов, да причальные, да отвальные пошлины, да с гробов дубовых, ну и заартачились астраханцы. А мы как приплыли Волгой да сыпанули из пушек чугунными арбузами… Уж и арбузы же там, братец, дыни астрахански!..
У казенки, под рогожами, зазвенели железа; из-под рогожки показалась черная с сильною сединою голова и с длинными, тоже посеребренными сединою усами. Давно не бритый подбородок также чернел и серебрился густою щетиною.
Трудно было узнать в этом лице Кочубея, до того изменился он; а это был он, отец Мотреньки, выдержавший не одну пытку в застенке Головкина и до этого еще прошедший не одну нравственную пытку с тех пор, как в доме у него поселилось горе и его любимая дочка гасла, как свечка. Кочубей приподнялся, перекрестился, насколько позволяли ему ручные кандалы. Он оглянулся на небо, на берега Днепра. Он соображал, по-видимому, где они плывут, далеко ли еще осталось до конца. Да, конец приближается… Давно они уже плывут из Смоленска родною, дорогою рекою, по которой когда-то плавали на воле на казацких чайках. Как это давно было! Еще при Дорошенке и Самойловиче, но и их давно нет.
Что-то дома делается? Что жена, дети, бедная Мотренька?.. А все из-за нее это… А чем она виновата? Виновата «личком биленьким, станом тоненьким, карими очами, черными бровами…».
Солнце все ниже и ниже. Галка летит Днепром, опережая галеру… «Ой, полети ты, черненькая галка, та до дому рыбы исти, ой, принеси ты, галка, та з родины висти…» Улетела и галка.
А как спина болит от пыточных ударов! «Боже правый!..»
Из-под рогожки выглядывает и другое лицо, тоже с трудом узнаваемое. Это Искра, тот веселый Искра Иван, что так любил «жарты»… Ничего не осталось ни от Искры, ни от Кочубея: и платье на них арестантское, сермяжное, а их дорогие кунтуши и перстни, как и все маетности, в казну взяты.
– Ты спав, Иване? – спрашивает Кочубей.
– Заснув трохи… хоть сонною думою дома, у Полтави, побував…
– А мене и сон не бере… Десь там выспимось… голова буде спати сама собою, а тило само собою.
Отворилась дверца в казенке, и оттуда вышел пожилой мужчина в синем кафтане, худой и морщинистый. Это был стольник Вельяминов-Зернов, которому царь приказал доставить Кочубея и Искру к Мазепе, находившемуся в то время с запорожским войском за Днепром, в Палиивщине.
Вельяминов-Зернов зевнул, перекрестил рот, отенил маленькие свои глазки ладонью и приглядывался к синеющей дали и к золотящимся от садившегося за горы солнца берегам Днепра.
– А далеко еще до Киева? – спросил он, взглянув на Кочубея и Искру, сидевших в своем арестантском углу.
– Завтра надо бы быть там, – отвечал Кочубей.
– Завтра, на день апостолов Петра и Павла? Это изрядно, – как бы про себя проговорил стольник.
Потом он прошелся вдоль галеры, сделал кое-какие замечания солдатам и стрельцам, постоянно позевывая и крестя рот. Он, видимо, скучал этой долгой волокитой от Смоленска до Киева, спал до одурения и все никак не мог скоротать времени. Добредя потом до рулевого, он сел на скамейку, зевнул перекрестил рот и затянул вполголоса «Свете тихий»!…
Вечерело. Воздух становился прохладнее. Солнце не золотило уже ни берегов, ни вершин леса, ни гор: оно само давно спряталось за гору. И даль, и поверхность Днепра, и зелень – все мало-помалу теряло цветность, окутывалось невидимою дымкою. С берега доносилось иногда блеянье овец, ревели коровы: это стада возвращались с полей к жилью.
Стольнику надоело, по-видимому, тянуть и «Свете тихий»…
– А пора бы, кажись, и к берегу… Завтра в Киев, поди, рано приплывем, – сказал он рулевому.
– Бог даст, рано управимся, боярин: к обедням поспеем, – отвечал рулевой, не спуская глаз с кормы.
– Так чаль, вон приглубый бережок, и рыбки молодцы к ужину, поди, наловят.
Галера привернула к левому берегу. Заякорились, бросили сходцы на берег и стали выходить.
– Ну, ребята, раскладывай костер, да бредешком забредите, может, стерлядочек зацепите, али окуньков хорошеньких, бычков, прескусная рыбица, – оживился стольник, ходя по берегу и разминая залежавшиеся члены.
Одни арестанты остались на своем месте, на галере, да часовые, которые караулили их.
Солдаты и стрельцы бросились собирать сухой валежник, разложили и разожгли костер, поставили огромный треног с висячими крючками, подвесили котелки с водой… Говор такой на берегу, весело! Повеселел и стольник, большой охотник до рыбки, особливо же ежели ее теперича поймать свеженькую да прямо из воды да в котелок, да лучку туда, да перчику, да лаврового листу, да щавельку свежего, да сольцы в меру, да так на воздусех, под Божьим покровом, и трапезовать: то-то любо-дорого.
Костер распылался на славу – фу да ну! – а кругом от зарева темень, и небо темнее стало, звезды высоконько да далеконько помигивают, и на галеру зарево костра падает, а из галеры, из арестантского угла, выглядывают два бледных лица, тоже глядят на костер.
Скуластый стрелец, что бывал и у свеев в полону и на Волге, и молодой рейтар с сросшимися бровями разделись донага, голые тела так ярко освещены заревом костра, захватили бредешок и тихо сошли в воду, бережно ощупывая глубину у берега. И стольник тут: руками машет, шикает.
– Шш… тише… глубже забирай, водой не плещи.
Бредут, долго бредут, а стольник за ними по берегу идет: «Заходи, рейтар, становись, стрелец, вытаскивай живей; улю-лю-лю! улю-лю-лю! ловись, рыбка; гоните ее, святые угоднички Петра-Павла, в бредешок…»
Вытащили, трепыхается рыбка, и крупненькая, и махонькая… «Давай ведро! Живей, ребята!» – командует стольник, поднимая полы и засучивая рукава камзола. «Ай да рыбка, рыбина Божья! Ишь, трепыхается… а вот и рачок-соколик, другой… Те-те-те! Окунище знатный, ишь, боярин какой! Улю-лю-лю! Рыбина Божья…» – присев на корточки, радуется стольник, хватая то окунька, то ершика.
И долго еще радовался стольник, суетясь потом около костра, заглядывая в котелки, пробуя ушицу Божью, потом смакуя ее и рыбину сердешную, скусную, подсаливая ее, да запивая потом ренским, да славословя Бога, насытившего его земных благ в чаянии не лишити и Небесного Царствия…
Ели потом и рейтары, и стрельцы, освещаемые костром и похваливая уху и рыбку.
А из угла галеры виднелись два бледных лица, да мигали с неба бледные звезды.
Утром в день Петра и Павла галера подплыла к Киеву Чудное утро выдалось, радостное. Киев так весело, празднично смотрит. Зазванивают к обедням. После обеден люди разговляться будут, в гости друг к дружке ходить; молодежь любиться будет жарче, жарче втихомолку целоваться станут… Сколько поцелуев будет украдено у жизни, у старости всезапрещающей, у вечного, глазастого цензора «нельзя»!.. Эх, хороша ты, жизнь проклятая! Как же не хороша? Вон дети купаются в Днепре: сколько счастья на их невинных личиках.
– Докийко! Докийко! – кричит девочка, выставив из воды черную головку с распущенною косою. – Я поплыву от до того великого човна.
– Ох, панночко! Не плывайте, втонете! – кричит другая девочка, ныряя в воду, как утка
– Ни, Докийко, поплыву, плыви за мною.
И девочки, словно русалки, быстро подплывают к галере и с испугом останавливаются на воде: они узнают на галере два лица, но какие страшные эти лица!
– Ох, Докийко, – шепчет первая девочка, отплывая с испугом от галеры, – та тож Кочубея москали везуть, Мотренькиного тату… Я так злякалася, трохи не втонула.
– То-то, панночка, втонете вы коли-небудь.
– Бидна Мотренька… Ходим, Доко, подивимось, як их поведут.
Это та девочка, Оксанка Хмара, которую мы видели с котиком на руках в келье игуменьи Магдалины, матери Мазепы, когда гетман приходил просить ее благословения.
Не успели девочки выйти из воды и одеться, как галера пристала к берегу, и арестантов повели прямо в Печерскую крепость.
* * *Через две недели Кочубей и Искра были уже в обозе Мазепы, который со всем малороссийским и запорожским войском стоял за Белою Церковью, на Борщаговке.
С раннего утра собраны были войска на площадь около церкви. Скоро прибыл на площадь и Мазепа, окруженный блестящею свитою: Филипп Орлик, Данило Апостол, Павло Апостол, Павло Полуботок, Иван Скоропадский[77], Войнаровский, Гамалия, Лизогуб, Галаган – все это на добрых конях, в богатой одежде. На Мазепе голубая Андреевская лента[78] – редчайшая в то время в целой России. Голубой цвет ее, играя на солнце, придает какую-то мертвенную бледность щекам гетмана С тех пор как мы его видели в последний раз с Мотренькой, когда он под набатный звон передавал ее Григорию Анненкову для сопровождения к родителям, Мазепа еще более осунулся, и лицо его стало напоминать что-то хищное, птичье; то, что было в лице его матери: брови больше спустились на глаза, что оттеняло их особенно сильно и придавало им черноту и блеск; усы тоже свисли и как бы еще более оттянули книзу углы губ. Орлик иногда поглядывал на него исподлобья, постоянно вдумываясь во что-то и словно высчитывая умом и за, и против. Скоропадский тоже о чем-то думал… Да и нельзя было не думать! Его хорошенькая жиночка Настя так настойчиво провожала его в поход словами «хочу бути гетьманшею»… А вот что значит слушаться «жинок», вон Кочубей из-за жены да из-за дочки погибает…
Но вот ударили в бубны и котлы. Встрепенулись казаки и старшина. Все оборачивают головы, ждут. Из-за звуков бубнов слышатся позвякиванья желез: тилим-тилим, тилим-тилим… Глаза Мазепы совсем исчезают под бровями. Он жадно прислушивается к этому пилящему по душе тилим-тилим… «За кари очи та за черни брови… Ох, сколько народу из-за вас пропало!..»
«Ведут! Ведут!» – прошел шепот по рядам казаков. Иные крестятся, взглядывая на церковь, на кресте которой сидит ворона и каркает… «На кого она, проклятая, каркает?» – думается Мазепе.
Ряды раздвигаются и пропускают арестантов. Впереди отряда стрельцов, конвоирующих осужденных, идет скуластый стрелец, усердно выбивая под бубен такт запыленными ногами. Стольник Вельяминов-Зернов в новом камзоле переваливается с боку на бок и как бы повторяет мысленно под тот же бубен: «Улю-лю-лю… ловись, рыбка Божья, ловись…»
Показываются и сермяжные чапаны, подпоясанные мочалками. Это Кочубей и Искра с непокрытыми головами, с нависшими на лбы волосами и с глазами, опущенными долу, как будто бы глаза эти ищут дороги, как бы не сбиться с нее, не угодить туда, в яму невидимую… а может, скоро и увидят… На ногах арестантские казенные коты и белые суконные онучи, обхваченные железными кольцами, от которых идут такие же железные звенья к поясу… Арестантов ввели в старшинский круг и поставили лицом к церкви. Глаза их не сразу охватили и узнали все, что было в этом почетном кругу; а в кругу вот что было: белые сосновые доски, настланные в виде стола; два каких-то холщовых мешка на этом помосте со ступеньками, тут же два новых, наскоро сколоченных гроба.
От этих досок и гробов Кочубей поднял глаза, и они упали на голубую ленту, потом и встретились с глазами Мазепы… Филипп Орлик махнул рукой, и бубны умолкли… Тихо стало, так тихо, что слышно, как дышат казаки.
– Помни, Иване Мазепо, я иду до Бога! – громко сказал Кочубей, показывая на церковь.
– С Богом, Василе, с Богом, иди! – хрипло отвечал Мазепа, сверкнув глазами.
– Помни, Мазепо, я зову тебя на Страшный суд…
– Помню, помню…
– Буди проклято чрево, носившее тя, и сосца, яже еси сосал! – не выдержал Искра, топнув закованною ногою.
Мазепа сам думал то же, потому что в этот момент в памяти его пронеслось последнее свидание с матерью, с которого, по-видимому, и начались все несчастия, а там и потеря существа, которое одно в жизни он любил искренно. Но в это время Орлик подал знак, загудели бубны и все собой покрыли. Затем Орлик развернул бумагу и снял шапку. За ним обнажили головы старшина и все войско.
– «По указу его царского пресветлого величества и по приговору войска малороссийского Запорожского…» – начал читать Орлик, когда умолкли бубны. В приговоре упоминалось и «ложное доношение», и «посяжка на гетмана», и «изблевание клеветы» на все войско и иные преступления.
Кочубей тихо качал головой, беззвучно шевеля губами.
– Бреше, сучий сын! – крикнул Искра при словах «изблевание клеветы на войско». – Мы на козаким не блювали.
– Шкода! Шкода! – закричали казаки за спинами старшин.
Опять машет Орлик рукой, опять колотят бубны… К осужденным подходит священник с крестом. Осужденные падают ниц, звеня кандалами, потом поднимаются, крестятся. Священник их напутствует только им одним слышными словами и дает целовать крест.
Осужденные остаются на коленях: они знают казацкие обычаи и не хотят в последний раз в жизни ударить перед казаками лицом в грязь. Снова Орлик машет рукой. Из-за стрельцов выходит низенький, широкоплечий, татарского облика «кат» с блестящим топором в руках. Молнией блеснуло железо в глаза осужденным. Палач положил топор на помост и взял оттуда белый мешок: это был саван, что-то длинное, словно поповская риза без рукавов. Когда палач подошел к Искре, чтобы связать ему руки висевшею у пояса веревкою, Искра оттолкнул его.
– Геть! – крикнул он с силой. – Я не хочу йти до Бога злодием… не рушь моих рук.
Палач глянул на Мазепу. Тот сделал знак, чтобы Искре не связывали рук. Тогда палач накинул саван сначала на него, потом на Кочубея. Оба осужденных поднялись с земли, бодро взошли на помост, повернулись к казакам, сделали им по глубокому поклону и стали на колени, вытянув вперед головы, чтобы удобнее было палачу рубить им шеи.
Палач взял топор и, поглядывая на Мазепу, ожидал знака. Желтая, с золотистыми крыльями бабочка, порхавшая над помостом, спустилась и села на помост как раз перед осужденными, расправляя свои блестящие крылышки. Искра, высвободив из-под своих колен подол савана, махнул им на бабочку, и она снова закружилась над помостом.
Мазепа сделал знак. Топор блеснул в воздухе, и голова Кочубея стукнулась лбом об помост вместе с туловищем. Голова не отлетела от шеи, а держалась на ней небольшой полосой кожи. Искра, подняв голову, страшно глянул на палача.
– Собака! Ты рубать не вмиешь! – грозно сказал он, снова протягивая свою воловью шею.
– От побачишь! – огрызнулся палач.
– Рубай, я подивлюсь.
Но ему уже не удалось «подивиться» на искусство палача и на то, как упрямая голова широким лбом хлобыстнулась об помост, а туловище все еще стояло, как бы не хотело падать… Но и оно грохнулось, изливая фонтаном горячую кровь.
– Погибе память их с шумом! – сказал Мазепа и поворотил своего коня.
В это время ударили к обедне; словно бы то был звон на отход души. Но это был звон не похоронный, а скорый, частый, как бы радостный: то звонили для живых, которые должны были молиться и за себя, и за усопших.
Казаки, и конные, и пешие, по отъезде гетмана и старшины понадвинулись к казненным и долго смотрели на них. Ни на одном лице не видно было ни осуждения, ни какого-либо иного укора; напротив, все смотрели строго, жалостливо, иногда с ужасом, боязнью, но более всего с какою-то тайною загадкою во взоре, с неразрешимым вопросом и относительно себя, и относительно вот их, лежащих на помосте так страшно-картинно: Кочубей уткнулся в кровавую лужу, словно кланяется церкви, хотя голова его лежит боком к полу, а усы и рот мокнут в крови, точно пьют ее; Искра же растянулся во всю длину и как бы тянется всем своим массивным телом к голове, которая откатилась от туловища и закрыла глаза, точно прислушиваясь: сразу отрубят ее от тела или не сразу.
А желтая бабочка опять тут: то на Кочубея сядет, то на Искру, расправляет крылышки, приближается к крови и снова поднимается… Ее занимают, по-видимому, эти белые, обрызганные кровью саваны.
– Який метелик, дивиться, хлопцы, – говорит один казак, указывая на бабочку, – то, може, душа Кочубеева прилинула… Он як коло головы его крыльцями вие…
– А може, се дочка до его прилетела, убивается по батькови, – заметила баба-богомолка, возвращавшаяся из Киева, – он як лине до батенька…
– Яка, бабусю, дочка?
– Та Матроною, кажуть, зовуть. Вона, кажуть… Мазепа до нее, та щось не тее…
Богомолка не договорила. Бабочка опять опустилась на труп Кочубея и поползла по его савану, расправляя крылышки.
– Та вона ж, се вона… бидна дитина… – богомолка утерла слезы, – от и поплакати никому…
Только по окончании обедни трупы казненных были положены в гробы и повезены в Киев, на родину, поближе к своим… Богомолка была права: тут над ними некому было плакать.
XI
Прошло лето, прошла осень, прошла и половина суровой зимы. Наступил 1709 год, скоро весна…
По снежной равнине, раскинувшейся белым саваном к востоку от Сум до Сейма, гладкою возвышенностью едет группа всадников. Несколько впереди всех, на полкорпуса лошади, высокого и тонконогого, черного с белою звездою во лбу скакуна, резко выделяется из группы и своею осанкою, и своим усестом на богатом седле фигура молодого человека в войлочной треуголке с зрительною трубою и с огромным палашом у бедра.
Что-то странное, непонятное в лице у этого молодого человека! Необыкновенно круто вскинутые брови несколько приподнятые с концами бровей внешние углы глаз; в том же направлении приподнятые углы дерзко-насмешливых губ; нос, как-то упрямо выдающийся на этом каком-то черством, загрубелом лице; ноздри, постоянно раздувающиеся, как у горячей, норовистой лошади, и в особенности серые, с неподвижными зрачками, как у безумца или мономана, какие-то жесткие, упрямые, стоячие глаза – все это так резко выдвигало лицо этого молодого человека из группы других лиц, что при виде его встречный невольно пятился назад с вопросом внутри себя: что это такое, или это злодей, или необыкновенный человек?.. А между тем одет этот необыкновенный человек очень просто, даже бедно и нечисто: военный однобортный кафтан потерт, вывалян в сене; металлические пуговицы на нем заржавели; старый черный галстух обмотан вокруг шеи неловко, небрежно; высокие, выше колен сапоги неизвестно когда чищены, огромные шпоры тоже носят на себе следы ржавчины. Зато конь убран богато, по-царски; да и конь редкой породы и необыкновенно выхоленный.
Рядом с ним, тоже на кровном скакуне, стараясь держать своего коня нога в ногу с первым всадником, едет розовый мальчик, не спускающий глаз с первого и нервно следящий за каждым его движением. Розовые щеки его обветрены, но юношеский, как на персике, пушок еще не сошел с них, а чистые светло-голубые глаза так ясны, что никогда, кажется, до смерти не обветреют. Юноша также одет по-военному и с таким же большим палашом, который, кажется, своею тяжестью гнет его на сторону.
По другую сторону первого всадника на белом коне, на высоком казацком седле, грузно сидит знакомая нам, несколько сутуловатая и понурая фигура, с таким же понурым лицом, с понурыми бровями и понурыми седыми усами. Это Мазепа в своей сивой смушковой шапке, мало отличающейся от сивой головы гетмана.
Далее, почти в ряд, следуют и незнакомые нам в незнакомых костюмах лица, и давно знакомый нам старшина малороссийский – Филипп Орлик со своими серыми серьезными глазами, Войнаровский и другие.
Первый всадник с какою-то неподвижною задумчивостью глядел вдаль, как бы силясь прозреть, что там далеко-далеко за этим белым пологом, точно разостланным чистою скатертью до неведомого царства, до неведомых людей.
– А отсюда, ваше величество, и до Азии недалеко, всего только несколько миль, – не то с иронией, не то с придворной лестью заговорил Мазепа на чистом латинском языке.
– Да? – круто повернувшись на седле, спросил первый всадник, странный на вид молодой человек, который был не кто иной, как Карл XII.
– Точно, ваше величество, – отвечал гетман. – Вот как далеко проникло ваше победоносное оружие!
– Sen non conveniunt geographi (географы надвое сказали), – не то отшутился, не то поверил Карл.
– Северный Донец, ваше величество, некоторые географы считают это границей, а Донец недалеко отсюда, – продолжал Мазепа.
Карл нервно приподнялся на седле, оглянулся на свиту, отыскал глазами худого с сухим носом и такими же сухими, точно никогда не смеявшимися глазами старика с большим орденом на шее и громко сказал:
– Слышите, Реншильд, мой старый друг? Мы скоро доберемся до Азии, недалеко уж.
– С вами, ваше величество, и до аду недалеко, – уклончиво отвечал хитрый фельдмаршал.
У Мазепы невольно дрогнул сивый ус, а лукавые глаза его только одному Орлику знакомым языком добавили: «Туда вам и дорога».
– Я хочу быть в Азии! – продолжал упрямый король. – Если мои предки, варяги, с их смелыми конунгами ходили в Византию, то и мы пройдем до Азии.
Розовый мальчик, ехавший рядом с ним, глядел на него с восторгом и благоговением.
– О, ваше величество! – воскликнул он. – Вы идете по следам Александра Македонского.
– Ах, мой милый Макс! – улыбнулся Карл. – Здесь даже и он не ходил… нет тут его следов…
И странный король показал на снежную равнину, по которой их кони делали первые следы. Юноша вспыхнул. Это был юный Максимилиан, герцог вюртембергский, который, будучи очарован небывалою военною славою дерзкого короля Швеции, явился к нему в лагерь в качестве ученика военного гения Карла и просил его принять в число других дружинником этого нового варяжского конунга. Карл принял его; томил юношу тою суровою жизнью солдата, какую сам вел; скакал с ним по целым часам от отряда к отряду, спал вместе с ним на сене и на голой земле, и юноша боготворил своего сурового учителя.
– О, ваше величество! – восторженно, с яркою краскою на загорелых и обветренных, но все еще нежных щеках сказал Максимилиан. – Вы в Азии найдете следы Александра Македонского и затопчете их вашими ногами, вашею славою…
– Хорошо, хорошо, мой храбрый Макс, затопчем их.
Мазепа продолжал подергивать сивым усом, думая о чем-то другом, а Орлик сердито поглядывал на него, как бы желая сказать: «Охота тебе было, пане гетмане, нагадать козе смерть – раздразнить этого короля-гульвису: он теперь заберет себе в упрямую башку Азию да этого пройдисвета Александра, а Украина пропадай!»
А Карл действительно уже забрал себе в голову. Он снова повернулся на седле и, отыскав глазами другого всадника, белоглазого с льняными волосами плотного мужчину немолодых лет, крикнул:
– Любезный Гилленкрук! Наведите справки о путях, ведущих к Азии.
– Справиться не трудно, ваше величество, но дойти до Азии нелегко, – сердито отвечал белоглазый мужчина.
– Вы всегда скучны со мною, старый дружище! – засмеялся король. – Только я все-таки хочу добраться до Азии: пусть Европа знает, что и мы в Азии побывали.
– Ваше величество все изволите шутить, а не серьезно помышляете о таком важном деле, – по-прежнему сердито отвечал Гилленкрук.
– Я вовсе не шучу! – оборвал его король.
В сумасбродной, «железной голове» короля-варяга, как его тогда называли некоторые, зароились дерзкие, безумные мечты о будущем и поэтические, полные сурового очарования воспоминания о далеком, седом прошлом, и картины своего далекого, сурового, но милого скандинавского севера, и этот вот ландшафт, что расстилался перед его глазами, безбрежно, как океан, степного «сарматского»[79] юга. Из этого седого прошлого выступают тени великанов сумрака, но сумрака славного, полного ярких личностей, громких дел, и эти великаны проходят перед ним, перед своим потомком, сумрачными рядами. И они, как и он, топтали своими ногами и копытами своих коней эти необозримые степи Сарматии, водя свои дружины вместе с ратями полян, курян, кривичей и дреговичей на половцев и печенегов. Они, старые конунги с варягами, бороздили своими лодками воды Днепра, по которым и он, их потомок, плавал уже и снова с весной поплывет на юг, к Азии… А давно уже не бродили тут ноги варягов, отвыкли эти ноги от дальних походов, приросли подошвами к родной Скандинавии; а тем временем в течение столетий эта сарматская Русь выскользнула из варяжских рук и вот как ширится! Раскинулась и на восток, и на юг, и на запад, и на север, а теперь вон в лице этого великорослого коронованного дикаря протянула свою ненасытную руку и к Варяжскому морю… О! Никогда не бывать этому! Скандинавия проснулась, проснулись древние варяги вместе с своим конунгом, и горе сарматской Руси с ее великорослым дикарем! С севера пахнуло стариной, и опять варяги приберут к своим рукам эту Русь, эту Московию-Сарматию, которая доселе «велика и обильна, а порядку в ней нет»… «Идите вновь, варяги, володеть и править нами…»
– А до Запорожской Сечи далеко еще? – встрепенувшись вдруг, спросил «железная голова» Мазепу.
– Далеко, ваше величество, – по-прежнему о чем-то думая, отвечал Мазепа.
– Но не дальше Азии?
– Дальше, ваше величество.
И Мазепа опять о чем-то задумался, глядя в безбрежную даль. Невесело ему, да и давно уже ему невесело, а в последнее время чем-то безнадежным пахнуло на него, и последние лепестки надежд на будущее, которые еще оставались в душе его, словно листья дуба, свернулись от мороза и унесены куда-то холодным ветром. Он чувствовал, что его положение день ото дня становилось все более безысходным. Сегодня прибыл в шведский стан его верный «джура» Демьянко – и сколько горького и тяжкого порассказал он! Демьянко все сообщил, что происходило в той части Малороссии, которую покинул Мазепа, передавшись Карлу, и как скоро отреклась от него Малороссия! Один Батурин еще держался несколько дней, но и тот москали взяли и разгромили. Взят был и верный Чечел, полковник над сердюками. Разгромлена вся столица Мазепы и сожжена, камня на камне не осталось. Как лютовали москали над роскошным дворцом гетмана, над всеми его пожитками и челядью! Гетманских любимцев – и громадного барана, и огромного «цапа», которые, бывало, своим единоборством развлекали старика и тешили дворцовую молодежь, казачков да пахолков, – и барана, и козла москали середь гетманского двора изжарили на вертелах и тут же съели, запивая вином из гетманских погребов. Богатый сад Мазепы выломали, вытрощили все в нем и протоптали московскими сапожищами все дороженьки, по которым когда-то хаживал Мазепа с Мотренькою и на которых еще остались следы ее маленьких крошек «ножек биленьких». Замела и эти дорогие следы проклятая Москва! «Жиночок и диточок», прислугу гетманскую, что оставалась в батуринском дворце и замке, в Сейм побросали и потопили.

