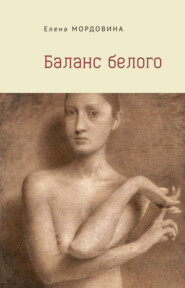скачать книгу бесплатно
– Здравствуй, – впустил меня. Я зашла в огромную прихожую и бросила свои вещи в глубокое кресло. Даже не подумала, что мы задержимся тут надолго. Напротив кресла висело массивное распятье, у спасителя был приоткрыт один глаз, похожий на плотную белую горошину, вытянутую из ухи.
– Смотри, ноги натрешь без носков, – Ольховский будто бы непринужденно проронил это с интонацией бывалого человека и поглядел на мой рюкзак. – Ничего, переберем, может, еще и не один раз. Все будет как надо, давай, проходи в гостиную, присаживайся, я пока начну собираться, кофе сварю.
Я не совсем понимала в тот день, как можно собираться и оставлять дом с тем, чтобы вернуться.
Он все оставлял так, как будто собирался отлучиться дня на два. Я каждый раз уезжаю навсегда, а если приходится возвращаться, это удивляет меня до невозможности. Все потому, что за мою жизнь случилось около десяти масштабных переездов, а что касается полетов, то свое путешествие на Луну и обратно я совершила уже к пятнадцати годам. Даже когда уезжаешь не навсегда, возвращаешься все равно другим. Когда оставляешь пустые комнаты, выцветшие геометрические фигуры от картин на стенах и непривычное распределение света, а через три месяца прилетаешь уже взрослым. Конверты пластинок покрыты пылью, все такое неродное, мрачное и отчужденное после ночного аэропорта и счетчика в желтом такси.
Теперь со мной было только настоящее – ни прошлого, ни будущего у меня не было.
Я топталась в просторной светлой прихожей. Справа, между дверью в комнату сестры и дверью в кухню громоздилась полка с книгами, под ней находился резной комод с салфеточкой, телефоном и сухим овсом в фаянсовой вазе. Царского издания Лесков, фотография сестры над фортепьяно (хорошо вдруг представила себе, как этот agnus Dei играет Моцарта оцарапанными пальцами) и всякие красивые безделушки. Все казалось таким ухоженным и проникнутым семейным теплом, что мне стало как-то грустно.
Самого Ольховского трудно было не обвинить в пристрастии к изящному. В личной жизни он давно обрел стабильность, достигнув заветного согласия страстей: навсегда и безнадежно влюблен был в одну актрису (и даже несколько раз здоровался с ней) и слепо, но регулярно довольствовался смазливыми буфетчицами и костюмершами. Иногда для собственного удовольствия он выгуливал серую датскую догиню соседа, по осени неизменно прихватывая с собой мельхиоровую флягу с коньяком.
В гостиной меня встретила огромная кошка цвета патинированной бронзы, огромная и пушистая. Кошка посмотрела на гостью и вернулась на диван. Я умостилась в кресле возле балкона, откинула голову и закрыла глаза, будто исчезла.
На стене висела кукла с чудной головкой из папье-маше, изображавшая Марию Медичи. Когда Андрюше было семнадцать лет, он дружил (так он сам окрестил эту особенную форму общения) с девушкой, которая училась в Консерватории играть на альте, в мечтах жила в старинном королевстве и на свою стипендию возила его во Львов. Она и подарила ему эту куклу. Он расстался с девушкой по той причине, что у нее отказали ноги, когда он покурил с ней анаши. Она не могла двигаться, и с ней, к тому же, случилась истерика. Тогда он испугался и перестал с ней встречаться, и с тех пор довольствовался более жилистыми и духовно крепкими особами.
Такое ужасное фарфоровое лицо, как у этой куклы с белыми буклями, можно было представить только в сказке Гофмана: лицо улыбалось. Но, внимание! Внимание! Как оно улыбалось! Высокие скулы, выдающийся белый подбородок. Взгляд словно протаранивал насквозь, как ножами. Глаза искрились белой алебастровой приятностью, от которой холодело в груди. И этот растянутый рот, и выпирающие зубы, застенчиво прикрытые черным веером.
– Это Черная Отравительница, Мария Медичи. Одна девушка подарила…
– Да, Энди рассказывал.
Энди тоже звали Андреем. Чтобы не путаться, при знакомстве тезки решили Ольховского оставить Андреем, а второго Андрея впредь называть Энди. Прижилось. В конце концов, они уже много лет знакомы.
Балкон был приоткрыт. Ветер отталкивал занавеску и ничуть не тревожил штор. Шевелил слегка мои волосы. Париж за окном уже гудел. Квартира Ольховского находилась под самой крышей шестиэтажного дома, откуда открывался такой вид, словно мы были под крышами Парижа, на том угловом балконе, где прошло детство Рене Клера. Я раскачивалась, обхватив пальцами перила, покрытые золотистыми крупинками лишайников, вместе со мной раскачивались крыши, балконы и цветы в жардиньерках.
На балкон выброшены были доски, ящики, банки с олифой и всяческий хлам, на веревках висела связка сушеной рыбы, красная майка и несколько пар носков, на полу валялись пожелтевшие газеты. Голуби провожали взглядами прохожих.
На столе сушился базилик. Андрей объяснил мне, что уже два года киевские старушки не продавали среди других пряных трав базилик, и в этом году он решил засушить его сам.
«Ах, Кондор! Отнеси меня в долину Амазонки, где каждая девушка – богиня» – пела Има Сумак.
На смену ей Ольховский принес диск с африканскими барабанами, он недавно купил его на Сенном рынке, и это был, по его уверению, еще не самый интересный диск в его коллекции. Он положил конверт на шахматный столик, сам подошел к комоду, присел на корточки и начал проводить какие-то магические операции с проигрывателем. У него так четко вырисовывались все мышцы, через тонкую нервную кожу каждое движение резко расчерчивало его худое скелетообразное тело на полоски и ромбы. Он поставил диск и вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь. Музыка заполнила ровно весь объем комнаты и без всякого усилия вливалась в меня, как будто по градиенту концентраций.
Когда он готовил кофе, для чего-то ему было необходимо несколько раз стучать кофейником о стол, потом ждать и еще раз стучать, накрыв сверху лоскутом. Я продолжала ходить, рассматривала книги и портрет маленького Ольховского, склонившего на бок кудрявую головку…
Он принес кофейник, две маленькие чашечки с блюдцами, на подносе, и сахарницу, поставил все это посреди комнаты. Когда звякнул телефон, он сделал тише проигрыватель и вышел. У меня опять возникло ощущение слома событий, как будто он сейчас войдет и скажет: «Ты знаешь, я не могу сегодня».
Я не стала пить без него кофе. Выключила африканские барабаны и продолжала ходить по комнате. Снова вышла на балкон.
Внизу, видно, подул ветер, маленькие люди сжимались и заворачивались в одежды, маленькие женщины держали рвущиеся от ветра платья, маленькие дети жались к стенам домов, а маленькие старушки грелись в маленьких кухнях, где было тепло, уютно и не было ветра. Ветер по-хозяйски разгуливал по двору и гудел в лабиринтах подворотен. Но солнце теперь светило ярко-ярко, стены домов и деревья блестели. Золотое сияние разливалось по двору, отогревая его от холодной ночи. Человек из подвального издательства раскладывал книги на оконных переплетах.
Странно вдруг выбиться из известной жизни, кем-то для тебя распланированной, из известного лета. Это лето, и следующая осень, и следующая зима, и год, и через год, и вся жизнь… Я не могу выносить, когда мою жизнь кто-то хочет сделать похожей на детскую раскраску: все уже заранее нарисовано, контуры намечены на двадцать страниц вперед, а тебе остается только сидеть и заполнять их цветами. Зачем мне это лето, если я знаю, что и как будет, все в точности, если требуется только прожить его. Если все так известно, то считай, что и прожито. Мне хотелось неизвестности, сладкой неизвестности впереди и высшего наслаждения настоящим моментом. Только жизнь, только этот угрюмый ветер. Я снова оперлась животом о перила, подогнула ноги и раскачалась. В лицо плеснуло ветром.
Весь двор со старым маленьким седаном, маленькими окошками и старушками, снова закачался и закружился перед глазами, вспыхивая слепящими солнечными зайчиками. Я стала человеком без прошлого и без будущего. Как осенняя ящерица, я впитывала холод, свет и скрип деревянных перил. Внезапно все потемнело.
Это Ольховский закрыл мне глаза руками. Он расцепил руки и стал снимать с веревки носки, еще носки и красную майку.
– Идем пить кофе.
Мы уселись на пол возле аквариума, он налил в чашечки густой черный кофе.
– Посолил?
– Тебе – нет. Знаю – ты не любишь.
Мрачный аквариум помещался в углу: замутненное коряжистое дно, и там, на дне притаились два маленьких сомика, которых едва можно было разглядеть. Поведение их очень удивило меня. Лежит этот сомик неподвижно и не шелохнется, даже если стучишь по стеклу пальцем, едва лишь поведет глазом, но в какой-то ему ведомый момент подскочит, взовьется к поверхности, и оттуда – стремглав на дно. Движение его молниеносно, словно взгляд.
Свет от аквариумной лампы освещал Андрюшу, его богато орнаментированное тело: на шее висел кожаный шнур с тяжелым распятьем, и второй шнур, с ладанкой, запястье было обмотано веревочкой с множеством узелков, а на пальцы надето несколько колец и серебряный перстень с черным агатом.
Он медленно затягивался сигаретой и пил свой подсоленный кофе.
По-видимому, он претендовал на то, чтобы стать моим бенефактором, как, впрочем, и многие до него, не имея к этому никаких предпосылок.
– Почувствуй тепло… Понимаешь, кофе тут ни при чем. Можно просто дарить друг другу тепло, обычное человеческое тепло.
– Обычное человеческое тепло… Потеющие бразильцы на раскаленных солнцем плантациях. Меня тошнит от человеческого тепла.
В кофейнике больше ничего не оставалось. Я перелистывала журналы на жухлом зеленом бархате стола, где лежала дешевая офсетная иконка и книга митрополита Нестора о миссионерском труде среди камчадалов.
Я захотела еще что-нибудь послушать и направилась в Андрюшину комнату.
В комнате было мрачно. В дальнем углу светился монитор компьютера с заставкой «Кандинский».
Ольховский собирал вещи. Все было раскидано – рюкзак, карримат, новеллы Сэлинджера, лента презервативов с ребрышками в красной коробке. На столе валялись кубики бульонного концентрата, на полу – подсушенные кусочки ветчины в корочке коричневого сахара и горчицы, анчоусы в жестяных коробках. Блокнотики, карманные книжечки безвестных поэтов, альбомы Бердсли – все, что должно иметься у добросовестного каторжанина собственного интеллекта.
Знакомые безделушки.
Эти его тридцатиграммовые жестяные табакерки Javaanse Jongens с силуэтами двух обезьянок, склонившихся над самокруткой. В этих обезьянах он хранил швейные принадлежности и пряности. Кляссер с марками дружественных стран. Когда-то он мне о них рассказывал: солнце востока, отец всех народов Мао, вьетнамские марки, кубинские, ливийские, австрийская марка эпохи империи (он осторожно поправлял их пинцетиком), колониальные марки, марки правительства, бывшего у власти всего два месяца…
На столе – скромно – томик Станиславского.
Множество пластинок на полках.
Теперь Андрюша рылся в шкафу. Я рассматривала его вещи. Обожаю разглядывать мужские вещи: хлопковые майки, сорочки, галстуки, запонки. Он не без удовольствия демонстрировал мне свои сокровища.
Среди пластинок я нашла довоенные записи польского уличного оркестра и вернулась в гостиную к кошке.
Не успели мы прослушать и нескольких песен, как зашел Ольховский.
– Давай теперь с твоим рюкзаком разберемся.
Он отстегнул одеяло. Расположились на полу в прихожей.
– Так, – он начал свою речь, сделав серьезное лицо, большим и указательным пальцем провел по углам рта, отчего обозначились все морщины и складки его бассетовского лица. – Опыт хождения по трассе имеется?
– Ну…
– Ясно, – он вздернул брови. – Что ж, посмотрим, что у тебя там… Энди придет – еще раз все перетрясет, так что все будет хорошо. Миска, кружка есть?
– Есть.
– Зубная паста, щетка?
Я кивнула.
Он стал выбрасывать мои вещи. Первым полетел сверток с орехами и фруктовые пастилки.
– Это мы не берем!
Он откладывал все в сторону, на пол.
Плоская коньячная бутылка была вместо фляжки, на энтомологической практике я таскала в ней воду.
– Что это? Нельзя брать с собой бутылки. Бутылки – это такое дело, они разбиваются…
Он так вздохнул, как будто говорил о погибшей любви.
– Фляжку ты с собой не взяла, я так понимаю.
К фляжкам у меня с детства недоверие. Мне всегда казалось, что жидкости в солдатских флягах приобретают какой-то нездоровый привкус, возможно, это из-за разнообразных алкогольных пристрастий владельцев этих фляжек. Объяснять это Андрюше не имело смысла. Как не имело смысла рассказывать, из скольких солдатских фляжек мне выпало пить. Я прекрасно знала, что Зигмунд Фрейд являлся для Андрюши непререкаемым авторитетом, сама же предпочитала в некоторых вопросах придерживаться взглядов Адольфа Адлера, особенно в том, что сексуальное влечение – не есть исходная мотивационная тенденция. Поэтому просто промолчала.
– А это что? Это ты вместо кружки?
Он вынул мою чашку молочного цвета, поставил ее на ковер, встал и молча ушел на кухню. Через минуту он вышел, держа в руках металлическую кружку, покрытую белой эмалью, с какими-то нарисованными травинками и сыренькими полевыми цветочками.
– Кружка нужна для того, чтобы можно было вскипятить воду на костре, ты же не думаешь, что за тобой будут возить полевую кухню? Или, может быть, ты не знаешь, что в керамической чашке не кипятят?
Он продолжал разбирать содержимое рюкзака. Все вещи находились в двух отдельных свертках, таких больших, что это занимало бестолково много места. Он вытащил свертки. Одежды у меня было немного. Белье, две пары носков, новое летнее платье, батистовая рубашка, африканская туника и зеленая юбка, разрисованная купальными папоротниками с желтыми огнями. И, конечно, ботинки. Он все это извлек, и почти ничего не осталось: сверток с апельсинами и кусок хлеба, завернутый в подарочную бумагу с золотыми звездами. Жестяная коробка от леденцов с черепами полевок привела его в некоторое замешательство. Он бровью сделал так: «Ну что ж, ну что ж!»
Полотенце в одном свертке с флаконом шампуня и мылом, которое я выиграла на соревнованиях в беге на четыреста метров, пачка таблеток сухого горючего, французский словарик (память о Богдане), узкая черепаховая расческа с куском газеты, чтобы на ней можно было играть, сложенный вчетверо дайджест, пластырь, узкий нож с деревянной ручкой, ложка, литая медная пряжка от старого ремня, изрисованные блокноты, газовый баллончик, пачка снимков, книга Рене Менара о мифах в искусстве (с теоретическими выкладками новых язычников), серый блокнот с лучшим из англоязычной поэзии, один чистый блокнот, документы и ручка.
Если думать, что едешь в отпуск, то достаточно, но для меня это было началом новой жизни и это были все вещи из прошлого, которым я позволила остаться. Все мое прошлое поместилась в один рюкзак. Обычно при всех переездах я еще заботилась о коллекции подков, собачьем черепе, найденном на железнодорожном полотне и покрытом ржавыми пятнами, конской лопатке и пястной кости – с ними все же пришлось расстаться. Рюкзак был для меня скорее лишней обузой. Одежду, как и книги, можно найти в любом месте.
Начал заново складывать одежду. Не тот человек, чтобы краснеть при виде женского нижнего белья – это придавало мне спокойствие.
– Наверное, лучше будет, если ты попытаешься одеяло тоже положить в рюкзак.
Он принес мне оранжевый карримат, вещи по-отдельности накрепко свернул – и все уместилось.
Раздался телефонный звонок.
– Что я могу тебе сказать? Белый? У меня. Точнее, пока еще не у меня, но, – он помолчал в трубку. – Безусловно! Я знаю только, что они используют сорбент. Ну, я тебе при встрече объясню, зачем. Нетелефонный разговор.
Меня так веселила серьезность этого морщинистого мальчика.
– Разговоры с иностранцами ты берешь на себя. А я – с нашими. Понимаешь, люди, когда берут кого-то с собой в машину, они делают это для того, чтобы с ними разговаривали. Он, может, сутки один ехал, и теперь ему нужен собеседник.
Он собирал аптечку – такой дорожный сундук, в котором можно вполне было уместить труп.
– У тебя есть еще какие-нибудь таблетки, лекарства, давай сюда!
– Какие еще лекарства? Кстати, а можно сейчас ездить с газовым баллончиком?
– Полезная вещь.
– А как же таможня?
– Прятать нужно уметь. «Нервно-паралитический»? Сомневаюсь. Безопасней его все же оставить.
Я ушла в гостиную слушать польский оркестр. Иногда заходила кошка проконтролировать мое поведение. Зайдет, взглянет, что все в порядке – и тихо удалится. Затем я снова бродила по квартире и пила свой виноградный сок из коньячной бутылки.
Взглянув в очередной раз на сверток с апельсинами, он сказал:
– Ладно, пожалуй, можно взять, пить в дороге захочется.
Необходимые в дороге мелочи он с таким воодушевлением собирал и раскладывал по всем карманчикам.
– Ты спички взяла?
– Нет.
– Так возьми, – он протянул мне несколько коробков. – Расположи в разных местах. Если в одном месте промокнут – в другом останутся сухими.
Обратил внимание на то, как я смотрю на его нужные мелочи.
– Ты знаешь, мы все это берем, а в дороге окажется, что какую-то мелочь, но забыли, как бы мы сейчас ни старались всего предвидеть.
Он всегда и всюду чувствовал себя дома, и всегда старался обеспечить себе максимальный комфорт. Самое главное – чувствовать себя всегда и всюду дома, всегда и всюду вправе, чувствовать себя сыном своего отца, чувствовать хозяином.
Он подошел ко мне сзади и что-то повесил мне на шею. «Что-то» больно ударило меня по ключичной ямке. Это был цеппелин. Маленький свинцовый цеппелин, совсем как настоящий.
– Ты помнишь Шизгару? Она привезла из Лондона.
И враз жертвой моей повышенной мозговой секреции стала хорошая девочка Шизгара с бисерными украшениями на запястьях и доброй улыбкой – я вспомнила обстоятельства нашего знакомства и не смогла удержаться от смеха. Попыталась отхлебнуть из бутылки сок, но он вдруг пошел горлом, выплеснулся и потек по подбородку.
V
Сегодня видела сон. В дверь комнаты для свиданий вошла странная монахиня, вся будто в черном сиянии, монахиня эта подвизалась, как было понятно, на поприще коммивояжера. Зашла она, стало быть, держа под мышкой маленький гробик, и, по входе, как и все коммивояжеры, быстро представилась, от какого она монастыря и зачем хочет предложить свой товар. Она ловким движением поставила гробик на ксерокопировальный аппарат и открыла покрывальце, обшитое ручным кружевом. В гробике лежала восковая старушка, сморщенная, как весенняя картофелина и весьма серьезная. Раздевая ее, как куклу, и демонстрируя разные старушкины одежды и черные ленты, вышитые золотыми нитками весьма искусно, разные крестики и ладанки, она говорила, что лучше всех вашего покойника оденут в нашем монастыре, где монахини сами плетут кружева, и все в том же духе.
После такого сна не очень хочется идти туда. Хотя ксерокопировального аппарата там нет – только маленький холодильник на том самом месте, что и во сне.
Новенькая в меня влюбилась. Бегает за мной, вчера прилезла в палату после отбоя. Днем зовет уйти в одну из картин на стене, говорит, если мы возьмемся за руки и очень захотим, то у нас все получится. Санитарка пришла – увела ее. Оказывается, она уже не впервые здесь. Сидела, рассказывала, как они устраивали тут беспредел и голыми курили в палате.
Пришли снова. Зовут.
В комнате для свиданий – только кошка.