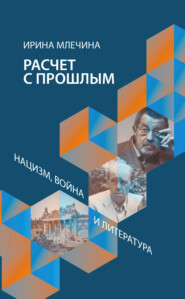скачать книгу бесплатно
Как-то я посетила уже вышедшего к тому времени в отставку посла в его прекрасном доме в Мюнхене. Я уже не увидела там его русской жены Ирины, дамы элегантной и властной, принадлежавшей к потомкам первой русской эмиграции. Они после совместной жизни в Москве, видимо, расстались. Г-н Аллардт, высокий крупный седовласый мужчина, немало постаравшийся для заключения упомянутого договора, встретил меня очень гостеприимно, по-дружески, угостил домашним обедом, приготовленным специально по этому случаю экономкой, и показал множество отличных полотен, украшавших стены его жилища, среди них картины Ильи Глазунова – этот российский живописец всегда любил работать для дипломатического корпуса. Мы долго вспоминали минувшие дни, потом, понимая, что пора вставать, я рассказала ему знаменитую шутку Козьмы Пруткова про три вещи, которые, однажды начавши, трудно окончить: говорить с другом, вернувшимся из похода, есть вкусные вещи и (тут он смеялся с особым удовольствием) «чесать, где чешется». Как любитель всего русского он не мог не оценить остроумия Козьмы Пруткова.
Я попросила г-на Аллардта вызвать такси. Он замахал руками: «Нет, что вы, я сам вас доставлю в гостиницу». Мы спустились вниз, сели в машину и с помощью какой-то выставленной в окно электронной штучки стена, отделявшая нас от улицы, плавно поднялась вверх. Мы выехали из гаража и ворота сами опустились. Тогда это произвело на меня сильное впечатление и еще раз напомнило о том, в каких разных мирах мы живем.
Вспоминая посла Аллардта, с которым нас связывали действительно теплые дружеские отношения, я не могу не упомянуть и его сына Александра Аллардта, который тоже был дипломатом и, как и отец, сердечно с нами дружил. Александр был очень красивым мужчиной – можно сказать, настоящим красавцем, к тому же очень мужественным. Он это наверняка знал, но, как казалось, никогда не использовал этот козырь в отношениях с людьми, особенно в России. Возможно, с женщинами – да, но это так естественно…
Самой необычной, экстравагантной и обворожительной фигурой в истории наших отношений с западными немцами был Андреас Майер-Ландрут, который, когда мы познакомились в 1967 году, был пресс-атташе посольства в Москве. Мы сразу почувствовали взаимное расположение – надо полагать, немцам импонировала непривычная открытость и прямота Виталия Сырокомского, искренность и отсутствие фальши в отношениях, которые всегда его характеризовали.
У Майер-Ландрута, который был родом из Прибалтики, было двое маленьких детей и молодая жена, кажется, титулованная венгерская аристократка. Она очень забавно и охотно смеялась, и Майер-Ландрут, человек с никогда ему не изменявшим чувством юмора, говорил: «Я женат на три генерации такого смеха». Тут уже смеялись мы и отважились спросить, что он имеет в виду. Он пояснил, что так смеется не только его жена, но и теща и дочка. Получалось, действительно «три генерации». Кстати, правильно склонять существительные он научился очень быстро и говорил по-русски безупречно.
Однажды он пригласил нас в дом своего коллеги фон Штудница, который потом, уже после Майер-Ландрута, тоже стал послом ФРГ в России, это уже было в 90-е годы, и теперь на приемы ходил мой сын Леонид Млечин, который несколько раз интервьюировал его, работая заместителем главного редактора «Известий», а потом политическим обозревателем ТВЦ.
Но вернемся в 1967 год (а может, это было годом позже?). Добросердечный хозяин фон Штудниц и Майер-Ландрут познакомили нас с очень интересным персонажем, которого представили как последнего секретаря Льва Толстого Виктора Лебрена. К тому времени Лебрен был в очень преклонных годах и приехал в Россию из Франции. Я сделала с ним небольшое интервью для «Литературной газеты», каковое было опубликовано и вызвало большой интерес – как-никак секретарь Льва Толстого! А в семейном альбоме осталось несколько примечательных фотографий: Виктор Лебрен, Андреас Майер-Ландрут, Виталий Сырокомский и я.
Мне посчастливилось быть у г-на Майер-Ландрута дома, в Германии. Те маленькие дети, которых я когда-то увидела в квартире на Шевченковской набережной спящими в кроватках, расположенных в два яруса, к тому времени превратились во взрослых молодых людей. Сын, помнится, готовился стать летчиком. Дочь очень напоминала мать – такая же сверхизящная, темноволосая, с осиной талией. Мы были очень удивлены, узнав, что и этот брак не выдержал испытания временем и распался, хотя и продержался гораздо дольше, чем у большинства знакомых. Майер-Ландрут женился вновь, на очень интересной и привлекательной женщине. Сделав блестящую карьеру, дважды побывав послом ФРГ в Советском Союзе и статс-секретарем, а потом главой Ведомства федерального президента, он в возрасте 65 лет, как положено для государственных чиновников в ФРГ, вышел в отставку, но работать не перестал, а приехал снова в Москву в качестве генерального представителя концерна «Даймлер-Крайслер»…
Среди наших дипломатических знакомых был и еще один посол ФРГ – д-р Хайкен. С ним связана особая, в чем-то ужасная, но все же завершившаяся счастливо история. О ней Виталий Сырокомский подробно рассказал в своих воспоминаниях, опубликованных в 2001 году в журнале «Знамя».
Эберхард Хайкен работал в посольстве ФРГ в Москве и мы очень мило общались. Однажды после очередного скандала, когда из ФРГ выдворили одного или нескольких советских граждан, работавших под посольской крышей не по прямому назначению, Виталия неожиданно вызвали на Лубянку и «попросили» опубликовать материал, компрометирующий Хайкена. Нужен был повод выслать кого-то из немецких дипломатов из Москвы. Выбор пал именно на Хайкена, милейшего, интеллигентнейшего человека.
Виталий попытался сопротивляться. Он сказал: «Только не в «Литгазете»! Дайте куда угодно, только не нам!» Но «хозяева» настаивали. Попытки сопротивляться Лубянке мало кому удавались или кончались плачевно для тех, кто их предпринимал. Короче, материал в «облагороженном» виде появился в «ЛГ», и Хайкену пришлось уехать. В то время послом ФРГ в Москве был г-н Зам, с которым у нас тоже сложились отличные отношения – супруги Зам даже приезжали к нам в Переделкино, мы угощали их медвежатиной, потом ездили вместе к летней резиденции Патриарха – была Пасха – и Замы были в восторге. И вдруг эта жуткая публикация.
На каком-то приеме Зам подошел к Виталию и сказал, что очень разочарован, хотя всегда считал его другом ФРГ и своим лично. Виталий огорченно промолчал. После этого посол подошел ко мне и демонстративно громко, чтобы слышал муж, сказал: «Наше отношение к вам, фрау Ирина, остается неизменным. Мы по-прежнему ценим вас как германиста и заинтересованного исследователя нашей культуры. Вам мы всегда рады». После этого нам ничего не оставалось, как покинуть прием.
Затем настали иные времена, наступили «перестройка» и «гласность», и через какое-то время послом в Москву приехал никто иной, как г-н Хайкен. Мы пригласили их с женой к себе домой, и Виталий, не углубляясь в детали, рассказал им суть истории. Хайкен сказал, что все забыто, что настали новые времена, и кто старое помянет… Это было в самом начале 90-х годов, и с едой в Москве было, как известно, не очень шикарно.
Я долго обдумывала, как «сварить суп из топора», и наконец решила воспользоваться давно полюбившимся болгарским рецептом: в глиняные (купленные в той же Болгарии) горшочки кладется все, что есть в доме: нарезанная колбаса или мясо, или кусочки курицы, брынза, ломтики помидора, тертый сыр, взбитый с молоком и яйцом. Все это запекается в духовке. Я сумела раздобыть даже брынзу. Содержимое горшочков покрылось румяной корочкой. Я специальной рукавицей извлекла их из духовки и поставила на поднос. Горшочки были очень горячие. Я взяла поднос и понесла в комнату, где за столом сидели гости. Поставив поднос одной стороной на стол, я другую сторону придерживала рукой. Но когда я сняла два первых горшочка со стороны, стоявшей на столе, и пододвинула их гостям, в этот момент, лишившись равновесия, поднос рухнул на пол с оставшимися горшочками, которые на глазах окаменевших гостей и к ужасу хозяйки разбились вдребезги, завалив пол кусками горячей еды.
Преодолев шоковое состояние и извинившись, я пошла за веником. Потом, собрав мусор, я вдруг начала хохотать, и следом расхохотались все, в том числе онемевшие от потрясения Хайкены. Они тут же принялись деловито раскладывать ложкой содержимое своих горшочков по всем тарелкам. Потом Хайкен поднял тост за меня и сказал, что сегодня ему понравилось все: вкусная еда и главное, смех хозяйки, которая не стала причитать, ругать себя и судьбу, а просто засмеялась… Пошутив еще по поводу случившегося, выпив вина, потом чаю, повспоминав прошлое, мы расстались, как добрые друзья…
***
В конце 1970 года я попала на съезд писателей ФРГ. Слова «съезд писателей», столь привычные для советского уха, были отнюдь не привычными для уха немецкого. Да и сам съезд ничем не походил на советские, с их многочасовыми секретарскими речами, бесчисленными приветствиями, официальщиной и скучищей, заведомо исключавшей всякое живое слово. Все заранее процеживалось множеством инстанций, на завершающем этапе – в ЦК КПСС.
И вот я оказываюсь в фойе штутгартского концертного зала «Лидерхалле», где толчется огромное количество народа, в том числе молодежи. Здесь выставлены плакаты молодых графиков, варьирующие главную тему съезда, проходившего под девизом «Единство одиночек, писатель в мире труда». На плакате перо, зажатое в руке, острием обращено к надписи: «Покончить с эксплуатацией авторов». На другом – стопка книг, на ней – подставленная для подаяний шляпа. Подпись: «Конец скромности» – так озаглавил свою речь на съезде Генрих Бёлль. Крылатый Пегас, изображенный в виде дойной коровки. Рядом – увенчанный лавровым венком ослик: из-под хвоста в шляпу, подставленную издателем, падают монеты. И текст: «Писатели – ослы».
Накануне съезда я потратила немало усилий, чтобы договориться об интервью с Генрихом Бёллем – надо было написать статью для «Литературной газеты». Наконец, заручилась обещанием Бёлля встретиться за полчаса до начала в фойе. Пока я в огромной толпе взволнованно поджидала Бёлля, боясь не пропустить, ка мне подошла высокая молодая женщина с каким-то огромным подписным листом и сказала: «Я из «Эмнести интернешнл» и протянула лист и ручку. Я даже не вникла в суть того, о чем меня просят и что надо подписать – какое-нибудь очередное возмущенное письмо по поводу притеснения диссидентов в СССР или «восточном блоке».
Меня охватил дикий страх. Слово «Эмнести интернешнл» ассоциировались с ЦРУ, со «злобными происками империализма», попытками «влезть во внутренние дела СССР» и т. д. В общем, это было исчадие ада. Я была уверена, что и здесь, в этом зале есть соглядатаи, и если увидят, что я что-то подписываю для этой организации, – конец всему, всем поездкам, всем встречам с Бёллем или Грассом и вообще журналистской деятельности. В общем, как в «Мефисто» Клауса Манна: вы выбираете или карьеру или благородство.
В Советском Союзе совместить это было почти невозможно (как впрочем и в свое время в той стране и тех условиях, которые имел в виду Клаус Манн). Кому-то это удавалось – например, Юрию Трифонову или Булату Окуджаве. Но остальным? Едва ли. Одним словом, я что-то промямлила в ответ, дав понять, что очень спешу и не располагаю временем, чтобы прочитать текст.
К счастью, в этот момент появился спаситель Бёлль, и к нему ринулась толпа журналистов. Он улыбнулся своей чарующей улыбкой, сказав: «Потом, потом, господа, извините» и, взяв меня под руку, повел в какой-то кабинет, где я в течение получаса мучала его вопросами…
Меня поразил вид зала, где проходил съезд. После советского благочиния и рангопочитания необыкновенным казалось все. В огромном, вмещающем более двух тысяч человек, помещении мест на всех не хватило, и молодые бородачи и их эмансипированные подруги без церемоний устраивались на полу. Студенты и молодежь заняли все проходы, разместившись на полу всюду, где был хоть клочок незанятого пространства – вплотную перед сценой, между рядами, на галерке.
Я увидела много молодых людей в инвалидных колясках. Эта социальная активность «людей с ограниченными возможностями», как уже тогда политкорректно называли в ФРГ инвалидов, и отношение к ним – благожелательное, ровное, уважительное, отнюдь не снисходительное или покровительственное или, тем более, хамское, – вообще поражало повсюду в этой стране: на разных культурно-политических мероприятиях, собраниях, семинарах, просто на улице и в транспорте, особенно в аэропортах.
Так вот, и здесь, на съезде, я увидела коляски, множество пестрой молодежи, нисколько не смущенной своим положением. Сверстники подходили, здоровались, что-то обсуждали. И абсолютно никого не огорчала необходимость сидеть на полу.
Еще больше поразило то, что в таком переполненном самыми случайными людьми зале появился федеральный канцлер Вилли Брандт, без всякой охраны, прямо по лесенке взбежал на сцену и сел рядом с Бёллем и Грассом. На съезде обсуждались главным образом социальные проблемы писателей – никакой трескотни о роли и задачах литературы в воспитании масс, о народности и патриотизме (слово «патриотизм» десятилетиями после разгрома «рейха» считалось неприличным, непристойным – поистине «последним прибежищем негодяев»). Это слово, как и «родина», «отечество» и пр., можно было встретить только в негативном смысле. Кое-что изменилось лишь значительно позднее, в связи с объединением Германии.
Меня особенно поразило, что эти считавшиеся непригодными для употребления слова вдруг замелькали – и чуть ли не в горделивом смысле – в публицистике писателей, которые раньше были как раз горячими противниками и этих слов, и того исторического контекста, который за ними стоял – например, Мартина Вальзера, который всегда считался «левым», что в те годы было почти синонимично словам «демократ» и «антифашист».
Итак, речи писателей на съезде касались преимущественно не «творческого метода» и не выполнения каких-то грандиозных мессианских задач (Бёлль всегда противился, и возмущенно, тому, чтобы его называли и считали «совестью нации»), а самых простых вещей, вроде пенсий, гонораров, отчислений из библиотек за пользование книгами и т. д.
Присутствие и выступление Вилли Брандта придавало съезду особый оттенок. До сих пор, при демо-христианах, отношения между «духом и властью» были почти враждебными, что кульминировалось в высказываниях «отца экономического чуда» Людвига Эрхарда и президента Генриха Любке, которые именовали писателей весьма нелестными словами (вроде «шавок» и «невежд»). Речь Вилли Брандта покоряла своим доброжелательным, товарищеским, дружеским тоном. Говоря о ситуации в мире – а съезд проходил после заключения Московского договора, опиравшегося на «новую восточную политику», – канцлер призвал писателей способствовать тому, чтобы «разум снова не потерпел крушения в борьбе с невежеством».
Бёлль говорил о том, что практические вопросы, касающиеся материальной свободы писателей, раньше почти не занимали места в общественных дискуссиях. А между тем, писатели, которые по характеру и условиям труда являются «одиночками», начинают все яснее осознавать свое зависимое положение. «Кто мы – если и не работодатели и не работополучатели?» – с таким вопросом обращался к коллегам Гюнтер Грасс, которому, казалось бы, грех было жаловаться на гонорары, так как он был одним из самых известных и высокооплачиваемых литераторов. Однако именно он счел нужным озаглавить свою речь так: «Писатель и профсоюз». Сходную мысль развивал Мартин Вальзер, тоже звезда первой величины на западногерманском литературном небосклоне. Обращение писателей к проблемам своего материального положения – это реакция на диктатуру рынка, – говорил Вальзер.
В Германии второй половины ХХ века поэт вовсе не был чем-то большим, чем поэт. Поэтам вообще жилось трудно – на литературные заработки не мог существовать никто, все они зарабатывали на телевидении, радио, в кино, университетах. Но и прозаикам было непросто. Вольфганг Кёппен годами и даже десятилетиями жил на средства, которые выплачивало ему издательство «Зуркамп», дорожившее связью с этим незаурядным автором. Издав три его знаменитых романа 50-х годов, оно исправно платило ему в надежде получить четвертый, который так никогда и не состоялся.
С Кёппеном я встречалась много раз. Мне нравились его романы. Увидев его в первый раз в 1967 году, я была одновременно разочарована и очарована. Он был тихий, сверхскромный, молчаливый человек, который не любил «паблисити», не любил давать интервью. Рассказывают, как он надписывал свою книгу Марселю Райх-Раницкому, одному из самых известных в ФРГ критиков (кстати, сам Райх-Раницкий вспоминает этот эпизод в своей вышедшей позднее книге, но я слышала это как анекдот еще в 70-е годы от общих знакомых в ФРГ). Итак, Кёппен преподнес Райх-Раницкому экземпляр своего сочинения. Тот поблагодарил и попросил надписать его, как это принято, когда автор дарит кому-то свое произведение. Тем более что Райх-Раницкий не раз писал о Кёппене. Кёппен смутился, задумался и сказал, что это трудно, что для этого нужно время и что он вернет книгу завтра. Он действительно ее вернул – с надписью: «Г-ну Марселю Раницкому с дружеской симпатией». Подпись, дата…
В первый раз я встречалась с Кёппеном в ресторане одной мюнхенской гостиницы. Кёппен ел очень мало и так же мало говорил. Мне просто клещами приходилось извлекать из него каждое слово. Я хотела написать о нем большую статью и, кроме того, предстояло подготовить главу о нем для академической «Истории немецкой литературы». Я, как водилось в те годы, ждала от него социально-политического и эстетического комментария к его романам, весьма критичным по отношению к ФРГ 50-х годов. Но именно этого он не хотел делать. И о своих «творческих планах» говорил крайне скупо. По сути, во время встреч – а их было четыре или пять – он говорил примерно об одном и том же романе, над которым работает, но у которого всякий раз было иное название. Роман так и не вышел, были наброски, опубликованные в газетах и журналах, и появилась отдельным изданием прелестная мемуарная повесть «Юность» – импрессионистское произведение о его собственных юных годах, содержавшее удивительно точные, хотя и отрывочные наблюдения над жизнью Германии.
В 1976 году я побывала у него дома. Мы сидели в его рабочей комнате, заваленной – в самом прямом смысле этого слова – книгами и газетами. Сесть было некуда, потому что горы книг и газет высились на полу, на письменном столе, на единственном диване и единственном кресле, не говоря уже о книжных полках. «Вот видите, – смущенно сказал он, мучительно обдумывая, куда бы усадить свою гостью. – Гора газет, никто не хочет ее забрать. Как-то приезжали из «Красного креста», обещали увезти, но так больше и не появились. Не могу найти никого, кто вынес бы эту гору». Я почему-то вспомнила о тимуровцах – они наверняка бы ему помогли. Но тимуровцев уже не было не только в ФРГ, но и в СССР…
Кёппен был тогда уже весьма пожилым человеком, ему было лет 70, что впрочем не помешало ему, как я спустя многие годы прочитала в прессе, уже ближе к 80-ти завести роман, и притом серьезный, с совсем юной особой – прямо-таки как Гёте, что показалось мне странным и мало правдоподобным, потому что до этого я никогда не слышала о связанных с ним любовных историях, и вообще ходили слухи о его якобы не совсем обычной сексуальной ориентации, как принято выражаться теперь, но это были именно слухи. Впрочем, чего только на свете не бывает!
Кёппен жаловался: в ФРГ никто не читает. Когда я – с внезапно пробудившимся советским пропагандистским азартом – гордо заявила, что в СССР читают все («Вы бы посмотрели, что происходит в метро: почти каждый держит в руках книгу или журнал!») и что главная трудность – достать хорошую литературу, ее не хватает, Кёппен страшно удивился. «У нас, знаете ли, был опрос и выяснилось, что во многих домах есть всего одна книга», – печально сказал он.
Я хотела утешить его старым советским анекдотом про милиционера, которому товарищи ко дню рождения решили сделать подарок. «Давайте подарим ему книгу», – предложил один из них, самый продвинутый. Но другие тут же возразили: «Книга у него уже есть». Но этого анекдота я так и не рассказала – он стилистически не вписывался в замкнутый книжно-газетный мир этого старого печального человека. А он, как и почти все его коллеги в ФРГ, с сожалением говорил о том, что возникает «новая форма безграмотности: всю информацию получают из телевидения, даже в школе». (Слава богу, что Кёппен не дожил до распространения интернета.) В том, что он сказал насчет телевидения, для меня не было ничего нового с тех пор, как в 60-е годы я прочитала некоторые работы Маршалла Маклюэна.
Позднее, слушая российские стенания по аналогичному поводу (телевидение отравляет молодое поколение), я вспоминала Кёппена. Мне кажется, что в ФРГ телевидению так и не удалось осуществить «глобальный заговор»: духовно отравить немецкую нацию. Конечно, там хватало всего: и скинхедов, и прочих националистов, с радостью поджигавших общежития турок или вьетнамцев, или цыган, но в целом заложенные после разгрома нацизма демократические основы казались достаточно прочными, чтобы общество могло и хотело противостоять проявлениям экстремизма. А вот за двенадцать лет нацистского господства, когда телевидения не было и в помине, Гитлеру удалось разложить и развратить немцев и втравить их в преступления и в чудовищную войну, которая кончилась для них катастрофой.
Как и все другие авторы, Кёппен жаловался, конечно, не только и не столько на телевидение. Ему представлялось ужасным, что писатели, которые хотят большего, нежели просто развлекать публику – например, детективами, – жить доходами от литературы не могут. Конечно, продолжал он, карманные дешевые издания выходят большими тиражами, но авторам от этого мало проку. Знаете ли вы, с горечью говорил он, что уборщица получает в час больше, чем писатель – 8-10 марок. «Вот поэтому и приходится делать что-то для телевидения, радио, книгами я бы жить не мог, мне попросту было бы нечего есть. Бёлль, Грасс, Ленц, Фриш – пожалуй, единственные, кто много зарабатывает своими книгами. Будь у меня деньги, я бы спокойно мог работать, писать романы, не прерываясь для литературной поденщины. Ведь у нас писатель не имеет пенсии, а жить тем, что было написано раньше, невозможно». Конечно, Кёппен не говорил ни о том, что с романом у него все не ладится, ни о том, что на самом деле его материально поддерживает – или даже содержит – издательство «Зуркамп», вернее, его владелец Унзельд, который, видимо, считал это делом чести.
Кёппен рассказывал, что намеревался написать роман об Америке: «Импульсом для этой идеи было убийство Кеннеди, потом убили его брата, потом Мартина Лютера Кинга. Действительность меня обогнала, не знаю, поняли ли вы мою мысль: развитие событий опередило меня, оказалось богаче и страшнее, чем вымысел».
Конечно, я понимала, что сумею использовать в статье слова Кёппена о том, что в Германии «сейчас мрачный климат» (хотя мне климат в ФРГ казался отнюдь не мрачным, а весьма привлекательным). Но Кёппен считал, что «идет процесс обуржуазивания, углубления консерватизма, замаскированного красивым словом «ностальгия». Различие между двумя большими партийными блоками не так уж велико, все одинаково обещают социальное процветание». Сегодня я понимаю, что он был не так уж не прав, но все, что он говорил о Германии, было несколько сгущено, драматизировано – таково было его восприятие…
Генриха Бёлля я впервые увидела осенью 1962 года в Москве, в Малом зале Центрального дома литераторов. Он приехал вместе с двумя коллегами: детским писателем Рихардом Герлахом и совсем «не-детским» Рудольфом Хагельштанге, весьма известным в те годы в ФРГ (вернувшись домой, Хагельштанге написал не дружественную – мягко говоря – книгу о Советском союзе под названием «Матрешки в матрешке» (по-немецки «Куклы в кукле»). Двое спутников Бёлля меня занимали мало. Интересовал меня, как и всех остальных, только Бёлль. В тот приезд, кстати, он посетил еще Ясную Поляну и Ленинград. Он был уже очень популярен в СССР: все, или почти все, написанное им к тому времени, было здесь издано. У него была большая и увлеченная читательская аудитория.
Я очень хорошо помню этот переполненный Малый зал, куда набилось больше народу, чем он мог вместить; многие сидели на дополнительно принесенных из фойе стульях. За большим столом лицом к публике разместились немецкие писатели. Рядом с Бёллем сидел Лев Копелев, который переводил с немецкого для слушателей и с русского для гостей. По-моему, Бёлль и Копелев тогда встретились впервые (хотя Копелев, конечно, читал все, что опубликовал Бёлль). Именно с этого, первого приезда Бёлля в нашу страну – а он побывал здесь потом еще пять раз – началась их дружба. Позднее, когда Копелев оказался в опале, а Генрих Бёлль написал послесловие к его воспоминаниям и к тому же стал поддерживать Александра Солженицына и других преследуемых в те годы писателей, отношение к Бёллю со стороны тех, кто официально руководил в Советском Союзе литературой, резко изменилось, и его какое-то время у нас не издавали.
Но в 1962-м еще все было «в порядке», все улыбались, в том числе руководивший церемонией в Малом зале ЦДЛ и сидевший во главе стола Борис Леонтьевич Сучков, известный литературовед, который по долгу службы и в соответствии со сложившимися обычаями той поры, немедленно вступил с Бёллем в идеологическую полемику.
Собственно, спорить-то было не о чем. Бёлль и тогда, и раньше, и потом испытывал чувство вины и стыда за то, что – не по своей воле – участвовал в войне, в том числе на Восточном фронте, то есть воевал непосредственно против Советского Союза. Он этого никогда не скрывал, и в своих произведениях и в личных беседах откровенно говорил об этом и искренне – а он вообще был очень искренний человек – сожалел, что дело было именно так. Он никогда не пытался оправдаться (и не любил, когда это делали его соотечественники), снять с себя тяжелое бремя вины и всегда разделял ответственность за содеянное гитлеровским рейхом, хотя от всей души ненавидел и Гитлера, и его рейх.
Но Борис Леонтьевич Сучков, человек в высшей степени интеллигентный и порядочный, с трагической судьбой – по ложному доносу он провел энное количество лет в советских лагерях, – по заведенному порядку считал необходимым затеять со всеми тремя, а особенно, конечно, с Бёллем, этот бессмысленный диспут, от которого Бёлль не уклонился и в свойственной ему мягкой манере пытался что-то отвечать напускавшему на себя воинственный вид Борису Сучкову.
Когда официальная часть кончилась и публика рванула к столу, за которым сидели немцы, мне удалось, протиснувшись к Бёллю, задать ему несколько вопросов и получить от него в подарок, с надписью красными чернилами, только что вышедшую в ФРГ тоненькую книжку – два рассказа: «Когда война началась» и «Когда война кончилась». Дома я немедленно прочитала их, и они покорили меня своей особой искренней интонацией, честностью и переданным в них горячим отвращением автора к войне. Эту книжку я храню до сих пор. Красные чернила выцвели и почти стерлись…
Потом мы встретились на уже упомянутом съезде писателей в 1970 году. Незадолго до нашей встречи был подписан знаменитый Московский договор, который должен был улучшить отношения между Москвой и Бонном и в подготовке и подписании которого немаловажную роль сыграл тогдашний федеральный канцлер Вилли Брандт.
Я спросила Бёлля, что он думает по этому поводу. Он улыбнулся своей обаятельной улыбкой и сказал: «Знаете, я не очень верю во все эти договоры. Если вы в курсе, был некогда договор Молотова-Риббентропа, а чем дело кончилось?! Так что договор сам по себе еще ничего не значит – его всегда можно нарушить». И улыбка его из озорной стала слегка печальной…
Потом мы еще несколько раз, в разные годы, встречались с Бёллем в Кёльне и каждый раз беседовали о его произведениях. Я старалась расспросить, над чем он работает, какие темы и проблемы больше всего занимают его в тот момент. И потом писала об этом. Последний раз я видела Бёлля в Москве, в 1972 году, в редакции «Литературной газеты». Я брала у него интервью. А он расспрашивал, что нового и интересного в советской литературе…
В 1974 году Союз советских писателей отправил меня в командировку в ФРГ. «Делегация» состояла из двух человек: моим спутником был главный редактор журнала «Советская литература на иностранных языках» Савва Дангулов, бывший какое-то время на дипломатической службе и потому выбранный для решения сложной проблемы – хоть как-то способствовать улучшению отношений с Союзом писателей ФРГ, которые пришли к тому времени в полную негодность. Я была придана Дангулову в качестве переводчика и человека, кое-что знающего о литературе ФРГ (я к тому времени уже защитила диссертацию по этой самой литературе). Мы прибыли в Кёльн и вечером того же дня в моем гостиничном номере раздались с интервалом минут в пять два телефонных звонка.
Один из звонивших был Пауль Шаллюк, известный писатель, наполовину, кстати, русский. Его отец когда-то попал в плен во время Первой мировой войны и оказался в Сибири, где женился на сибирячке, каковую привез потом в Германию. От этого брака и родился симпатичный и талантливый писатель Пауль Шаллюк, которого я когда-то немного переводила, с которым неоднократно встречалась и считала своим другом. Он взволнованным тоном сказал: «Ирина, здесь Солженицын!» «В каком смысле?» – не поняла я. «Ну, долго рассказывать, его выслали из Советского Союза, а Вилли Брандт согласился его принять у нас. Он сейчас в Кёльне у Бёлля».
И далее Шаллюк сказал, что сейчас приедет ко мне в гостиницу и что я должна спуститься в холл – там и обсудим потрясающую новость. Через несколько минут позвонил другой, в тот момент еще более популярный в ФРГ писатель Гюнтер Вальраф и не менее взволнованно сообщил мне ту же новость. А также добавил, что сейчас приедет ко мне в гостиницу и просит меня спуститься в холл.
Разумеется, на столь отважный шаг я самостоятельно решиться не могла, и в соответствии с субординацией попросила по телефону разрешения у Дангулова, который жил в соседнем номере. Дангулов строго сказал: «Я вам запрещаю. И думать не смейте». «Почему?» – возмутилась я. «Потому!» – ответил мой собеседник и бросил трубку. Я с огорчением перезвонила обоим писателям и что-то промямлила про своего спутника, у которого на сегодняшний вечер другие планы, мы с ним должны кого-то посетить и из нашей встречи в гостинице ничего не выйдет. Они вежливо сказали: что ж, мол, поделаешь, поговорим в другой раз.
Я хотела позвонить Бёллю и расспросить о случившемся его – уж он-то мог все рассказать точно: как, при каких обстоятельствах прибыл в Кёльн Солженицын и действительно ли он находится у него, Бёлля. Но я не решилась. Дангуловский гнев сильно охладил мое желание вникнуть поглубже в случившееся – а ведь это была настоящая сенсация. Я снова позвонила Дангулову и попыталась убедить его встретиться с немецкими литераторами, сказав, что ему самому будет интересно их послушать. А они к тому же были среди друзей Бёлля. Именно Гюнтеру Вальрафу адресовал он свое знаменитое «Письмо молодому не-католику».
Но Дангулов, наверняка, просто боялся, что его имя как-то окажется связанным – хотя бы через эту встречу и беседу с Шаллюком и Вальрафом – с именем Солженицына и снова отрывисто бросил: «Нет!», после чего немедленно положил трубку.
Признаюсь, что я в тот вечер нарушила «вето», позвонила обоим немецким друзьям, посчитав, что Дангулов уже спит и не сумеет засечь моего перемещения из гостиничного номера в холл. Так оно и было, и мы втроем до середины ночи обсуждали эту потрясающую новость, то бишь говорили о Солженицыне и приютившем его Бёлле.
С Бёллем мне больше встретиться не довелось. Он посетил Москву – после уже упомянутого 1972 года – еще в 1975 и последний раз в 1979 году. Тогда меня, как назло, не было в Москве. Потом он долго болел, у него были проблемы с сосудами ног, даже небольшая ампутация, и 16 июля 1985 года его не стало…
Я, пока жива, не забуду несколько коротких встреч с этим великим писателем и замечательным человеком, наши беседы, его интерес к людям и его доброту, готовность понять и помочь, его внимательный и доброжелательный взгляд, его чарующую улыбку…
В октябре 1976 года, находясь в те дни в ФРГ, я из уличного телефона-автомата в Штутгарте позвонила Альфреду Андершу в Швейцарию, в Цюрих. Вот так просто вошла в кабину, взяла телефонную книгу, нашла номер и тут же соединилась. Для молодого читателя приходится пояснить, что тогда, для советского человека, это было что-то неслыханное. Слышимость была лучше, чем если бы я из своей московской квартиры звонила, например, в Мытищи.
Отозвался приятный сдержанный баритон, почему-то немедленно идентифицированный мною как голос Андерша, которого я до тех пор никогда не слышала. Это был действительно он, как писали в старинных добротно-реалистических романах и повестях. Волнуясь я сказала примерно следующее: я такая-то, приехала из Москвы, перевожу роман «Винтерспельт», у меня куча вопросов по тексту и я хотела бы задать их лично. А вообще я читала все его книги и очень бы хотела встретиться.
На другом конце провода возникла короткая пауза, в ходе которой я услышала шуршанье бумаги (возможно, переворачиваемых листков календаря). Потом Андерш сказал: «Послезавтра Вас устроит? Дело в том, что на завтра я записан к своему врачу и поеду к нему в Базель, а послезавтра я свободен. Не могли бы Вы приехать к шести вечера во Фрайбург, в гостиницу «Виктория», это удобно, у самого вокзала».
«Конечно», – незамедлительно ответила я, смутно представляя, где находится Фрайбург и как внедрить в заранее составленную и не терпящую посторонних вкраплений программу моей командировки незапланированный фрайбургский зигзаг. «Буду непременно», – повторила я. «Ну и отлично, – отозвался суховатый андершевский баритон. – Значит, до встречи! Времени у нас будет достаточно – целый вечер. А рано утром мне придется вернуться в Цюрих, у меня выступление в университете».
С помощью любезных немецких друзей я изменила свой маршрут и уже днем была во Фрайбурге, этом прелестном южно-немецком городке. Впрочем, есть ли в Германии хоть один не прелестный маленький городок? Я вошла в отель «Виктория», села за столик, заказала кофе и стала ждать.
И вдруг за одним из соседних столиков я увидела знакомое лицо. Нет, это был не Штирлиц. И еще не Андерш. Для германиста, всю жизнь занимающегося немецкой литературой и знающего если не лично, то по фотографиям на суперобложках книг и на газетных полосах едва ли не всех сколько-нибудь известных литераторов, наступил поистине звездный час. Мало того, что в отель «Виктория» с минуты на минуту должен был прибыть Альфред Андерш, в нем уже сидел, спокойно и меланхолично покуривая трубочку, Зигфрид Ленц: такой же светлоглазый, светловолосый и флегматичный, как на своих фотографиях. В полном одиночестве он неторопливо потягивал нечто из высокого бокала.
Сердце мое заколотилось в непривычном и странном ритме – может, у меня началась мерцательная аритмия? Мне хотелось подойти к Ленцу и сказать: «Господин Ленц, хотя я и не перевожу на русский ваш очередной роман, выходящий в Москве, но я пишу к нему предисловие, я писала о вас статьи, я рецензировала ваши книги, я прочитала от корки до корки все тома ваших сочинений, и едва ли во всей Германии у вас нашелся бы более внимательный читатель!» Разумеется, все это было произнесено в форме столь любезного тогдашней литературе внутреннего монолога, без всяких признаков внешнего.
Я лихорадочно обдумывала разнообразные экзотические возможности превращения внутреннего монолога во внешний диалог, в моем воображении всплывали сцены из кинематографа и драматургической классики, но на жителя вольного ганзейского города Гамбурга с его устоявшимися демократическими традициями все эти кино-реминисценции могли произвести странное впечатление.
Пока я предавалась экзотическим мыслям, в обычной жизни свойственным мне не больше, чем нордически уравновешенному Ленцу, взгляд его элегически скользил по залу, не задерживаясь на персоне нездешней наружности, чьи экстрасенсорные импульсы были явно слишком слабы. Он не подозревал, что странная дама, лихорадочно перебирающая какие-то бумажки, – критик, да еще и германист. А я не знала, как он относится к критикам-германистам, хотя и подозревала, что без особой теплоты. Ведь не жаловал же их, к примеру, Гёте, воскликнувший, согласно преданию: «Бейте его, собаку, это рецензент!» Ну, может, Ленц так прямо и не призвал бы почтенных посетителей «Виктории» наброситься на «собаку-рецензента», но что-нибудь мало симпатичное подумать бы мог. И тогда, не приведи Господь, могла возникнуть ужасная драма, чреватая ухудшением едва наладившихся советско-западногерманских отношений. А вдруг он просто встанет, наденет свою капитанскую фуражечку и флегматично покинет «Викторию», чтобы никогда больше в нее не вернуться.
В моей программе посещение Ленца у него дома в Гамбурге числилось через две недели. Мой сопровождающий по имени Удо, по моей просьбе, подошел к Ленцу и стал что-то шептать ему на ухо, после чего Ленц немедленно встал и вместе с Удо подошел к столику, где я сидела, поздоровался и занял место напротив. Я назвалась. Он удивленно сказал: «Да ведь у меня в календаре записано, что вы приедете ко мне в Гамбург!» Я могла объяснить случившееся только тем, что Всеблагие, пригласив меня на этот пир, по-видимому, почувствовали, как я хочу его видеть, и пошли мне навстречу, организовав свидание раньше. Ленц сказал, что приехал во Фрайбургский университет читать лекцию, а на следующее утро собирается в Цюрих, чтобы в тамошнем университете выступить на тему «Литература и политика».
И вот в этот самый момент, как опять же писали в добротных и незатейливых старинных сочинениях, в дверях показался невысокий, сухощавый, седеющий человек в очках. Если я сразу узнала Ленца, могла ли я не узнать Андерша?! Впрочем, в отличие от меня, ни один из посетителей ресторана не обратил внимания ни на того, ни на другого, явно не подозревая, свидетелями какой исторической встречи они являются.
Зато Андерш, сняв плащ и оглядевшись, молниеносно вычислил меня: видимо, по напряженному лицу и груде листков на столе. Он сразу подошел, представился, сел рядом. Ленц сидел спиной к двери. Увидев Андерша, он вскочил. Они изумленно обнялись. Встреча была неожиданной для обоих. А для меня это было вроде неожиданного свидания Шиллера и Гёте. Всеблагие явно проявили любезность, пригласив меня на этот пир.
Выяснилось, что Андерш и Ленц не виделись лет двадцать (а прежде очень дружили). И что завтра утром они оба одним поездом уедут в тот самый Цюрих, где должны выступать в том самом университете на столь актуальную тогда (и потом тоже) тему «Литература и политика» (или наоборот). Кстати, оба очень приглашали меня поехать с ними, справедливо полагая, что для германистки из России будет полезно участвовать в таком увлекательном мероприятии, где левые студенты будут задавать маститым (и уже потому подозрительным) писателям разные каверзные вопросы.
Страстное желание увидеть не только швейцарских студентов, но и самое Швейцарию, где я никогда не была и, вероятно, уже никогда не буду, отчаянно боролась во мне со страхом перед всеми теми ведомствами и органами, компетентными и не очень, которым этот мой вояж наверняка придется не по душе: ведь им положено бдительно следить, чтобы я и на чужой территории вела себя столь же законопослушно, как и на собственной, и даже еще законопослушнее. Я вспомнила, как незадолго до того драматург Танкред Дорст вот точно так же, из самых добрых побуждений, приглашал меня на свою премьеру в Милан, утверждая, что такой переезд – сущий пустяк, о котором и думать нечего. И тогда, и сейчас я, дабы придать своему отказу светскую (или советскую?) цивилизованную форму, пробормотала что-то насчет визы, которой у меня нет.
У моих собеседников это вызвало смех. «Помилуйте, какая виза, – сказал Андерш. – Ни пограничники, ни таможенники, как правило, даже не заглядывают в вагон. Все это чистая условность, вы отлично проведете время, уверяю вас». А Ленц, в качестве дополнительного аргумента, даже разыграл веселую сценку на нижненемецком диалекте, как он пересекает границу с Данией, когда по нескольку раз в год, а то и в месяц переезжает туда-сюда. «Ну что, Ленц, опять приехал, – говорит датский таможенник и весело ухмыляется. – Да вот, приехал, – говорит Ленц. – Ну, давай-давай, Ленц», – говорит датский таможенник, и они радостно похлопывают друг друга по плечу. Мне эта сценка показалось настолько фантастической, что ни один, самый изобретательный писатель-фантаст не мог бы подняться до таких высот вымысла.
Разыгранный для меня Ленцем веселый скетч не мог отвлечь от другого, куда менее радостного и просто-таки устрашающего видения: как грозный швейцарский пограничник, взяв в руки мой серпастый-молоткастый (а если точнее, то синий служебный) паспорт, грозно скажет: «А где виза, мадам? Как же это Вы, мадам, в нашу суверенную Швейцарию пожаловали без визы? Не есть ли это неуважение к суверенному государству? Извольте переместиться туда, откуда прибыли-с!» И как меня передадут в руки сперва германских властей, а уж германские власти сообщат советским, и как за мной придут в неторжественной обстановке (примерно, как в романах Ле Карре) определенные товарищи в костюмах неопределенного цвета и как мне потом не видать не только Швейцарии, но и, что хуже всего, и ФРГ, и даже ГДР. Все это молниеносно пронеслось в моем мозгу, произведя, очевидно, выразительные отпечатки на моем лице, и на сем тема незаконного въезда на конференцию о литературе и политике была исчерпана.
Мои деликатные и доброжелательные немецкие собеседники хоть и мало знали о России, но кое-что в этой жизни понимали, и к тому же были неплохими инженерами человеческих душ. Мой побледневший вид и тоска в глазах четко объяснили им, что эта тема исчерпана.
Кстати, когда я через две недели прибыла, как было назначено, к Ленцу в Гамбург, он сообщил, что они очень сожалели, что меня не было с ними, – потому что ни одна живая душа ни с какими контрольными функциями даже не заглянула к ним в вагон.
Ленц был живой, моложавый, светловолосый, не по-северному витальный и темпераментный, с острым взглядом серовато-голубых глаз. К моменту нашей случайной встречи он путешествовал два месяца – сначала, вместе с Гюнтером Грассом участвовал в предвыборной кампании социал-демократов, агитируя за Вилли Брандта, потом выступал в скандинавских университетах, перед большими аудиториями. Но никаких следов усталости я на его лице не обнаружила. У него оказалась уникальная память – он сказал, что запоминает беседы с людьми дословно: в деталях помнит особенности характера каждого человека, и это очень помогает ему писать.
Единственное, чего не хранит его память, – это краски, цвета. В это было невозможно поверить, перечитывая к примеру, описание живописных полотен художника Нансена в романе «Урок немецкого». Зашла речь о переводах – его переводили тогда во всем мире, и отовсюду звонили переводчики с просьбой помочь. Например, переводчик из Венгрии просил: «Зигфрид, что мне делать, у тебя двенадцать видов чаек, а у нас в Венгрии всего один-единственный имеется!» «Придумай! – говорит ему Ленц. – Изобрети названия сам!» И обращаясь ко мне добавляет: «У вас в Советском Союзе, наверное, тоже много видов чаек, а то я бы посоветовал переводчику придумать что-нибудь экстравагантное, вроде: «чайка Октябрьской революции!»
Потом Ленц рассказал анекдот о том, кто и почему доживает до глубокой старости. «В доме престарелых опрос: Сколько вам лет? Сто пятьдесят. Как вам удалось дожить до такого возраста? Я всю жизнь пил водку три раза в день. А вам сколько? Мне сто сорок. А вам как удалось? Я очень много курил. Наконец, подходят к самому дряхлому. А вот как вам удалось? Я очень много любил. Сколько же вам лет? Тридцать семь!»
Андерш анекдотов не рассказывал, но, не желая отставать от Ленца, рассказал о своей поездке в Советский Союз осенью 1975 года. Он был в восторге от русских пейзажей и все время повторял: «Русский лес в октябре – сплошное золото. Восхитительно! Захватывающе!» Он был тогда в «делегации» – это слово, к удовольствию Ленца, он произнес на русский манер и очень иронически, и они оба засмеялись.
Андерш участвовал тогда в очередной конференции «Война и литература». Кстати, Константин Симонов в письме к нему, приглашавшем на конференцию, высказал мнение, что роман Андерша «Винтерспельт» – один из лучших о войне. Я готова присоединиться к мнению Симонова, который, надо думать, кое-что понимал и в войне, и в литературе. Мне вдвойне хочется согласиться с Симоновым, потому что он в этом письме Андершу очень похвалил и мой перевод.
«Делегацию» повезли по местам войны, в том числе в Одессу, а оттуда в огромный колхоз, где было «страшно интересно» и где встречали «очень гостеприимно». «Я хотел осмотреть колхоз, но директор сказал: «Вы знаете, сегодня у нас играют две свадьбы, и если вы пойдете, то уже не выйдете до послезавтра». С ними был один шотландский лорд, писатель, он не послушал директора и исчез, и появился действительно только на следующее утро и в весьма помятом виде. Потом «делегация» отправилась в пионерский лагерь, пионеры приветствовали писателей, пели, декламировали.
Но Андерш, которому все было интересно, все же сказал немного грустно: «Вместо того, чтобы нам побольше показать, нас сразу повели за накрытые столы и застолье длилось часами». Потом он стал спрашивать руководителя лагеря: «Что вы делаете с трудными детьми?» Сперва никто не понял его вопроса, а когда поняли, ответили: «У нас здесь все дети трудные». Это было честно, и Андершу очень понравилось.
Говорили мы, конечно, и о вещах более серьезных, о его жизни, о сложных отношениях с компартией, в которую он вступил семнадцатилетним юнцом, за что успел побывать в 1933 году в Дахау, об отношении к марксизму, о разочаровании, о том, что «детерминистская философия, отрицающая свободу воли», была одной из причин того, что нацистам в Германии удалось взять власть. Говорили о его дезертирстве из вермахта, об американском плене, где он научился многому, в том числе тому, «что такое демократия», о том, почему сейчас, то есть в 70-е годы, он отошел от политической деятельности, от всякого участия в политических кампаниях и, покинув ФРГ, поселился в Швейцарии, где и пишет свои романы.
Мы с Андершем проговорили тогда до середины ночи. Ленц ушел спать, извинившись и сославшись на усталость. Он понимал, что я – хоть у Андерша в романе нет чаек – хочу расспросить его о каких-то трудных моментах перевода, и деликатно удалился. Тем более что нам еще предстояла встреча.
Как ни долог вечер, но это всего лишь один вечер, а вопросов у меня было много. Андерш сказал, что мечтает снова приехать в Россию, а я подумала, что тогда-то уж буду расспрашивать его и разговаривать с ним не один вечер, а много-много вечеров подряд. Он только раз за эти несколько часов упомянул, что болен, что возможно, предстоит операция – почки. Через год с небольшим ему действительно удалили почку, он почувствовал себя лучше, много работал, был полон творческих планов. В феврале 1980 года от его жены Гизелы Андерш пришло траурное известие…
Той личной фрайбургской встрече 1976 года предшествовала – лет за десять до нее – другая встреча, так сказать, нематериальная, не имевшая осязаемого выражения: странными, окольными путями, через одного доброго знакомого, попала ко мне хранившаяся за семью печатями в самых строжайших спецхранах тонкая книжечка «Вишни свободы». На белой суперобложке молодой Андерш был изображен в форме солдата вермахта. Эта книжка, прочитанная за одну ночь, и определила мой горячий интерес к этому писателю, стала основой того «избирательного сродства», которое не так уж часто возникает между читателем и писателем.
Избегая пышных слов, я все же признаюсь, что она стала для меня настоящим откровением. Ничего подобного я никогда до того не читала. Такие книги до меня не доходили, об их существовании я по наивности и невежеству не подозревала и их потому не искала. Это был взгляд на жизнь и историю нескольких десятилетий – начиная с двадцатых годов, с каким никогда до того мне не приходилось сталкиваться. Люди более изощренные и дальновидные, уже тогда знавшие содержимое спецхранов московских библиотек, получавшие сложными и опасными путями книги из-за рубежа, вправе скроить презрительную гримасу в духе ильфо-петровского «Надо было знать!». Конечно, надо было! Но я знала очень мало. Когда был ХХ съезд партии, мне было двадцать лет, и как ни потрясена я была открывшимся, это еще не означало для меня, что отныне я буду всюду и везде искать книги, которые до конца откроют мне глаза.
Не стану задним числом изображать себя умнее и прозорливее, чем я была. Скептицизма хватало, в собственной биографии тоже было немало такого, что заставляло думать и сомневаться, и мучиться несоответствиями. Но все же жизнь шла обычным своим чередом: семья, ребенок, работа…
Я читала книги немецких писателей, но главным образом те, которые переводились или продавались у нас или в ГДР. И только с середины 60-х годов, получив, благодаря работе в редакции «Литературной газеты», доступ к прессе ФРГ, я – воспользуюсь еще раз несвойственной мне высокопарной лексикой – стала другим человеком. Я открывала для себя факты и явления, оценки и суждения, о которых не подозревала. И вот тут-то мне попался тоненький томик «Вишен свободы», который перевернул мою жизнь.
В нем бывший солдат вермахта и бывший функционер баварского коммунистического союза молодежи рассказывал о своем двойном дезертирстве: о разрыве с компартией и о побеге из вермахта в 1944 году на итальянском фронте. Это была книга о свободе и индивидуальной ответственности, о том, что человек лишь тогда бывает свободен, когда принимает свое решение, совершает свой выбор «где-то между Богом и Ничто». Это была книга, написанная не без влияния французских экзистенциалистов и американских писателей ХХ столетия, и она так сильно отличалась от всего, что мне приходилось читать до сих пор.
На русском языке эта книжка тогда еще не выходила. До конца 80-х думать было нечего издать это сочинение «разочаровавшего революционера и бывшего марксиста», а потом стремительное время поскакало такими темпами, что стало уже чуть ли не поздно: читательский интерес переместился в иные сферы – от русской эмигрантской литературы и религиозной философии до запоздало хлынувшего на книжный рынок отечественного постмодернизма. Так или иначе, для исповедей, подобных «Вишням свободы», снова не осталось ни бумаги, ни издателей. Коммерческой сенсацией такие книги не становятся. Но людям они нужны. Позднее сочинения Андерша все же были изданы. А перевод «Вишен свободы» я включила в свою монографию об Андерше.
…Прочитав «Вишни свободы», я стала жадно искать все остальные книги Андерша, прочла его замечательный роман «Занзибар, или Последняя причина», этот шедевр изящества и тонкого психологизма, близкий по мысли «Вишням свободы», потом нашумевший в ФРГ роман «Рыжая», где Андерш, стараясь расширить свою читательскую аудиторию, использовал детективный элемент, прочла замечательные сборники рассказов, эссе и редкостных по красоте и глубине путевых очерков, прочла стихи и радиопьесы, потом появился роман «Винтерспельт», и я перевела его на русский язык. Это была трудная работа, хотя проза Андерша, прозрачная и ясная, кажется простой и легкой. Было трудно и в то же время необыкновенно увлекательно и радостно переводить эту книгу. Да, избирательное сродство существует – во время работы над переводом я убедилась в этом окончательно.
И сейчас, спустя уже столько лет, я время от времени вновь открываю страницы этого романа и перечитываю их с чувством наслаждения, снова открывая для себя что-то новое, чего не распознала, не увидела, не почувствовала раньше. Андерш стал для меня писателем необходимым. Его мироощущение, его видение жизни, людей, истории не просто понятны и близки мне, в них для меня заключена чарующая магия, загадка, и разгадать до конца тайну созданного им художественного мира я, видимо, не смогу никогда…
… Давным-давно, страшно сказать – в 1966 году – «Литературная газета» предложила одной молодой германистке написать о только что изданной в ФРГ и уже поставленной на сцене пьесе западногерманского писателя Гюнтера Грасса. Ну, что-то вроде рецензии. Вокруг пьесы, сообщили ей сотрудники редакции, шел большой шум, точнее – скандал. А газеты – даже в советские времена – очень любили что-нибудь «жареное». Вот и «Литгазета» клюнула на скандальную пьесу.
Германистка легкомысленно согласилась – она к тому времени еще не читала Грасса. Да и как бы она могла это сделать? Ведь прочитать какое-нибудь произведение писателя ФРГ можно было только в русском переводе – в журнале «Иностранная литература» или в виде книги, изданной в одном из государственных издательств. Это были тщательно отобранные, отфильтрованные произведения – ничего «идеологически чуждого» с «империалистического Запада» к нам проникнуть не могло. Правда, среди отобранного и изданного, слава Богу, случались очень хорошие и выдающиеся авторы – например, Генрих Бёлль.
Существовала, конечно, возможность почитать что-нибудь запретное в «спецхране» крупнейших библиотек. Но для этого надо было принести из очень солидного учреждения документ с круглой печатью, удостоверяющий, что имярек непременно нуждается в прочтении определенной книги или журнала во имя благородных научных и других государственных важных целей. Но как в ту пору достать такую бумагу?!
Зато легко было добыть книги из ГДР – «первого на немецкой земле государства рабочих и крестьян». Достаточно было поехать на тогдашнюю улицу Горького, ныне Тверскую, в книжный магазин «Дружба», где продавались сочинения авторов из социалистических стран на соответствующих языках. Молодая германистка именно так и поступала – покупала наугад сочинения «наших» немецких авторов, стоившие, кстати, очень дешево. Она исправно их читала, кое-что переводила или писала статьи и заметки.
А тут вдруг Грасс – о нем тогда в Советском Союзе мало кто знал, разве что искушенные международники, избранная каста советской журналистики. Их излюбленной темой – если речь шла о ФРГ – была неонацистская угроза. «Неофашисты поднимают голову», «Шабаш недобитых», «Вечно вчерашние жаждут реванша» – так или примерно так назывались их статьи. Упрямая германистка даже собирала увлекательную коллекцию подобных заголовков из советских центральных газет. Все они были примерно в этом духе. Если речь, конечно, не шла о западногерманских коммунистах, которые, естественно, жаждали мира и социализма и готовы были за это каждый день идти на бой (как сказал бы Гёте).