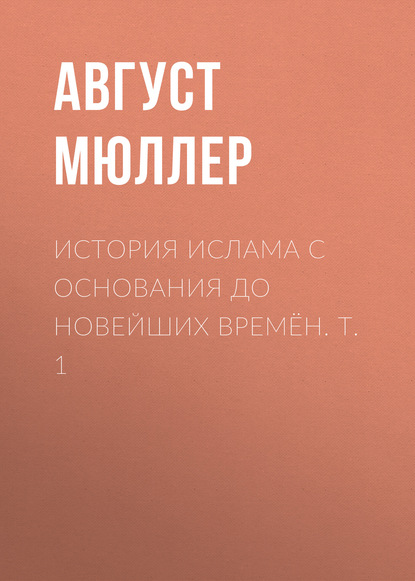
Полная версия:
История ислама с основания до новейших времён. Т. 1
О характере и сущности арабской поэзии здесь не место входить в дальнейшие подробности. Мы позволим себе только остановиться на рассмотрении широко распространенного заблуждения, которое приносит существенный вред и мешает понять характер, а вместе с ним и самую историю этого замечательного народа. Кто не занимался специально изучением восточных литератур, легко может смешать древнеарабскую поэзию с персидскою и произведениями позднейших придворных поэтов аббасидского периода, очевидно, находившихся под персидским влиянием. Для одного только персианина имеет особое значение так называемая огненная фантазия, а с другой стороны – «восточная высокопарность» поэтов туземных. У арабов, в нашем смысле, продуктивности фантазии, положим, весьма мало. Он, по своему характеру, слишком воздержан, скептичен для этого. Расчетливый даже в мелочах, склонен и способен он к более точному наблюдению окружающей его природы, благодаря также изощренности чувств, развитых в постоянном общении со степью. Поэтому его душе ближе описание, в красивой, сжатой, наполненной восхитительными эпизодами речи, быстроногого верблюда, благородного коня, охотничьих экскурсий либо бури, а также изображения прелестей возлюбленной или схваченных на лету глубоких размышлений, почерпнутых из опытности житейской. Но для араба совершенно непонятно расплываться в лирической сентиментальности, рисовать тончайшие чувства, передавать движения глубоких внутренних волнений. Драма и эпос на его почве не произрастают, как и вообще ни у одного народа семитского происхождения[24]. Его песни, в лучшем значении слова, приурочены все к известному случаю. Но арабскому стиху как-то не поддается могучее построение обширной стихотворной композиции. Его поэтам недостает глубины, возвышенности искусственной и преисполненных фантазий воззрений. Этот путь, по-видимому, заказан всем семитам.
Естественно, что повседневная жизнь араба пустыни нам чужда, поэтому самому и древняя его поэзия, в которой она отражается, нам непонятна. Тот, кто глядит на верблюда с интересом посетителя зверинцев, чего доброго, заснет над чтением целых страниц, посвященных описанию особо идеального экземпляра этого рода животных. Но тот, для кого «корабль пустыни» представляет не только единственную возможность всего его существования, но также, слишком часто, храброго спутника в опасных передвижениях по пустыне, верного сподвижника, спасавшего его из многих передряг, при описании изящества его форм и быстроты его лядвей весьма легко воспламеняется. На него нисходит то воодушевление, какое, хотя и в иных чарующих образах, охватывает лириков Запада при виде локона своей возлюбленной. Но встречаются и такие отдельные области, в которых и мы, вместе с арабским поэтом, в состоянии восторгаться, не имея нужды в усилиях предварительного искусственного размышления, чтобы перейти на его точку зрения, а именно: когда в его песне заслышится пафос страсти, любви, высокомерия, ненависти, или же когда великий мастер издевки, семит, разразится тонко заостренной эпиграммой, иногда довольно скабрезной, но чаще всего пропитанной действительно остроумной злобой.
В дополнение к этим кратким заметкам рекомендую обратиться к переводу Хамазы Рюккертом, но считаю своим долгом сказать несколько слов о самых знаменитых поэтах доисламского периода, которые и поныне составляют гордость маленькой образованной кучки знатоков арабского языка, а в свое время живописали величие народа, не обладавшего еще тогда истинной историей. С тремя из них мы уже встречались: с царственным Имрууль-Каисом, многоопытным Зу хейром ивсемудрым Набитой. Рядом с ними шестое столетие выдвигает еще большее число богато одаренных поэтов. Большинство из них владели одинаково искусно копьем и мечом, как и стихом, рифмой и искусственной речью. Между древнейшими поэтами встречаем мы несколько полумифических фигур. Это были так называемые «скороходы» (adda'un) – Шанфара и Те’аббата Шарран – необычные исполины, ведшие на свой собственный страх одинокую жизнь в пустыне, «дикие люди, рука их не сжимала ничьей и ничья их». Они хвалились общением с волками и ночными привидениями. Всем ведь известна великолепная песнь мести Те’аббата, которую Гёте поместил в заметках к своему «Westöstlicher Divan». Нои позднее, во время великих войн между Бекр и Таглиб и между Абс и Зубьян, встречаются поэты в изобилии; требовалось воспевать славу племени и его превосходства или же, по понесенном поражении, побуждать к мести. Так, например, встречаем мы в собрании Му’аллакат два большие стихотворения Хариса, сына Хиллизы, из племени Бекр, и Амр Ибн-К улсума, таглибита, которые изображают горечь бесконечно долгой распри, а также высокое самомнение обоих племен; на это последнее чувство Амр имел особые права. Раз как-то, находясь в палатке короля Хиры Амра, сына Хинды, в гостях, услышал поэт, гневный возглас своей матери Лейлы, которую королева в соседнем покое встретила недружелюбно. Недолго думая, бросился он на короля и убил его тут же, на месте. Отсюда между арабами вошло в поговорку: «Он быстрее на руку, чем Амр Ибн-Кулсум». Ему удалось, при помощи своих, пробиться из середины лагеря Хиры и уйти безнаказанно. С другими сынами племени Бекр, Муталаммис и Тарафа, случилось много хуже при дворе неукротимо свирепого короля Лахмидов. Первый был дядя, второй – племянник, оба знаменитые поэты. В особенности юношу привлекла в резиденцию Аира надежда на богатые милости; гениальный и легкомысленный, он увлекался слишком вином, женщинами и песней, но стеснительный этикет придворной жизни скоро надоел Тарафе. Никогда он не умел держать язык на привязи; раз как-то сочинил он едкую эпиграмму. Дошло это до сведения короля. Разгневанный властитель задумал коварное отмщение; с притворным дружелюбием поручил он обоим поэтам отправиться с посольством к союзному князю в Бахрейн, местность, лежавшую на запад от Персидского залива. Каждый из них получил письмо, подобно тому, как поступил с Беллерофоном Проетос. В них предписывалось немедленно казнить посланного. Отправились они в путь. Муталаммису это поручение не понравилось. Оба, дядя и племянник:
Как слагали они и певалиСладкозвучные, дивные песниДа и сказывать сказки занятные,Любо слушать какие умели…И доныне сказанья их живы, –А читать да писать не умели.Поэтому дядя обратился к одному молодому человеку в Хире, который, как и большинство месопотамских христиан, силен был в сокровенном искусстве письмен. Он разобрал им Уриево послание. Муталаммис бросил в реку страшное письмо, посоветовал Тарафе последовать его примеру и вместе с ним вернуться на родину[25].
Малодушному тут в нетерпеньеТарафа смелый молвил в ответ:Хорошо знать писанье и чтенье, –Ведь искусства полезнее нет…Вздор! Письму не погибнуть в потоке,Где за волнами волны бегут,Пусть его сокровенные строкиВ поученье потомкам живут;И Тарафовы песни простыеВ письменах прочитают опять…За успехи искусства такиеИ во славу уменья писать, –Я отправлюсь в Бахрейн и хоть сгину –А доставлю письмо властелину!Так и сделал юноша и погиб не сполна двадцати лет от роду. Но искусство поэзии широко отблагодарило его за выказанный им возвышенный образ мышления. И по сие время песни его читаются и переписываются; а один немецкий ученый недавно отпечатал их в Англии, о стране и обычаях которой дорогой арабский вертопрах VI столетия, наверное, не мог и мечтать…
Сказания передают немало романтических приключений с поэтами, но для историка интересны только те, в которых отражается характеристика народа. Поэтому мы упомянем, и то лишь мимоходом, об огненном Алкама из племени Темим, который осмелился, и по справедливости, соперничать с королем поэтов Имрууль-Каисом; о мудром Лебиде, составителе одной Му’ал-лаки, пережившем триумф Мухаммеда и принявшем ислам. Отайите Хатиме. Щедрость его вошла даже в поговорку; по великодушию никогда не допускал он возможности отклонить просьбу. Однажды преследуемый им неприятель воскликнул, озаренный счастливой мыслью: «О Хаим, подари мне свою пику!» И тот не решился отказать неприятелю в этом подарке, а противник, получив просимое, удалился невредим. Нельзя также забыть и многоопытного Одиссея поэтов Аль-Аша из племени Бекр, «кимвалиста арабов». Свои песни он переносил лично из племени в племя. Раз, на ярмарке в Указе[26], сочинил он стихотворение в честь одного своего приятеля, человека малоимущего, но имевшего множество дочерей. Не успел он прочесть своего произведения, как люди, все из лучших фамилий, разобрали мигом молодых девушек. Но ни один изо всех героев поэтов, даже царственный Имрууль-Кайс, которого не любивший поэтов пророк почитал «знаменоносцем у стихотворцев, но, увы, по дороге в ад», не живет так ярко в воспоминаниях народа, как Антара, сын Шеддада, абсита. Происхождения был он низкого, от матери черной рабыни. По суровым законам древних арабов его следовало обратить в рабство, если только отец не выразит прямого желания освободить его; он не захотел и принудил пылкого юношу к позорной бездеятельности – пасти верблюдов. Однажды напали Зубьяниты на лагерь Абсов, слабо защищаемый: «Помогай, Антара», – крикнул отец. Сын ответил: «Раб не умеет сражаться, он знает одно – доить верблюдов и подвязывать им вымя»[27]. – «Помоги! Я тебе говорю, ты свободен!» При этих словах Антара бросился на неприятеля. Храбрость его воодушевила немногочисленную кучку земляков, и далеко превосходивший силами неприятель был отброшен. С этих пор Антара становится одним из доблестнейших героев в долгой распре Дахиса, а когда один из спесивых бедуинов, гордившийся чистотой своего происхождения, позволил себе посмеяться над его рождением, то он мог по всей справедливости сказать:
Клянусь, я – благородной крови Абсов,Ее ведь каждый почитает.А примесь горькую рабаПокроет ратный, верный меч.Воспоминание об этом рыцарском образе сохранилось и по сие время между арабами всех стран; вокруг его личности парит целый цикл саг, подобно тому как вокруг героев Круглого стола короля Артура. Рассказы о его деяниях образуют излюбленное содержание народных романов, обходящих все страны, где только арабский язык в употреблении. Искусные декламаторы произносят их пред толпой внимательных слушателей кофеен, и это составляет наилучшее препровождение времени на Востоке.
Некоторые из его песен сохранились и поныне. Ибо два столетия спустя после смерти Мухаммеда арабские филологи занялись, с большим старанием, собиранием всех памятников чистого старинного языка. Прежде всего, конечно, записаны были песни поэтов доисламского периода, которые жили еще в устах народа. Все они были тщательно переписаны, с присоединением объяснений обстоятельств их происхождения и разнообразных пояснений. Соединялись тоже все стихотворения одного и того же писателя, каковое собрание называется Диван[28]. Бывало, так собирались песни различных авторов в виде сборника или, так сказать, хрестоматии. Самый известный из последних сборников называется Му’аллакат[29]. Он заключает в себе 7 наиболее длинных стихотворений Имрууль-Кайса, Тарафа, Лебида, Зухейра, Амр Ибн-Кулсума, Хариса Ибн Хиллизы и Антары – другие причисляют сюда же песни Аша и Набиги. О характеристике Му’аллакат можно многое почерпнуть также в примечаниях к «Westöstlicher Divan» Гёте, заимствованных им у ученого Джонса. Перевод же Имрууль-Кайса, Зухейра и Антары дает Рюккерт в «Amrilkais» и «Hamassá», а всех семи можно найти у Ф. Вольфа (Rottweil, 1857). Рядом с Му’аллакат можно поставить Хамасу, антологию особенно красивых мест и старинных песен, распределенных по их содержанию на различные главы, писателем Абу Теммамом, поэта времен Аббасидов.
Этим самым собраниям обязаны мы знанием жизни арабов в период до Мухаммеда. В них и поныне продолжает биться пульс древней Аравии, а так как эту жизнь воспроизвели величайшие поэты, то и стоит перед нами эта страна как живая, на пороге своего возрождения.
Глава II. Мухаммед пророк
У Абдуллы в Мекке, приблизительно около 570 г. по нашему летосчислению[30] родился сын Мухаммед. Легенда гласит, что в ночь его рождения дворец Хосроя Анушарвана, короля сассанидского, в Ктезифоне заколебался в основаниях и священный огонь персов, горевший без перерыва в течение 1000 лет, потух. В Мекке, во всяком случае, об этих предзнаменованиях наступавших событий, готовых потрясти весь мир, никто и не подозревал. Одни ближайшие родственники знали, что Амина, дочь Вахба, из семьи Зухра, произвела на свет ребенка, мальчика. Бедная женщина находилась в очень плачевном положении. Незадолго перед этим вышла она замуж за Абдуллу, сына Абд-аль-Мутталиба, из семьи Хашим, незначительного купца, который вскоре после свадьбы должен был отправиться с караваном в город сирийский Газу. Заболев на возвратном пути, он принужден был остаться в Иасрибе, где и умер до рождения своего ребенка. Незначительного имущества, оставшегося после него – 5 верблюдов, козье стадо и рабыня по имени Умм-Аиман, – едва хватало на самое необходимое. Поэтому едва ли вероятно, что мать отдала своего ребенка на воспитание бедуинке, жившей за городом, дабы он окреп, вдыхая свежий воздух, как это практиковалось позднее знатными горожанками. А между тем предание, сообщая об этом факте, добавляет, что когда Мухаммед победил впоследствии племя, к которому принадлежала его кормилица, то оказал ради нее по отношению к побежденным необычайную кротость. Здесь впервые мы встречаемся со стремлением представить маленького Мухаммеда как потомка знатной семьи. Очень понятно также, что существуют всевозможные легенды и чудесные истории, которые рождение и юность будущего пророка стараются обставить сверхъестественными явлениями. Достаточно привести хотя бы одно сказание в виде примера, чтобы показать невозможную бессмыслицу традиции, силящейся создать миф. Пророк, так говорится в ней, играл однажды с другими детьми. Вдруг является ангел Гавриил, схватывает его, распарывает тело, вырывает изнутри дымящийся кровью кусок и отбрасывает на сторону, говоря при этом: эта часть диавола. Затем орошает внутренности водою 3емзем, находившеюся при нем в золотой чаше, и закрывает вновь рану. Дети убежали к его воспитательнице с криком: Мухаммеда убили! Она бросается к месту происшествия и видит его, распростертого на земле, бледного как смерть. Повествователь прибавляет от себя: мы сами видели на его груди глубокий шрам. Вся эта чудесная история повествователя и очевидца, само собой, вложена ему в уста кем-то посторонним. В данном случае мы можем даже указать на повод. В Коране (сура 94,1) Мухаммед заставляет Бога обратиться к нему со следующими словами утешения: разве я не раскрыл тебе грудь? Это значит (ведь и у араба боязнь и забота давят иногда грудь): разве я не освободил тебя от нужды и печали. Позднее стали понимать этот стих буквально, стали доискиваться поводов к нему во внешних, возможных обстоятельствах и дошли до идеи, что грудь могла быть раскрыта для удаления первородного греха. И это совершилось по особому соизволению Бога, а чтобы дать понять, что очищение совершилось основательно и, понятно, не кем иным, как только специальным ангелом Мухаммеда Гавриилом, необходимо, стало быть, омовение, которое, несомненно, могло быть совершено лишь с помощью воды из священного колодца Земзем. Остается только удивляться действительной скромности повествования – для этого понадобилась золотая, а не бриллиантовая чаша.
Более вероятно, чем эта сказка, известие о путешествии, предпринятом Аминой со своим шестилетним сыном в Иа-сриб. По общепринятой у арабов генеалогии, оттуда происходила родом мать умершего отца пророка; кроме того могло явиться личное желание у Амины посетить гроб умершего мужа, прежде чем настигнет ее смерть. Очень возможно, что болезненная женщина предчувствовала приближение конца жизни; с месяц прожила она там с мальчиком. Сорок семь лет спустя, когда пророк переселился на постоянное жительство в Иасриб, он признал места детских игр. И Амина тоже не вернулась из своего путешествия на родину. Совсем больная прибыла она в Абва[31], местность между Иасрибом и Меккой. Здесь она скончалась. Когда позднее Мухаммед предпринял в 628 г. паломничество в Кабу, дорога пролегала мимо могильного холма его матери; он оросил его обильными слезами. Круглого сироту отвезла на родину рабыня Умм-Аиман прямо к его деду Абд-аль-Мутталибу. Хотя этот старец достиг уже 80-летнего возраста, он принял искреннее участие в судьбе внука. Охотнр взяв к себе в дом ребенка, он держал его постоянно возле себя и всячески баловал. Часто, рассказывает биограф пророка, когда расстилался ковер в тени Кабы для Абд-аль-Мутталиба, сыновья его сидели вокруг. Никто из них не осмеливался присесть на ковер, пока не придет отец. Но Мухаммед – он был тогда еще маленьким ребенком – нисколько не церемонился и садился прямо на ковер. Дяди обыкновенно хватали его и силились стащить с ковра. Если Абд-аль-Мутталиб замечал, то он имел привычку говорить: оставьте в покое моего мальчика, он имеет на то право[32]. При этом усаживал рядом с собою на ковер ребенка, трепал ласково рукою по спине и с удовольствием глядел на все, что он ни проделывал. Но недолго пришлось маленькому Мухаммеду пользоваться нежностью деда. Два года спустя умер старый Абд-аль-Мутталиб. Заботу о внуке передал он одному из сыновей св о их Абд Менафу, или же Абу Талибу, по предпочитаемому им самим прозвищу[33]. К покойному отцу пророка этот дядя стоял особенно близко. Абу Талиб был благородного, возвышенного характера; свои обязанности по отношению к осиротелому племяннику исполнял с редким самоотвержением. Но он был беден и обременен многочисленной семьей – как передает сказание, имел двух жен и десяток детей, – поэтому ребенку пришлось самому заботиться о приискании средств к существованию; он пас стада овец[34] у зажиточных жителей Мекки и собирал за городом плоды и ягоды. Впоследствии сопровождал он дядю в походе против жителей соседнего города Таиф, а затем во многих путешествиях в Сирию, которые тот предпринимал в качестве купца. Как передает предание, в это самое время встретился с нам монах-христианин, отличивший его сразу в толпе сопровождавших и признавший его за будущего пророка. Он умолял спутников охранять его от иудеев, которые станут преследовать его всю жизнь. Все это, очевидно, скрашено убогим аппаратом чудесного. Едва ли можно сомневаться, что не только последнее событие, но и самое путешествие с Абу Талибом обязаны своим существованием позднейшим соображениям и вымыслам. Самое название монаха Бахира возбуждает сильное подозрение. Это неоспоримо сирийское слово означает «испытанный», «надежный», «верный».
С первым более или менее достоверным фактом в жизни Мухаммеда встречаемся мы, когда ему было 24 года от роду. В это время по недостатку личных средств он не мог вести самостоятельных занятий и находился на службе у одной богатой купеческой вдовы, по имени Хадиджа. В доисламский период положение женщин в Аравии было далеко не так ограничено, как впоследствии и как обрисовалось, в настоящее время, на востоке у мухаммедан. Тогда еще не был в ходу обычай постоянного закутывания женщин, равным образом и нравственная самостоятельность ее существенно признавалась всеми. Отцовская власть едва ли тяготела сильнее на дочерях, чем на сыновьях. В некоторых случаях жена имела одинаковое право с мужем «опрокинуть палатку», т. е. запретить ему вход в супружеское жилище, развестись с ним. В особенности для вдов с некоторым состоянием, дозволявшим жить им, не будучи в тягость родственникам, допускалась возможность тотчас же заключить новые сердечные узы. Они могли довольно свободно распоряжаться собой. Честь прочно охраняла свободу аравитянок того времени, даже действительней, чем современные евнухи, так любезно принявшие на себя эту обязанность ныне. Вот и Хадиджа, хотя отец ее Хувейлид еще был в живых, продолжала в своем собственном доме вести дела обоих покойных мужей своих, которых она не так давно потеряла. Только необходимые дальние поездки предоставляла она своему управляющему; от времени до времени должен был он совершать их с ее вьючными верблюдами, примыкая к караванам Мекки, отправлявшимся в южную Аравию или в Сирию. Как кажется, Мухаммед не сразу занял этот почетный пост; вначале он довольствовался должностью погонщика верблюдов. Так или иначе, на службе у вдовы ездил он на юг, может быть, также и в Бостру, главную крепость византийскую в стране восточного Иордана. Это место было значительным пунктом торговли хлебом и часто посещалось арабскими купцами. Но вскоре отношения его к хозяйке совершенно изменились. Хадидже было тогда 39 лет. Имела она трех детей от своих покойных двух мужей. О них далее ничего не известно. По-видимому, не прочь была молодая вдова выйти снова замуж; как гласит предание, у ней не было недостатка в женихах. И ничего мудреного: была она женщина состоятельная и, невзирая на свои годы, достаточно привлекательная по наружности. Но непреоборимое влечение тянуло ее к Мухаммеду. 24 лет, он поражал ее, и не раз, своими своеобразными дарованиями. Одним словом, как говорит один остроумный писатель, это был весьма «интересный молодой человек». Как известно, влечение женщин зрелых лет к несравненно более молодым мужчинам не редкость. Поэтому можно не без основания предположить, что Мухаммеду сделано было предложение влюбленной Хадиджей через посредничество третьего лица, и он его принял скорее из корыстолюбия; хотя следует при этом заметить, что каждый настоящий араб, того времени, по крайней мере, едва ли находил в этом что-либо несообразное. Как бы там ни было, последующее сожитие доказало, что этот своеобразный брак с обеих сторон, даже с точки зрения новейших христиан, не лишен был нравственной серьезности. Вначале, конечно, возникли сразу препятствия со стороны ближайших родственников Хадиджи, в особенности ее отца, согласие которого требовалось, ради приличия и существовавшего обычая. Понадобилось напоить старика, чтобы выманить у него это согласие. Но когда он пришел в сознание, понятно, озлобился, негодуя на то, что его так ловко провели. Остальные члены семьи, из колена Бену Асад, еще пуще негодовали. Их родственница своим браком с молодым человеком, не имевшим ни имущества, ни положения, окончательно их одурачила. Между ними и родственниками Мухаммеда, которые, естественно, считали себя обязанными постоять за него, чуть не дошло до открытой схватки. Но Хувейлид побоялся скандала, и вскоре наступило общее соглашение. Для Мухаммеда настали счастливые дни. Невзирая на годы Хадиджи, брак благословен был рождением шести детей: двух сыновей, Аль-Касима и Абд-Менафа, названного так, вероятно, в память дяди, и четырех дочерей: Зейнаб, Рукайя, Умм-Кулсум и Фатимы. Порождении первого сына он стал называться Абу’ль Касим. С болью в сердце потерял он их обоих младенцами. Но дочери росли, и старшая уже была замужем, когда он выступил открыто как пророк. Конечно, потеря сыновей была для него очень тяжелой. По смерти мальчиков он оставался лишенным мужского наследника. Лишь одно это доставляло отцу семейства почет и сохраняло за ним всеобщее уважение, между тем как девушки, ничего не доставлявшие роду и не могшие позаботиться о стареющем отце, были, обыкновенно, более чем нелюбимы в семье. В стране со скудным пропитанием такие отношения слишком понятны. Но у арабов доходило даже до крайностей. Существовал варварский обычай – новорожденных дочерей, питание которых могло сделаться затруднительным для родителей, просто-напросто зарывать живыми, лишь бы как-нибудь от них избавиться. Поэтому позже случалось не раз слышать Мухаммеду от неприятелей его проповедей, что дом его лишен наследников. Тем не менее никогда нельзя было упрекнуть пророка ни в чем по отношению исполнения им обязанностей к жене и к дочерям. Все время, пока жила Хадиджа, он ни разу не подумал взять себе вторую жену, рядом со стареющей первой. И это было вовсе не потому, что он находился в зависимости от ее состояния. Мы знаем, наконец, что до последних минут ее жизни он относился к ней с величайшею любовью и уважением. Любимая жена его под старость, Аиша, недаром же говорила, что ни к одной из многих проживавших с нею жен она не ревновала так, как к давно умершей покойнице. За верность и уважение она отплачивала нежною заботливостью, которая позднее, когда он выступил на широкую арену пророка, неоднократно спасала его от гибели.
К этой, в общем, счастливой семейной жизни присоединились и благоприятные внешние обстоятельства, которые вдвойне сделали жизнь Мухаммеда счастливой после стольких испытанных им в юности лишений. Следует прежде всего упомянуть, что по-прежнему продолжал он заведовать делами своей жены. Проходили годы и наружно не приносили ему никаких особенно выдающихся испытаний. Но внутри этого человека назревало что-то великое, чего все окружающие даже и не подозревали.
Нет никакой, конечно, надобности приводить доказательства, что прежде чем он стал пророком нового учения, разделял религиозные воззрения своих земляков. Слишком достаточно вспомнить имя его сына Абд-Менафа, сохраненное традицией по счастливому недосмотру[35]. Следует само собой, при этом заметить, что эти так называемые религиозные воззрения едва ли заслуживают столь претенциозного титула. Немного вообще знаем мы о религии арабов до ислама. Но то немногое указывает слишком ясно, что понятия их о божественном и в старину были довольно скудны, а ко времени появления пророка почти совершенно изгладились. Это была смесь тотемизма[36], фетишизма и идолопоклонства, к которому примешивались, по крайней мере в южной Аравии и Хиджазе, нежные воспоминания о представлениях и наименованиях божеств древневавилонских, а может быть и древнеизраильтянских. Кроме того, у каждого племени существовал свой собственный идол, а рядом с ним также и фетиш, или же святая местность (дерево, родник или что-либо подобное), что мало-помалу становилось само по себе предметом почитания. В некоторых местностях, прежде всего в Мекке, доходило до самого гнусного синкретизма[37]. По разным поводам охотно присоединяли они к своим собственным идолов соседних племен, даже и совершенно чуждых. При этом внутреннее содержание, которое первоначально приписывали почитатели отдельным божествам, большею частью исчезало. Единственно из одной привязанности к наследственной привычке отцов продолжают они культ древних предметов почитания. О религиозном же содержании богослужения почти нигде более не остается ни малейшей догадки. Поэтому нет ничего удивительного, что значение там и сям сохранившихся обрядов, в особенности великих празднеств весенних в Мекке, ко времени Мухаммеда почти совершенно кануло в лету забвения. До нас дошли они в образе тех разнообразно измененных форм, которые им придал к концу своей жизни пророк. Несомненно одно, что эти изменения церемониала не коснулись их основных черт, так как объяснения мухаммеданских теологов совершенно устарели; обряды, во многих по крайней мере частностях, стали непонятны, и это потому, что сами язычники-арабы позднейших времен едва ли многое в них показали. Интерес жителей Мекки так крепко держаться их зависел главным образом от купеческой точки зрения, о чем было упомянуто выше. Во всем же остальном касающемся культа придерживались древних божеств вместе с дружественными племенами бедуинов лишь из консерватизма, опиравшегося, понятно, не на религиозное чувство, а на кичливое самомнение гордящегося своим происхождением народа. Самая история ислама указывает ясно на то, что только у некоторых из племен бедуинов сохранялись, в скрытой, неразвитой форме, религиозные начала. И мы поневоле должны отказать массе этой трезвой, скептической и расчетливой расы в определенном богопочитании. Даже и по сие время араб пустыни, за исключением немногих местностей внутри страны, только по наружному облику мусульманин.



