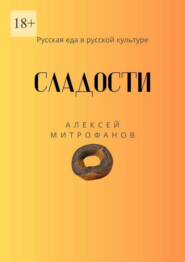скачать книгу бесплатно
Черемуховом свежим мылом
И пряниками на меду.
Пряники очень любил Гоголь. Сергей Аксаков вспоминал один из его розыгрышей: «Не помню, где-то предлагали нам купить пряников. Гоголь, взявши один из них, начал с самым простодушным видом и серьезным голосом уверять продавца, что это не пряники; что он ошибся и захватил как-нибудь куски мыла вместо пряников, что и по белому их цвету это видно, да и пахнут они мылом, что пусть он сам отведает и что мыло стоит гораздо дороже, чем пряники. Продавец сначала очень серьезно и убедительно доказывал, что это точно пряники, а не мыло и, наконец, рассердился. В моем рассказе ничего нет смешного, но, слушая Гоголя, не было возможности не смеяться».
Софья Андреевна Толстая пекла пряники сама. Из двух видов меда – белого и красного.
Екатерина же Андреева-Бальмонт вспоминала про Филипповскую булочную: «Особенно мы любили заходить в среднее отделение, там продаются булки, калачи, пряники… Просунешь свой пятиалтынный продавцу и говоришь громко: „Фунт мятных пряников“. Продавец непременно пошутит с тобой и быстро-быстро загребет совком из большущего ящика, что под прилавком, всыплет пряники в бумажный мешочек, ловко расправив его, и никогда не ошибется: на весах ровно фунт. Он подает тебе мешочек и принимает твой пятиалтынный, бросает его в ящичек с отделениями, где медяки, серебро и бумажные деньги. Надо тотчас отойти и дать место другому покупателю. „Два батона де-руа“, – говорит Алеша и протягивает свой гривенник. Ему уж подают пряники. Это происходит еще скорее, как фокус – эти пряники не заворачивают, не взвешивают».
Батон де руа – тоже пряник, только длинный. Их еще называли «королевскими палочками».
Пряники для детей – первейшая забава. Иван Шмелев описывал московский постный рынок собственного детства: «Пряники, пряники – нет конца.
– На тебе постную овечку, – сует мне беленький пряник Горкин».
Вообще пряники было принято дарить друг другу. При этом самым крупным в мире пряником считается тот, что тульские пекари преподнесли Екатерине Великой к 75-летию основания города Санкт-Петербурга. Его диаметр составлял три метра, и на прянике была изображена подробнейшая карта российской столицы.
Чтобы царица любовалась своей пряничной державой.
Существовало правило – чем больше уважение к одариваему, тем крупнее должен быть пряник. Поэтому пряники, предназначенные для царей были просто циклопическими. И каждый раз возникала задача – как довезти этот пряник до царских чертогов. И при этом не помять, не поломать.
Впрочем, иногда транспортные проблемы перекладывались на самого государя. Например, в 1858 году, когда в подмосковном Дмитрове встречали императора Александра II, ему вместо традиционной компактной хлеб-соли поднесли такого пряничного монстра. Поднесли – а дальше это уже были не проблемы дмитровчан.
Правда, не все подарки-пряники бывали в радость. Существовали еще и «разгонные» пряники. Их вручали слишком засидевшимся гостям – дескать, пора уходить.
А еще в России пекли пряники на прилет жаворонков. Всего раз в году. С глазками из изюма.
«Метание пряников»
Пряники существовали трех типов – печатные, вырезные и лепные. Первые были самые дорогие и сложные в приготовлении. Для них первоначально из дерева – чаще всего из липы, березы и груши – делали специальные пряничные доски с рельефным рисунком. И потом этот рисунок «отпечатывался» на поверхности пряника.
Вторые вырезали из листа пряничного теста с помощью металлической формы.
А третьи, самые простые – жамки -жамкали руками.
Житель Костромы С. Чумаков писал о ярмарке на главной площади: «Многие безвестные кустари-пекари изготовляли всякие фасонные пряники, изображавшие птиц, лошадей, собак, лошадь, запряженную в сани или просто орнаменты, среди которых были и с явным влиянием индийского искусства, очевидно, когда-то случайно занесенные торговыми людьми с низовья Волги».
А дети в русских городах играли «в прянички» – кидали в пряники ножи, так, чтобы пряник разрубился пополам.
Была еще одна игра, «метание пряников». Правда, метали не пряники, а острый топор. Если игрок перерубал топором пряник, то съедал его в качестве выигрыша. Если же не перерубал, лишался собственного пряника, перед тем выставленного на кон.
Впрочем, эта забава скорее для взрослых.
Пряничным называли все пестрое, яркое и, что греха таить, аляповатое. Пряничный домик, пряничные росписи, пряничные купола церквей.
Кстати, домики из пряников и вправду делают. Не только в натуральную величину, как туляки Гречихины в Париже, а как настольный сувенир. Их так и называют – пряничные домики.
Разносчики кричали:
– Пряники тульские, вяземские, тверские! На имбире, на малине, на мяте, на цукате! Московская коврижка, калужское тесто! Папошник медовый!
Папошник – сладкий пшеничный хлеб. А калужское тесто – и вправду особое тесто. Его делали в Калуге и ели сырым.
Григорий Мясоедов, живописец, вспоминал: «Жил я, как и большинство студентов Академии художеств, на Васильевском острове в бедной комнате. Источником существования моего была работа на кондитерскую, где пеклись пряники, – я с товарищем раскрашивал их. Платили за это по три копейки с дюжины».
А со временем пряники стали делать на обычных шоколадных фабриках. Ставили это производство на поток. Механизировали процесс. Использовали специальные вращающиеся печи.
О советском прянике
В позднесоветское время пряничный ассортимент сильно уменьшился. В основном были фасованные, в полиэтиленовых пакетах, с обрезками – для ровного веса. Обыкновенные, мятные, шоколадные, медовые. Были еще «Комсомольские» – просто шедевр советского нейминга. Шоколадные пряники были черными, мятные белыми, приятно остужали рот. Пряники далеко не всегда продавали свежими, как правило, той или иной степени черствости. С самых черствых обычно осыпалась глазурь. Иногда понимаешь, что пряники черствые, а все равно берешь – других-то нет. Размачивали в чае, а потом сосали – разгрызть эту деревяшку даже после тщательного размачивания было довольно сложно.
Тульские и прочие региональные пряники были редкостью. А король пряничного мира – огромный круглый пряник в картонной коробке под названием «Сувенир». Эти не бывали черствыми – расхватывали их в момент.
«Ни за какие коврижки»
Вспомним о ближайшей родственнице пряника – медовой коврижке. Она тоже на меду, и тоже, как правило, с пряностями. Но по структуре, по твердости больше похожа на хлеб. И лишена всяческих украшений.
Можно сказать, что коврижка – ненарядный и даже какой-то недоделанный пряник. Но все равно любимый. «Ни за какие коврижки» – так говорят, когда дают понять, что все богатства мира не заставят сделать ту или иную вещь.
Один из жителей города Богородска (современного Ногинска) вспоминал: «Мне очень хотелось как-нибудь съесть целую коврижку-батон. Я видел, как разносчики носят их в корзинах по вагонам. Запах был очень вкусный, и вид их тоже был очень привлекательный, с темнокоричневой корочкой, расчерченной ромбиками. Стоило это удовольствие пять копеек.
Я отправлялся в отпуск из училища, из Благовещенского переулка на Тверской, домой в Богородск и сэкономил эти деньги, пройдя до Курского вокзала пешком. Купил в вагоне желанную коврижку и приступил.
Народ в вагоне был простой, крестьянский. Доев до половины, я осмотрелся, и мне показалось, все смотрят на меня укоризненно. Вот, де богач какой! Пятачок-то надо заработать. Я смутился, завернул и спрятал недоеденную половинку и больше никогда в вагоне коврижек не ел».
А в 1672 году, по случаю рождения будущего Петра I, «великий государь жаловал всех водкою, а заедали ковришками и яблоками».
Особенно в России славились сутокские коврижки, из села Сутоки Смоленской губернии. Сам обер-шталмейстер царского двора Лев Александрович Нарышкин писал сутокским пекарям: «Все присланные вами коврижки разошлись на домашнем потчиванье, а потому, чтобы быть позапасливее, прошу вас заготовить тысячу коврижек с моим гербом, которого я прилагаю рисунок. Из этой тысячи уделю двадцать Г. Р. Державину за его хорошие стихи. Он большой лакомка, а вас отблагодарит своею поэзиею».
Впрочем, Державин пекарей благодарить не стал. Только обмолвился в одном стихотворении:
Дележ у нас святое дело,
Делимся всем, что Бог послал;
Мне ж кстати лакомство поспело:
Тогда Фелицу я писал.
Владимир Даль уравнивал пряники и коврижки. Писал в сказке «Привередница»: «Такого-то хлебца я от роду не видала – словно пряник-коврижка! А печка, смеючись говорит. – Голодному и ржаной хлеб за пряник идет, а сытому и коврижка вяземская не сладка!».
Протоиерей же Симеон Попов, благодарил гофмейстера Григория Петровича Волконского: «По случаю моей старости и слабости я в свое время не принес Вашей Светлости искреннейшей благодарности за удивительный вяземский пряник, собственно для меня заказанный. Я всем моим знакомым показывал его, как чудо-пряник и по величине, и по приятному вкусу. Это Ваша Светлость только могла сделать из расположенности ко мне».
Кстати, коврижка и коврига – вещи совершенно разные. Коврига – просто хлеб. Без меда и совсем не сладкий и не пряный.
Баранки и бублики
Елена Молоховец опубликовала в своей знаменитой книге рецепт блюда под названием «Бублики к кофе скороспелые». Приведу его полностью, он того стоит: «Чашка сливок, чашка желтков, ? чашки масла, мука, чашка сахара, чашка березового сока. На чайную чашку сливок положить чашку желтков, ? чашки масла, чашку сахара и чашку чистого березового сока, замесить тесто и скатать бублики. В кастрюлю влить молока. Когда оно вскипит, опускать в него бублики, а когда они поднимутся, собирать их на палочку и класть в печь на дощечку. Когда подсохнут, дощечку перевернуть, чтобы и бублики перевернулись, пока не испекутся».
Медвежья еда
Бублики, баранки, сушки – все это круглый хлеб с дыркой. Что ж, начнем с баранок.
Технология приготовления баранок такова. Сначала лепят из теста геометрическую фигуру под названием тор, затем ошпаривают его кипятком или паром, и только потом выпекают.
В результате этого ошпаривания баранка держит форму.
Многие исследователи считают родиной баранок белорусский городок Сморгонь. Якобы там дрессировали ярмарочных медведей и готовили для них поводырей. Но ведь медведя нужно чем-то кормить. И специально для косолапых актеров придумали лакомые, свернутые в трубку хлебобулочные изделия.
Они и весят меньше – потому что сухие. И переносить их удобно – нанизав на веревку.
Со временем сморгоньские баранки сделались известным брендом. Историк Адам Гонорий Киркор писал в книге «Живописная Россия»: «В Сморгони, Ошмянского уезда, Виленской губернии, едва ли не все мещанское население занято выпечкой маленьких бубликов, или крендельков, пользующихся большой известностью под названием сморгонских обваранок. Каждый проезжий обязательно купит несколько связок этих бубликов; кроме того, их развозят в Вильно и иные города».
В Вильно – современном Вильнюсе – их обычно продавали на ежегодной ярмарке, приуроченной ко дню святого Казимира.
То есть простая русская баранка – это еще и литовское обрядовое угощение.
Баранки были украшением московского великопостного рынка. Провинциальные производители баранок приезжали со своим товаром на телегах и, в качестве рекламы, прикручивали к той телеге огромную баранку на высоком шесте. Эта баранка была настоящая, вполне съедобная. Бытописатель Иван Белоусов рассказывал, что «какой-нибудь мастеровой… покупал большую баранку, надевал ее на плечи и гулял с ней по базару, а потом шел в трактир и пил с этой баранкой чай».
Баранок было множество – сахарные, горчичные, анисовые, маковые, соленые, лимонные, шафранные, изюмные… Десятки всяческих сортов. Их связывали вместе и тоже задирали на высокие шесты, чтобы не украл какой-нибудь бездомный оборванец.
Зато в небе на баранки нападали голуби.
Говорили: «Сколько баранку ни верти – колеса не сделаешь».
И была еще такая поговорка: «Будочник гребет баранкой, диакон – сайкой».
Действительно, баранкой с ее дыркой много варенья или меда не зачерпнешь. А сайкой пожалуй что можно.
А еще баранки – как и почти все произведения русской гастрономии – превосходная закуска к водке. Гиляровский рассказывал об одном волжском романтике: «Иногда Орлов вынимал из ящика штоф водки и связку баранок. Молча пили, молча передавали посуду дальше и жевали баранки».
Валдайский специалитет
Бараночной столицей государства был Валдай. Это сейчас самый известный бренд Валдая – колокольчики. А в пушкинские времена – валдайские баранки. Точнее, продавщицы тех баранок.
Александр Радищев писал: «Кто не бывал в Валдаях, кто не знает валдайских баранок и валдайских разрумяненных девок? Всякого проезжающего наглые валдайские и стыд сотрясшие девки останавливают и стараются возжигать в путешественнике любострастие, воспользоваться его щедростью на счет своего целомудрия».
Место было, действительно, своеобразное. И. Ф. Глушков в «Ручном дорожнике для употребления на пути между императорскими всероссийскими столицами» писал: Здешнее произведение есть валдайские баранки (крупичатые круглые крендели), с ними всякого проезжего тотчас окружит толпа женщин, и каждая с особливым красноречием и нежностию пропоет похвалу товару своему и покупщику арию, на пример: «Миленькой, чернобровонькой барин! Да купишь у меня хоть связочку, голубчик, красавчик мой! Вот эту, что сахар белую». После того кто же грубо презрит такие ласки и в удовольствие белокурой валдайки, у которой на лилейных щеках цветут живые розы, не купит десятка связок вкусных и весьма употребительных при чае и кофе сих кренделей?».
Радищев опубликовал свое «Путешествие» в 1790 году. «Ручной дорожник вышел в 1801. Прошло еще четверть столетия – и ничего не поменялось. Пушкин упоминал Валдай в 1826 году в письме к своему другу Сергею Соболевскому:
У податливых крестьянок
(Чем и славится Валдай)
К чаю накупи баранок
И скорее поезжай.
В качестве бонуса валдайские красавицы предлагали покупателям так называемый «поцелуй через баранку». То есть, через дырку в баранке. Соответственно, чем больше и дороже была баранка, тем интереснее выходил поцелуй.
«Баранки стучали как кости»
Торговали баранками и в московской Филипповской булочной. Е. А. Андреева-Бальмонт вспоминала о филипповских витринах: «Очень весело проталкиваться до прилавка, где возвышаются чуть ли не до потолка горы баранок».
А герои повести Антона Павловича Чехова «Три года» «заехали к Филиппову и взяли там постных баранок с маком».
В то время были еще популярными баранки с тмином. Антон Павлович называл их баранками с вшами.
В баранках знал толк Максим Горький. И умел мастерски с ними управляться. Другой писатель, Сергей Тимофеевич Григорьев вспоминал в повести «Кругосветка»: «Пешков потряхивал связкой, и баранки стучали как кости… Пока готовилась уха, Алексей Максимович у костра колдовал с баранками. Он нанизал все баранки на длинный сырой таловый прут. Облив баранки водой из чайника и поворачивая прут около огня, он приговаривал… Пешков снизал баранки с прута на газету; от них упоительно повеяло ароматом свежеиспеченных булок».
Григорьев называл Максима Горького его настоящим именем – Алексей Максимович Пешков. Дело в том, что действие происходит в 1895 году, а в то время у Горького был другой псевдоним – Иегудиил Хламида.
Баранки – символ русской удали. Ипполит Матвеевич из романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» после ресторанного кутежа с Лизой Калачовой купил у уличной торговки все ее баранки, и корзинку заодно: «Он вышел на Смоленский рынок, пустой и темный, и долго расхаживал там взад и вперед, разбрасывая баранки, как сеятель бросает семена. При этом он немузыкально кричал».
Увы, закончилось все это в отделении милиции.
Песенка про бублики
В том же романе упоминается дом, на котором «висела лазурная вывеска: „Одесская бубличная артель Московские баранки“. На вывеске был изображен молодой человек в галстуке и коротких французских брюках. Он держал в одной вывернутой руке сказочный рог изобилия, из которого лавиной валили охряные московские баранки, выдававшиеся по нужде и за одесские бублики».
Авторы неспроста называли баранки московскими, а бублики одесскими. Считается, что бублики имеют украинское происхождение. Они и больше, и пышнее, и сдобнее. Посыпать бублики маком – тоже украинская традиция.
Мак без бублика – деньги на ветер.
В 1926 году одесский поэт Яков Ядов сочинил песню «Бублики» или «Бублички». Она сразу же сделалась очень популярной:
Горячи бублики
Для нашей публики,
Гоните рублики
Вы мне в момент…
За мной гоняются
И все ругаются,
Что полагается
Мне взять патент.
Бублики предпочитали сибариты. Не зря в стихотворении Владимира Маяковского, написанном для «Окон РОСТА» – «История про бублики и про бабу, не признающую республики» – фигурируют именно бублики, а не баранки:
Сья история была
в некоей республике.
Баба на базар плыла,
а у бабы бублики.
По сюжету мимо шел красноармеец и попросил у бабы один бублик. Баба отказала, да еще и обругала бедного красноармейца. И в результате у красноармейца не хватило сил, чтобы победить врага, враг заявился на базар и сожрал бабу вместе с ее бубликами.
А когда в 1972 году в Москве, в Матвеевском выстроили круглый дом, ему дали кличку «дом-бублик».
Действительно, бублик.
Зато баранками принято называть автомобильные рули.
Что ж, пропорция соблюдена!
Мемуарист Александр Каплун писал о своем московском детстве. А точнее, об улице Чехова, ныне Малой Дмитровке: «На четной стороне стоял длинный деревянный киоск с двумя или тремя высокими ступенями во всю длину, где продавались горячие, ужасно вкусные бублики. Он горел каждый год».
Горел, но потом возрождался из пепла. Бублики непобедимы.