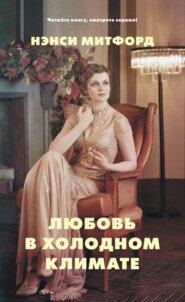
Полная версия:
Любовь в холодном климате
– О! Как интересно! Вы помолвлены?
Он искоса бросил на меня загадочный взгляд.
– О да, помолвлен.
– И скоро женитесь?
Но почему, подумала я, он приехал один, без нее? Будь у меня такой потрясающий жених, я следовала бы за ним повсюду, как верный спаниель.
– Не думаю, что это скоро случится, – весело сказал он. – Таков уж Ватикан: время пред ним ничто, «тысячелетия промелькнут, словно вечер»[28]. Хорошо я знаю английские стихи?
– Если вы называете это стихами. Вообще-то это религиозный гимн. Но какое отношение ваша женитьба имеет к Ватикану, разве он не в Риме?
– Разумеется. Существует такая вещь, как Римская католическая церковь, к которой я принадлежу, моя дорогая юная леди, и эта церковь должна аннулировать брак моей нареченной – вы так говорите? Нареченной?
– Можно и так. Это довольно вычурно.
– Моя возлюбленная, моя Дульсинея (великолепно?) должна аннулировать свой брак до того, как выйдет за меня.
– Боже! Так она уже замужем?
– Да, да, конечно. В наличии очень мало незамужних женщин, знаете ли. У хорошеньких женщин это состояние не длится долго.
– Моя тетя Эмили не одобряет людей, которые обручаются, состоя в браке. Ее очень сердит, что моя мать всегда так поступает.
– Вы должны сказать вашей дорогой тете Эмили, что во многих отношениях это довольно удобно. Но все равно она совершенно права, я был женихом слишком часто и слишком долго, и теперь настало время стать женатым.
– А вы этого хотите?
– Я вовсе не так уж уверен. Выходить каждый вечер к обеду с одним и тем же человеком, это, должно быть, ужасно.
– Вы могли бы оставаться дома.
– Нарушать многолетнюю привычку тоже просто ужасно. На самом деле я так привык к состоянию жениховства, что трудно представить что-нибудь иное.
– А вы уже бывали помолвлены с другими женщинами до этой?
– Много, много раз, – признал он.
– И какая судьба их постигла?
– Разнообразные судьбы, о которых лучше не говорить.
– Ну, к примеру, что случилось с предыдущей?
– Дайте подумать. Ах да – предыдущая сделала нечто, чего я не мог одобрить, поэтому я ее разлюбил.
– И вы способны разлюбить человека только потому, что он делает то, что вы не одобряете?
– Да, способен.
– Какой счастливый талант, – сказала я. – Я вот уверена, что не смогла бы.
Мы дошли до конца аллеи, и перед нами раскинулось жнивье. Солнечные лучи полились на землю, рассеивая голубую дымку, золотя деревья, сжатое поле и стога на нем. Я подумала, как мне повезло наслаждаться прекрасным моментом со столь достойным человеком – такое запоминается на всю жизнь. Герцог прервал мои сентиментальные размышления:
– Узри, как ярко рдеет утро,Хоть жребий наш уныл,Сердцам тепло… –продекламировал он и спросил: – Разве я не кладезь цитат? Скажите мне, кто сейчас любовник Вероники.
Я была еще раз вынуждена признаться, что никогда прежде не видела Веронику и ничего о ее жизни не знаю. Он казался менее ошеломленным этой новостью, чем Роли, но задумчиво посмотрел на меня и сказал:
– Вы очень молоды. В вас есть что-то от вашей матери. Сначала я думал, что нет, но теперь вижу: кое-что есть.
– А кто, по-вашему, любовник миссис Чэддсли-Корбетт? – поинтересовалась я. В тот момент меня больше занимала она, чем моя мать, и кроме того меня пьянили все эти разговоры о любовниках. Конечно, всем известно, что они существуют, из-за герцога Монмута[29] и тому подобного, но так близко, под одной с тобою крышей – это было поистине волнующе.
– Не имеет ни малейшего значения, кто это, – ответил герцог. – Она, как и все подобные женщины, принадлежит к небольшому кругу людей, и рано или поздно все в этом кругу становятся любовниками, так что, когда одних любовников меняют на других, это больше похоже на перестановки в старом правительстве, чем на новое правительство. Всегда выбирают из одного и того же старого набора, понимаете?
– А во Франции тоже так? – полюбопытствовала я.
– У светских людей? Точно так же по всему миру, хотя во Франции, должен сказать, в целом меньше перетасовок, чем в Англии, министры дольше остаются на своих постах.
– Почему?
– Почему? Француженки обычно сохраняют своих любовников, если им того хочется, потому что знают абсолютно верный способ, как это делать.
– Неужели! – воскликнула я. – О, скажите же, какой.
Наш разговор с каждой минутой увлекал меня все больше.
– Все очень просто. Вы должны уступать им во всех отношениях.
– Боже! – вздохнула я, усиленно размышляя.
– Видите ли, все эти английские femmes du monde[30], эти Вероники, Шейлы и Бренды, а также ваша матушка (хотя никто не может сказать, что она остается в одном маленьком кругу, если бы она так делала, то не была бы такой déclassée[31]) – они следуют совершенно иному плану. Они гордые и отстраненные. Когда звонит телефон, их нет дома, когда вы приглашаете их пообедать, они заняты, если только вы не позаботились об этом за неделю, – короче говоря, elles cherchent à se faire valoir[32], и это никогда, никогда не имеет успеха. Даже английским мужчинам, которые к этому привыкли, через некоторое время надоедает. Конечно же, ни один француз не станет мириться с этим ни дня. Поэтому они продолжают перетасовку.
– Они очень гадкие леди, не так ли? – спросила я, сформировав это мнение прошлым вечером.
– Нисколько, бедняжки. Они les femmes du monde, voilà tout[33]. Я их обожаю, с ними так легко поладить. Вовсе не гадкие. И я обожаю la mère[34] Монтдор – какая она забавная со своим снобизмом. Я очень, очень люблю снобов, по мне они всегда так очаровательны. Я ведь гостил у них в Индии, знаете ли. Она была обворожительна, и лорд Монтдор притворялся, что он тоже.
– Притворялся?
– Этот человек соткан из притворства, как столь многие из этих чопорных старых англичан. Конечно, он большой, большой враг моей страны – сторонник краха французской империи.
– Почему? – спросила я. – Я думала, теперь мы все друзья.
– Друзья! Как кролики и удавы. Я не испытываю особой любви к лорду Монтдору, но он довольно умен. Вчера после обеда он задал мне сто вопросов об охоте на куропаток во Франции. Почему? Можете быть совершенно уверены, у него была на это какая-то причина.
– Вам не кажется, что Полли очень красива? – спросила я.
– Да, но она для меня еще и довольно загадочна, – ответил он. – Пожалуй, у нее нет правильно организованной сексуальной жизни. Да. Безусловно, именно это делает ее такой мечтательной. Надо посмотреть, что я могу для нее сделать – только времени маловато. – Он посмотрел на часы.
Я чопорно ответила, что очень мало хорошо воспитанных английских девушек имеют правильно организованную сексуальную жизнь. Моя, насколько я знала, была вообще не организована, а я вроде не была такой уж особенно мечтательной.
– Но что за красавица, даже в том ужасном платье. Когда у нее появится немного любви, она сможет стать одной из заметных красавиц нашего века. Неизвестно, как дело повернется, с англичанками всегда так. Она может нахлобучить на голову фетровую шляпу и стать леди Патрицией Дугдейл, все зависит от любовника. А этот Малыш Дугдейл, что он за человек?
– Дурацкий, – с чувством сказала я. – Дур-р-рацкий.
– Но вы невозможны, моя дорогая. Гадкие леди, дурацкие мужчины – вы, право же, должны постараться больше полюбить людей, а не то вы никогда не поладите с этим миром.
– Что вы подразумеваете под словом «поладить»?
– Ну, принять все эти вещи вроде мужей и женихов и примириться с ними. Это то, что действительно имеет значение в жизни женщины.
– А дети? – спросила я.
Он покатился со смеху.
– Да, да, конечно, дети. Первыми мужья, затем дети, затем женихи, затем снова дети, затем вам придется жить возле парка Монсо из-за нянек – это целая программа, иметь детей, могу вам сказать, особенно если вам, как и мне, случится предпочесть Левый берег.
Я не поняла из всего этого ни единого слова.
– Вы собираетесь быть Сумасбродкой, как ваша мать? – спросил он.
– Нет, нет, – запротестовала я. – Я очень постоянна.
– В самом деле? Не вполне уверен.
Вскоре – слишком скоро, на мой вкус – мы опять оказались у дома.
– Овсянка, – произнес герцог, вновь взглянув на часы.
Парадная дверь отворилась, открыв сцену великого смятения. Бо́льшая часть гостей, некоторые в твидовых костюмах, а некоторые в халатах, сгрудилась в холле, как и всевозможная прислуга, домашняя и садовая, между тем как деревенский полисмен, который от волнения притащил с собой в помещение свой велосипед, обсуждал что-то с лордом Монтдором. Высоко над нашими головами, перегнувшись через перила перед статуей Ниобы, леди Монтдор в розовато-лиловом атласном палантине кричала своему мужу:
– Скажи ему, что надо немедленно вызвать сюда Скотленд-Ярд, Монтдор! Если он не пошлет за ними, я сама позвоню министру внутренних дел. По счастью, у меня есть номер его частной линии. Впрочем, я думаю, лучше пойти и сделать это сейчас.
– Нет-нет, дорогая, пожалуйста, не надо. Говорю тебе, инспектор уже в пути.
– Да, надеюсь, но откуда нам знать, что это самый лучший инспектор? Думаю, мне стоит обратиться к моему другу, полагаю, он будет обижен, если я этого не сделаю, дорогой. Он всегда так стремится сделать все, что в его силах.
Я была несколько удивлена, услышав, как нежно леди Монтдор говорит о члене лейбористского правительства, поскольку, по моему опыту, не таково было отношение к этому правительству других взрослых. Но когда я узнала ее лучше, то поняла, что в ее глазах власть была положительным качеством и что она автоматически любила тех, кто был ею наделен.
Мой спутник, с сосредоточенным выражением, которое появляется на лицах французов с приближением трапезы, не стал дожидаться конца перепалки и направился прямиком в столовую, но, хотя я тоже была очень голодна после прогулки, любопытство взяло верх, и я осталась, чтобы выяснить, что все это значит. Похоже, ночью случилось ограбление, и почти все в доме, кроме лорда и леди Монтдор, лишились драгоценностей, мелких денег, мехов и всего, что свободно валялось и что можно было вынести. Что особенно раздосадовало жертв – так это то, что все они были разбужены кем-то рыщущим в их комнатах, однако немедленно заключили, что это, вероятно, Советер, предающийся своему хорошо известному хобби. Так что мужья просто с ворчанием переворачивались на другой бок со словами: «Извини, старина, это всего лишь я, попытайся в соседнюю дверь», – тогда как жены лежали тихонько в счастливом трансе желания, мурлыча слова ободрения, которые знали на французском. Или так, во всяком случае, они говорили друг о друге, и когда я по пути наверх, чтобы сменить мокрые туфли, проходила мимо телефонной кабины, то слышала птичье чириканье миссис Чэддсли-Корбетт, которая возвещала внешнему миру свою версию этой истории. Возможно, перестановки в кабинете правительства в конце концов начинали немного прискучивать, и эти дамы в глубине души давно готовились к новой политике.
Общее мнение теперь было настроено резко против Советера, на чьей совести, совершенно ясно, все это и лежало. Обстановка накалилась, когда выяснилось, что ночью он хорошо отдохнул, чтобы в восемь часов встать и позвонить своей любовнице в Париж, а потом уйти на прогулку с «той маленькой девочкой». («Недаром она дочь Сумасбродки», – произнес кто-то с горечью, а я услышала.) Кульминации всеобщее возмущение достигло, когда было замечено, как он поглощает обильный завтрак, состоящий из овсянки со сливками, кеджери[35], яиц, холодной ветчины и многочисленных тостов, намазанных оксфордским джемом. Это было очень не по-французски, шло вразрез с его репутацией и представляло собой неподобающее поведение, учитывая хорошо известную хрупкость собратьев-гостей. Британия почувствовала себя уязвленной этим иностранцем, вон его! Он и уехал сразу после завтрака, умчавшись сломя голову в машине в Ньюхевен, чтобы успеть на судно до Дьеппа.
– Жизнь в замке, – объяснила его мать, которая осталась безмятежно гостить до вечера понедельника, – всегда раздражает Фабриса и заставляет его нервничать, бедный мальчик.
6
Остаток того дня был довольно сумбурным. Мужчины наконец с большим опозданием уехали на охоту, тогда как женщины остались дома и подверглись опросам разнообразных инспекторов на предмет их пропавшего имущества. Конечно, ограбление послужило чудесной темой для разговоров, и никто даже не пытался говорить о чем-то другом.
– Я совершенно не переживаю по поводу бриллиантовой броши. В конце концов, она застрахована, и теперь я смогу купить вместо нее клипсы, что будет во много раз шикарнее. Всякий раз, как вижу клипсы Вероники, мне становится дурно, и к тому же та брошь слишком напоминала мне о моей никчемной старой свекрови. Но самое омерзительное с их стороны – это то, что они взяли мою меховую горжетку. Грабители, похоже, не понимают, что человеку может быть холодно. Ему бы понравилось, если бы я забрала у его жены шаль?
– Да, досадно. Я в бешенстве по поводу своего браслета, заговоренного на удачу, ни для кого другого он не имеет ценности. В самом деле, это слишком, слишком отвратительно. Как раз когда мне удалось достать кусок веревки миссис Томпсон[36], я тебе говорила? Роли теперь никогда не выиграет Национальный кубок по скачкам, бедняга.
– А у меня пропал мамин медальон, который она носила в детстве. Не могу понять, зачем моя ослица-горничная решила его уложить, обычно она этого не делает.
Эти бесцеремонные женщины стали вполне человечными, оплакивая свои утраченные побрякушки, и теперь, при отсутствии в доме мужчин, они вдруг показались мне гораздо симпатичнее. Я говорю о кордебалете Вероники, ибо сама миссис Чэддсли-Корбетт, так же как и леди Монтдор и леди Патриция, всегда вели себя одинаково в любой компании.
Во время вечернего чая снова появился полисмен со своим велосипедом, утерев носы всем важным детективам, приехавшим из Лондона в сверкающих автомобилях. Он предъявил словно принесенную с дешевого благотворительного базара кучу предметов, которые были сложены грабителями под стогом сена, и почти все мелкие сокровища были вновь с криками радости обретены их владелицами. Поскольку теперь недоставало только ювелирных украшений значительной ценности и чувствовалось, что этой потерей должны заняться страховые компании, вечеринка продолжалась в гораздо более позитивной атмосфере. Я больше не слышала, чтобы кто-то из женщин снова упомянул о краже, хотя их мужья и продолжали бубнить о страховщиках и страховых премиях. В воздухе, однако, витали отчетливо выраженные антифранцузские чувства. Француженки Нора и Нелли, случись кому-то из них в этот момент здесь подвернуться, встретили бы весьма холодный прием, а Малыш, если и был вообще способен пресытиться какой-то герцогиней, должен был пресытиться именно французской, поскольку все, кроме него, сбежали от пулеметного огня ее вопросов, и следующие два дня ему пришлось провести практически наедине с ней.
Я бесцельно слонялась, как это бывает на многодневных вечеринках в загородном доме, в ожидании следующей трапезы. Пора переодеваться к обеду воскресным вечером еще не подошла. Одной из приятностей пребывания в Хэмптоне в качестве гостя было то, что на стоявшем в Длинной галерее громадном столе в стиле Людовика XV с нарисованной на нем географической картой всегда можно было найти все мыслимые еженедельные газеты. Они были аккуратно разложены рядами и заново перекладывались два или три раза в день лакеем, для которого это было, по всей видимости, единственным занятием.
Мне редко доводилось видеть светские журналы «Татлер» и «Скетч», так как мои тетки считали совершенно непозволительным расточительством подписываться на такие издания, и я жадно глотала старые номера, когда леди Монтдор позвала меня с дивана, где сидела с самого чаепития, глубоко погруженная в беседу с миссис Чэддсли-Корбетт. Я и так время от времени поглядывала в их сторону, интересуясь, о чем они могут говорить, жалея, что я не муха на стене, чтобы их услышать, и размышляя о том, что трудно было бы найти еще двух столь различных внешне женщин. Миссис Чэддсли-Корбетт, скрестив маленькие, костлявые, обтянутые шелком ноги, открытые выше колена, скорее примостилась, чем сидела, на краешке дивана. На ней было простое саржевое платье цвета беж, явно сшитое в Париже. Она курила сигарету за сигаретой, вертя их в длинных, тонких белых, сверкающих кольцами пальцах с накрашенными ногтями, ни секунды не посидев спокойно, хотя говорила с великой серьезностью и сосредоточенностью.
Леди Монтдор сидела, плотно прислонившись к спинке дивана и твердо поставив на пол ноги. Она казалась монументальной, неподвижной и солидной, не то чтобы полной, но именно солидной во всех отношениях. Элегантность, даже если она к ней стремилась, вряд ли была бы для нее достижима в том мире, где ее олицетворяла та, другая женщина и не только телосложением, быстрыми и нервными движениями, но и весьма конкретной одеждой. Седые волосы леди Монтдор были коротко острижены, но при этом пушисты, а не уложены гладкой шапочкой, брови у нее росли, как им заблагорассудится, и когда она не забывала подкрасить губы и напудриться, цвет помады не имел значения, а пудра наносилась кое-как. Так что ее лицо, в сравнении с лицом миссис Чэддсли-Корбетт, было как луг в сравнении с лужайкой, а голова выглядела в два раза крупнее, чем изысканная маленькая головка рядом с ней. Но тем не менее смотреть на нее было приятно. Здоровье и живость придавали ее лицу определенную привлекательность. Конечно, она казалась мне тогда очень старой. Было же ей лет пятьдесят восемь.
– Подойдите сюда, Фанни.
Я была слишком удивлена, чтобы меня встревожил этот призыв, и поспешила к ним, спрашивая себя, к чему бы это.
– Сядьте там, – велела леди Монтдор, указывая на стул, украшенный ручной вышивкой, – и поговорите с нами. Вы влюблены?
Я позволила себе залиться краской. Как они угадали мой секрет? Конечно, я к тому времени была уже два дня как влюблена, с той самой моей утренней прогулки с герцогом Советером. Влюблена страстно, но, как я, безусловно, осознавала, безнадежно. В сущности, то, что леди Монтдор предназначала Полли, приключилось со мной.
– Ну, вот видите, Соня, – торжествующе провозгласила миссис Чэддсли-Корбетт, с нервной стремительностью постукивая сигаретой по украшенному драгоценностями портсигару и прикуривая от золотой зажигалки, а между тем не сводя с моего лица бледно-голубых глаз. – Что я вам говорила? Конечно, влюблена, бедная милашка, только посмотрите на этот румянец. Это должно быть что-то совершенно новое и ужасно надуманное. Знаю, это мой дорогой старый муж. Признайтесь! Меня бы это ни капельки не возмутило.
Мне не хотелось признаваться, что я все еще, после целого уик-энда, не имела ни малейшего представления, который из множества присутствующих здесь мужей может быть ее мужем, поэтому я поспешно пролепетала:
– О нет, нет, ничей муж, клянусь. Только жених и кроме того такой, обособленный.
Женщины засмеялись.
– Ну, хорошо, – кивнула миссис Чэддсли-Корбетт, – мы не собираемся выпытывать. Вот что нам действительно хочется знать, чтобы разрешить спор: вы всегда мечтали о ком-то, с тех пор как себя помните? Пожалуйста, ответьте честно.
Я была вынуждена признаться, что так оно и было. Еще когда я была совсем малюткой, практически сколько себя помню, какой-нибудь дивный образ был лелеем в моем сердце – последняя мысль перед сном, первая мысль утром. Фред Терри в роли сэра Перси Блэкени, лорд Байрон, Рудольф Валентино, Генрих V, Джеральд дю Морье, чудная миссис Эштон из моей школы, Стирфорд из романа «Дэвид Копперфилд», Наполеон – образ сменял образ. Под конец это был бледный напыщенный молодой человек из Министерства иностранных дел, который однажды во время моего светского сезона в Лондоне пригласил меня на танец. Он показался мне самым цветом космополитической цивилизации и оставался главным пунктом моего существования, пока не был стерт из сердца Советером. Потому что именно это всегда происходило с подобными образами. Время и злое отсутствие затуманивали их, стирали, но никогда до конца не уничтожали, пока какой-нибудь прелестный новый образ не являлся и не вытеснял их.
– Вот видите, – с триумфом повернулась к леди Монтдор миссис Чэддсли-Корбетт. – От детской коляски и до катафалка, дорогая, я прекрасно это знаю. В конце концов, о чем бы иначе было человеку думать, когда он в одиночестве?
И в самом деле, о чем? Эта Вероника попала не в бровь, а в глаз. Но леди Монтдор она, похоже, не убедила. Я была уверена, что та никогда не питала романтических стремлений и ей было о чем подумать в одиночестве, что, впрочем, вряд ли с ней когда-либо случалось.
– Но в кого же она может быть влюблена? А если это и так, то ведь я должна была бы знать?
Я догадалась, что они говорят о Полли, и миссис Чэддсли-Корбетт подтвердила это, сказав:
– Нет, дорогая, вы бы не знали, ведь вы мать. Когда я вспоминаю бедную мамочку и ее идеи на предмет моих чудачеств…
– Ну, а вот, Фанни, скажите нам, что вы думаете. Влюблена ли Полли?
– Вообще-то, она говорит, что нет, но…
– Но вы считаете, что невозможно ни о ком не мечтать? Вот и я так думаю.
Мне самой было интересно. Мы с Полли накануне ночью долго болтали, растянувшись на моей кровати в халатах, и я была почти уверена, что она чего-то недоговаривает, чего-то, что ей отчасти хотелось бы рассказать.
– Думаю, возможно, это зависит от натуры каждого… – с сомнением промолвила я.
– Так или иначе, – сказала леди Монтдор, – одно совершенно ясно. Она не обращает внимания на молодых людей, которых я ей прочу, а они не обращают внимания на нее. Они, конечно, обожают меня, но какой от этого толк?
Миссис Чэддсли-Корбетт поймала мой взгляд и, как мне показалось, украдкой подмигнула. Леди Монтдор продолжала:
– Ей скучно, и им скучно. Не могу сказать, что я горю желанием вывезти ее в Лондон, коль скоро она продолжает в таком духе. Она была очень милым, покладистым ребенком, но, кажется, теперь, когда выросла, характер у нее совершенно поменялся. Я не могу этого понять.
– О, она точно западет на какого-нибудь славного парня в Лондоне, дорогая, – утешила ее миссис Чэддсли-Корбетт. – Я бы на вашем месте не слишком беспокоилась. В кого бы она сейчас ни была влюблена – если она влюблена, а нам с Фанни кажется, что это так, – вероятно, это своего рода мечта, и ей нужно просто увидеть каких-то людей из плоти и крови, чтобы о ней забыть. С девушками такое часто случается.
– Да, моя дорогая, все это очень хорошо, но она выходила в свет в течение двух лет в Индии, как вы знаете. Там было несколько очень привлекательных мужчин, игроков в поло и так далее – конечно, неподходящих, так что я была только благодарна, что она не влюбилась ни в кого из них, но она могла бы влюбиться, это было бы так естественно. Ведь бедная дочка Делии влюбилась в раджу, как вы знаете.
– И я ее совсем не виню, – сказала миссис Чэддсли-Корбетт. – Раджи могут быть просто божественны со всеми своими бриллиантами.
– О нет, моя милая – у любой английской семьи камни лучше, чем у них. Пока я была там, то не видела таких, что сравнились бы с моими. Но этот раджа был довольно привлекателен, должна сказать, хотя, конечно, Полли этого не видела, она никогда не видит. Просто ужас какой-то! Ах, если бы мы были французами. Те, право же, умеют улаживать такие дела гораздо, гораздо лучше. Начать с того, что все наше достояние унаследовала бы сама Полли, а не те глупые люди из Новой Шотландии[37], это так неудачно. Вы можете себе представить, что здесь живут колонисты? А во-вторых, мы должны были бы сами найти ей мужа, после чего он и она жили бы то в его доме, с его родителями, то здесь, с нами. Эта древняя французская профурсетка вчера вечером объяснила мне всю систему.
Леди Монтдор была знаменита тем, что подхватывала слова, смысл которых не вполне понимала, и придавала им собственное значение. Она совершенно определенно хотела сказать «старушка». Миссис Чэддсли-Корбетт радостно пискнула от восторга и помчалась наверх, сказав, что должна переодеться к обеду. Когда я поднялась туда десять минут спустя, она все еще пересказывала эту новость через дверь ванной комнаты.
Леди Монтдор задалась целью завоевать мое сердце и, конечно, преуспела. Это было не очень трудно: я была юна и пуглива, она – стара и величественна, и требовался только какой-нибудь случайный намек на взаимопонимание, улыбка, проявление сочувствия, чтобы заставить меня думать, что я действительно ее люблю. Дело в том, что у нее было обаяние, а поскольку обаяние, соединенное с богатством и видным положением, почти неотразимо, так случилось, что ее многочисленными ненавистниками являлись обыкновенно люди, которые никогда с ней не встречались или которых она намеренно унижала или игнорировала. Те, кому она хотела понравиться и прилагала к тому усилия, будучи вынуждены признать, что в целом ей нет оправдания, были, однако, склонны говорить так: «…но все равно она очень мила со мной, и я не могу не относиться к ней с симпатией». Она же сама, разумеется, никогда ни секунды не сомневалась, что ее обожают, причем во всех слоях общества.

