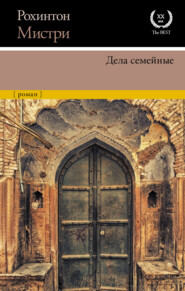
Полная версия:
Дела семейные

Рохинтон Мистри
Дела семейные
© Rohinton Mistry, 2002
© Перевод. М. Салганик, наследники, 2022
© Издание на русском языке AST Publishers, 2022
* * *Глава 1
Луч предвечернего солнца брызнул в изножье кровати Наримана и разбудил его. Он проснулся, взглянул на часы. Скоро шесть. Посмотрел на ноги, пригретые солнцем. Искореженные и скрюченные пальцы, с возрастом ставшие похожими на птичью лапу, наслаждались теплом. Глаза опять закрылись.
Мало-помалу солнечный луч уходил в сторону, вызывая у Наримана смутное ощущение, что его бросают. Снова посмотрел на часы: уже седьмой. С трудом поднялся – пора собираться на вечернюю прогулку. Пока умывался и полоскал рот, за плеском воды послышались голоса падчерицы и пасынка.
– Папа, пожалуйста, не выходи на улицу, мы тебя умоляем, – сказал Джал за дверью ванной и сморщился от звука собственного голоса, потому что он отдался громовым раскатом в ушах.
Джал поспешно подстроил слуховой аппарат. Аппарат у него старой модели: металлическая коробочка, размером со спичечную, крепится к нагрудному карману, оттуда тянется проводок к наушнику. Джал без особой охоты приобрел аппарат четыре года назад, когда ему исполнилось сорок пять, но так и не привык к его капризам. «Чуть получше», – сказал он себе и продолжил вслух:
– Неужели тебе трудно выполнить нашу просьбу? Прошу тебя, оставайся дома. Ради твоего же блага.
– Почему мы должны кричать через дверь? – возмутилась Куми. – Открой ты ее, Джал!
Куми на два года моложе брата, тон ее бранчлив, в противовес его увещевательному. Она сухопара, как брат, но крепче его; она в мать, однако ей недостает округлостей для смягчения острых углов и линий. Когда она подрастала, родня невесело вздыхала, глядя на нее, и приговаривала: отцовская любовь, как солнца свет и свежая вода, без них не расцветает девичья краса, а отчим – совсем не то. Однажды по неосторожности кто-то сказал это при ней. Слова больно обожгли ее, она убежала к себе плакать по умершему отцу.
Джал подергал дверную ручку – заперто. Поскреб в густых курчавых волосах и осторожно постучался. Ответа не последовало.
В дело вступила Куми.
– Сколько можно повторять, папа! Не запирай дверь! Как мы тебя вытащим, если ты упадешь или сознание потеряешь? Живи по правилам!
Нариман смыл с рук мыльную пену и потянулся за полотенцем. Куми ошиблась в выборе профессии, думал он. Ей бы стать директрисой школы, требовать соблюдения правил от подневольных учениц, отравляя им жизнь. Вместо этого она его донимает правилами, регулирующими все стороны его скукожившейся жизни. Кроме запрета запирать двери, он обязан объявлять о намерении посетить клозет. По утрам должен оставаться в постели, пока она не придет за ним. Ванна – не чаще двух раз в неделю, при этом Куми выступает в роли хореографа, руководя каждым его движением, а Джал выполняет обязанности помощника режиссера, страхуя безопасность отчима. Существует еще целый свод правил в отношении питания, одежды, зубных протезов, включения проигрывателя… И в минуты доброжелательства Нариман соглашается с тем, что неустанно твердят брат с сестрой: все ради его же блага.
Он утирает лицо под тарахтение дверной ручки.
– Папа, ты в порядке? Я вызову слесаря снять все дверные замки – предупреждаю тебя!
Трясущиеся руки не сразу сумели повесить полотенце обратно на сушилку. Он открыл дверь.
– Хэлло, вы меня ждете?
– С ума можно сойти! У меня чуть сердце не выскочило – то ли ты сознание потерял, то ли еще что!
– Ничего, ничего, с папой все в порядке, – успокаивает сестру Джал. – Это самое главное.
Нариман с улыбкой вышел из ванной и подтянул брюки. С ремнем труднее, дрожащие пальцы не попадают стерженьком в пряжку. Засмотрелся на косой луч между кроватью и окном, залюбовался галактиками пляшущих пылинок, совершающих свои небесные движения по загадочным орбитам. Гул машин за окном, как всегда, усилился к вечеру. Отчего это уличный шум больше не раздражает его, подумал он…
– Что ты размечтался, папа, ты лучше нас послушай, – говорит Куми.
Нариману казалось, что в окно вливается благодатный запах земли, омытой дождем; он почти ощущал его на вкус. Выглянул в окно. Да, капает. Но это не дождь, а тоненькая струйка воды из соседского цветочного ящика.
– Даже с моими здоровыми ногами рискованно ходить по улице, – продолжил Джал ежевечернее выступление по поводу прогулок отчима. – А хулиганство на бомбейских улицах? Легче наткнуться на золотой самородок под ногами, чем встретить обыкновенную вежливость. Какое удовольствие ты находишь в этих прогулках? Ничего хорошего.
Носки. Нариман решил надеть носки и подошел к комоду. Роясь в неглубоком ящике, он ответил, не поднимая головы:
– Совершенно верно, Джал. Но есть много источников удовольствия. Канавы, рытвины, уличное движение не могут затмить жизненные радости.
Рука, трепещущая как птичье крыло, все шарила в ящике. Но задача оказалась не по силам, и он сунул в туфли босые ноги.
– Туфли на босу ногу? – возмутилась Куми. – Выйдешь на улицу в таком виде, как дикарь из деревни? И посмотри, как у тебя руки дрожат, ты даже шнурки не можешь завязать.
– Верно, и ты могла бы помочь.
– С радостью, если бы ты по делу собирался: к доктору или в храм огня за маму помолиться. А глупостям я потакать не стану. Чтобы человек с болезнью Паркинсона проделывал то, что ты себе позволяешь!
– Я же не в Непал собираюсь по горам лазить. Хочу немного пройтись по переулку, вот и все.
Смягчаясь, Куми опускается на колени завязать ему шнурки, что она делает каждый вечер.
– Начало августа, – ворчит она, – муссон в разгаре, а тебе гулять приспичило.
Он подошел к окну и показал на небо:
– Дождь перестал, смотри.
– Ты просто упрямый ребенок, вот ты кто, – жаловалась Куми. – Наказать бы тебя, как ребенка. Оставить без обеда за непослушание, а?
«С твоей стряпней это не наказание, а подарок», – подумал он.
– Нет, ты слышал, Джал?! Чем он старше становится, тем бессовестнее!
Нариман понял, что произнес это вслух.
– Должен признаться, Джал, твоя сестра меня пугает. Она читает мои мысли.
Но слуховой аппарат опять подвел его пасынка, усилив громкий голос Куми, который перекрыл отчимово бормотание, и Джал услышал лишь неясный гул. Подстроив аппарат, Джал вернулся к тому последнему, что дошло до его слуха.
– Я согласен, папа, есть множество источников удовольствия. Наш разум содержит в себе столько миров, что радости от них хватит на целую вечность. Плюс у тебя есть книги, есть проигрыватель, радио есть. Зачем вообще выходить из квартиры? Тут как в раю. Этому дому не случайно дали название «Шато фелисити» – здесь и вправду можно блаженствовать. Я бы с радостью отгородился от этого ада за стенами и всю жизнь провел бы дома.
– Не смог бы, – возразил Нариман. – Ад обладает способностью проникать даже через небесные мембраны. «О небеса, я в небесах», – тихонько замурлыкал Нариман, но смолк, чувствуя нарастающее раздражение Куми. – Достаточно вспомнить, что творилось после разгрома мечети Бабри[1].
– Ты прав, – поежился Джал, – временами ад всюду проникает.
Чуть не десяток лет прошел с тех пор, как индусские фанатики, распаленные соответствующей пропагандой, разгромили эту мечеть, еще в шестнадцатом веке построенную на руинах индусского храма. Эхо события раскатилось по всей Индии кровавыми индусско-мусульманскими стычками, а в Бомбее вылилось в страшные погромы мусульманских кварталов…
– Чего ты соглашаешься с его глупым примером? – возмутилась Куми. – Погромы были на улицах, а не в домах!
– Я думаю, папа имеет в виду эту семью парсов, двух стариков, мужа и жену, которые погибли у себя же в спальне.
– Ты ведь тоже помнишь эту историю, Куми, – вздохнул Нариман, – когда озверелые толпы подожгли дом, потому что кто-то сказал, что там мусульмане прячутся?
– Я все помню, у меня память получше твоей! Несчастным не повезло, стали жертвой недоразумения! Часто бывает, чтобы из-за мечети в Айодхье здесь, в Бомбее, начал зверствовать народ? Редчайший случай!
– Справедливо, – согласился Нариман. – Счет в нашу пользу.
– А взять прошлую неделю? В Фироз-Баге избили и ограбили старуху в ее собственной квартире, – не к месту припомнил Джал. – Бедняжка лежит в «Парси дженерал», и неизвестно, выживет ли.
– Ты на чьей стороне? – взорвалась Куми. – Хочешь доказать, что папа может спокойно гулять по вечерам? Что мир не превратился в опасное место?
– Конечно, превратился, – ответил за пасынка Нариман. – В особенности внутри дома.
Куми, стиснув кулаки, выскочила из комнаты. Он подышал на очки и медленно протер стекла носовым платком. Его меркнущее зрение, неудобные зубные протезы, трясущиеся конечности, согбенная спина и шаркающая походка были почти готовы к совершению вечернего ритуала.
Нариман Вакиль вышел из «Шато фелисити» с зонтиком, который служил ему тростью. После затхлой пустоты квартиры бурление жизни было как воздух для изголодавшихся легких.
Он шел к переулку, где на углу торговали овощами. Корзины и ящики, полные зелени, бобов, фруктов и корнеплодов, преображали угол в сад. Французские бобы, сладкий картофель, цветная капуста, кориандр, зеленые перчики, помидоры цвели под уличными фонарями, вознося сумеркам свои краски и благоухание. Он останавливался, склоняясь, чтобы коснуться их. Пальцы так и тянуло к чувственным луковицам и лоснящимся помидорам; фиолетовые баклажаны и сладострастная морковь были неотразимы. Зеленщики-сабзивалы знали, что он не покупатель, но это их не смущало, а ему нравилось думать, что они понимают, зачем он приходит. На подмостках у цветочного ларька двое мужчин сидели, поджав ноги, как музыканты, их пальцы выбирали, подбирали, складывали и связывали, сплетая в гирлянды, ноготки, жасмин, лилии и розы, играя цветочную мелодию. Нариман представлял себе дальнейший путь их произведений, которые будут упрашивать богов в храме, чтить фотографии чьих-то предков, украшать волосы жен, матерей и дочерей.
Прилавок с бхел-пури[2] выглядел рельефным пейзажем с золотистыми пирамидами сева, снежными горками мумры, холмиками лепешек-пури, а в долинах между ними поблескивали озерца зеленых, коричневых и красных соусов-чатни в алюминиевых мисках.
Продавец бананов разгуливал со своим товаром. Он шагал, вытянув руку, по плечо увешанную тяжелыми кистями бананов, – цирковой номер жонглера и силача.
Для Наримана все это было цирковой магией, упоительным магическим действом.
…В канун семьдесят девятого дня рождения он вернулся домой, хромая, со ссадинами на локте и предплечье. Упал, переходя через дорогу напротив «Шато фелисити».
Дверь открыла Куми.
– Боже мой, – взвизгнула она, – Джал, беги сюда, папа весь в крови!
– Где кровь? – изумился Нариман.
Кровь поцарапанной руки немного запачкала рубашку.
– Это? Это называется «весь в крови»? – Нариману стало смешно.
– Как ты можешь смеяться, папа? – упрекнул его Джал. – Мы с ума сходим из-за твоих травм!
– Не преувеличивай. На что-то наступил и слегка подвернул ногу, вот и все.
Куми смочила ватку «Деттолом» и принялась обрабатывать ссадины. Рука Наримана дернулась от жгучего прикосновения антисептика. Куми вздрогнула, как от боли.
– Прости, папа. – Она подула на руку. – Так лучше?
Он кивнул. Ловкие пальцы Куми обтирали ссадины, осторожно заклеивали их пластырем.
– Бога надо благодарить, что все обошлось, – говорила она, убирая аптечку, – ты же понимаешь, чем это могло кончиться. А если бы ты упал прямо на улице, на проезжей части?
– Ох! – Джал закрыл лицо руками. – Даже подумать страшно.
– Одно ясно, – продолжала Куми, – больше ты на улицу не пойдешь.
– Согласен, – подхватил Джал.
– Не будьте идиотами, вы двое.
– А как насчет тебя, папа? – взвилась Куми. – Завтра тебе исполняется семьдесят девять лет, а ты ведешь себя совершенно безответственно. Не думаешь о Джале и обо мне, не ценишь, что мы для тебя делаем.
Нариман сидел, стараясь сохранять гордое спокойствие. Но руки его так и плясали, сколько он ни пытался удержать их на коленях. И ноги дергались все сильней, заставляя подпрыгивать колени. И еще он никак не мог вспомнить, принял ли лекарства после обеда.
– Выслушайте меня, – сказал он, устав ожидать, пока успокоятся конечности. – В молодости меня контролировали родители и погубили те годы. По их милости я женился на вашей матери и погубил свою зрелость. Теперь вы хотите истерзать мою старость. Я этого не допущу.
– Ложь! – вспыхнула Куми. – Это ты погубил мамину жизнь и нашу с Джалом тоже! Я не потерплю ни одного дурного слова о маме!
– Ты только не расстраивайся, – пытался утихомирить сестру Джал, яростно поглаживая ручку кресла. – Я уверен, что сегодняшний случай послужит папе предостережением.
– И он поймет? – Куми злобно смотрела на отчима. – Или опять выйдет на улицу и переломает себе кости, на мою голову?
– Нет, нет, он будет хорошо вести себя. Будет сидеть дома, читать, отдыхать, слушать музыку и…
– Я хочу это от него услышать!
Нариман сохранял спокойствие, занятый полезным делом: он уже расстегнул пояс и перешел к развязыванию шнурков.
– Если ты не желаешь слушаться нас, можешь спросить, что твоя дочь об этом думает, когда она завтра придет, – предложила Куми. – Твоя плоть и кровь, не то что мы с Джалом, второй сорт.
– Вот это ты совершенно напрасно.
– Слушай, – вздохнул Джал, – Роксана с семьей придет на папин день рождения. Давайте не будем завтра ссориться.
– При чем тут ссора? – возразила Куми. – Просто обсудим все серьезно, как взрослые люди.
Джал и Куми безоглядно полюбили Роксану с момента ее появления на свет, хоть и приходилась она им не родной, а сводной сестрой. Джалу тогда было четырнадцать, Куми – двенадцать, поэтому у них не возникло ощущения, что с рождением малышки они оказались на втором плане, они не терзались ревностью, завистью или даже ненавистью – теми сложными чувствами, которые новорожденные нередко вызывают у братьев и сестер, близких к ним по возрасту.
Или, может быть, Джал и Куми обрадовались появлению Роксаны, потому что она заполнила пустоту, оставленную смертью отца, умершего четырьмя годами раньше? Дети редко видели отца здоровым. В короткие промежутки, когда он не был прикован к постели из-за больных легких, он был так слаб, что нуждался в постоянном уходе и помощи. Хронический плеврит оказался предвестием более серьезной легочной болезни, страшная аббревиатура которой никогда не произносилась ни в семье, ни среди друзей. Вода в легких – так говорили о недуге Палонджи.
Сам Палонджи, чтобы облегчить близким бремя тревоги, превратил в шутку это кодовое название своей болезни. Когда Джал, который рос большим шалуном, выкидывал очередной фортель, то причиной считалась вода в его голове. «Уши затыкай, когда моешь голову», – поддразнивал его отец. Неумелые руки свидетельствовали о воде в пальцах. А когда маленькая Куми плакала, отец говорил: «Моя прелестная дочурка не плачет, у нее просто вода в глазах». И Куми улыбалась.
Отвага Палонджи Контрактора и его решимость не допускать уныния в семье были героическими, но конец, когда он наступил, надломил Джала и Куми. Три года спустя мать вторично вышла замуж. Дети холодно приняли чужака и никак не могли преодолеть неловкость в общении с ним. Они упрямо звали Наримана Вакиля «новым папой».
Нариман болезненно реагировал на это обращение – всякий раз, когда дети называли его так, они будто камушек ему в лицо бросали.
Поначалу он пытался отшутиться:
– И все – просто «новый папа»? А почему не более длинный титул? Как насчет «новенького улучшенного папы»?
Однако выбор прилагательных оказался неудачным: Джал ледяным тоном заметил, что никто не может быть лучше их настоящего папы. Матери потребовалось немало времени, чтобы убедить детей, что ей было бы приятнее, если бы они отказались от этого «нового». Джал и Куми согласились; они быстро взрослели, слишком быстро. Дети сообщили матери, что готовы называть отчима, как она пожелает. «Он же все равно не станет им папой, как его ни зови», – сказали дети.
А Нариман задумался над тем, во что он ввязался, женившись на Ясмин Контрактор. Они не по любви соединили свои жизни – это был брак по сватовству. Ясмин пошла на этот шаг ради уверенности в будущем, ради сына и дочери.
А он, оглядываясь назад, на бесплодную пустошь их жизней, в отчаянии спрашивал себя, как он мог быть таким безвольным недоумком, чтобы дать этому свершиться.
Но через год после женитьбы в их жизнь вошло маленькое чудо. Родилась Роксана. Безмерность любви и нежности, излившаяся на ребенка, не могла не согреть их всех. Любовь к маленькой Роксане вызволила их из трясины враждебности, на некоторое время отвела беду.
* * *Время близилось к шести, пора одеваться к праздничному обеду. Нариман так ждал этого вечера и прихода Роксаны с семьей. Одеваясь, он погружался в ту счастливую пору жизни, когда у него родилась дочь.
Опять полил дождь, которого не было почти целый день. Новая сорочка, подарок Джала и Куми, дожидалась на комоде. Он вынул ее из целлофановой упаковки и поморщился от прикосновения перекрахмаленной ткани. Воротник, без сомнения, весь вечер будет натирать шею. Чего только не приходится терпеть в день рождения! В комоде лежат прекрасные рубашки, такие мягкие и удобные – они переживут его.
Пока он возился с тугими новыми петлями и пуговицами, где-то в доме застучал молоток, перекрывая барабанную дробь дождя. Дела нет никому до проблем старых и немощных – иначе не стали бы упаковывать рубашки в непроницаемые пластиковые оболочки, втыкая острые булавки в самые неподходящие места, плотно загоняя картонные вставки под воротник.
Он улыбнулся, думая про Роксану, ее мужа и двух сыновей. Мог ли он представить, любуясь крохотной девчушкой, что придет время, когда у нее будут собственные дети. Неужели это изумляет всех отцов?
А что было бы, останься она подольше малышкой? Может быть, подольше продлился бы и тот единственный период семейной жизни, когда он был действительно счастлив. Нам требуется невозможное, чтобы не быть несчастными. Но мир не так устроен. Семейное счастье оказалось коротким. Слишком коротким.
Вспомнил, как Джал взял малышку на руки и как обрадовался, когда она ухватила его за палец.
– Какая у нее сила, папа!
Куми сразу потребовала сестричку себе на руки.
– Смотри, она пузырики пускает, – восторженно вопила Куми, – совсем как из моей трубочки!
Куми только что купили на ярмарке набор с трубочкой для выдувания пузырей.
Но даже восторженной любви Джала и Куми пришел конец, когда Роксана вышла замуж и переехала жить в квартиру, которую он устроил за умопомрачительную взятку. Вот тогда ему впервые была брошена в лицо фраза о «плоти и крови», обвинение в пристрастности.
Если бы сохранилась хоть детская близость, еще не отравленная «плотью-кровью», – ибо в ту пору это не имело никакого смысла для троих детей, – если бы сохранилась хоть она как утешение, как нечто спасенное при крушении семьи! Но ему отказано и в этом. Естественно. Только к мерзкому концу могло привести такое мерзкое начало.
А что было началом? Тот день, когда он встретил дорогую свою Люси, женщину, на которой и должен был жениться? Но то был отнюдь не мерзкий день, а прекраснейшее из утр. Или позднее, когда он бросил Люси? Или когда согласился жениться на Ясмин? Или воскресный вечер, когда его родители и их друзья впервые изложили ему свой план, от которого он должен бы прийти в бешенство, взорваться, затопать ногами, сказать им, чтобы своими делами занимались, послать их к чертовой матери?
Тридцать шесть лет прошло. А он все помнит тот воскресный вечер, еженедельный сбор родительского круга. Вот в этой самой гостиной, все с той же мебелью, той же краской на стенах и с эхом голосов того воскресного вечера. Большое было ликование, когда родители объявили, что их единственный сын, долгие годы отказывавшийся порвать связь с этой гоанкой, ни в какую не соглашавшийся познакомиться с приличной девушкой из парсов, слышать не желавший о достойном браке, что их бесценный Нариман внял наконец голосу разума и дал согласие жениться. Он сидел в одиночестве на балконе, где было слышно каждое их слово. Как всегда, первым откликнулся Соли Бамбот, старейший друг родителей, адвокат, понемногу отходивший от дел, но все еще весьма влиятельный.
– Нари – троекратное ура! – возгласил он.
– Гип-гип-гип ура! – подхватили остальные.
По воскресеньям у них регулярно собиралось десять человек, считая и родителей.
– Нет, только девять, – поправился он, – потому что жена мистера Бурди, Ширин, год назад скоропостижно умерла.
По окончании траура мистер Бурди возвратился на воскресные сборища, где, по оценке Наримана, с незаурядным прилежанием исполнял роль вдовца. Отведав вкусную пакору или какой-то особый чатни, он обязательно вздыхал:
– С каким удовольствием ела бы это моя Ширин…
Посмеявшись забавному анекдоту, неизменно замечал:
– У моей Ширин было классное чувство юмора – она всегда первая смеялась удачной шутке!
Однако вдовство не вполне отвечало его характеру, и через несколько месяцев он перешел к амплуа жизнелюбивого холостяка. Компания согласилась со сменой роли и неявно поддержала мистера Бурди, перестав упоминать имя Ширин во время воскресных встреч. «К вопросу о любви, верности и памяти», – думал Нариман. Провозгласив по призыву Соли троекратное ура, компания перешла к индивидуальным поздравлениям родителей Наримана.
– Поздравляю, Марзи, – обратился мистер Котвал к отцу. – Одиннадцать лет ты боролся – и победил.
– Лучше поздно, чем никогда, – вступил и мистер Бурди. – Но удача любит удачливых. Помни – плоды терпения сладки, и все хорошо, что хорошо кончается.
– Достаточно, мистер Пословица, оставь и нам немножко.
Слушая с балкона этот комментарий, Нариман передвинул стул, чтобы наблюдать за комментаторами, оставаясь невидимым. Теперь выступала миссис Унвала, которая всегда верила, что в конечном счете мальчик сделает правильный выбор; ее муж Дара энергично кивал, поддерживая жену. Супруги всегда выступали командой, мужа в компании звали Безмолвный Партнер. Соли вышел на балкон, и Нариман немедленно уткнулся в книгу.
– Нари! Ты что сидишь тут в одиночестве? Присоединяйся к нам, глупенький!
– Попозже, дядя Соли. Хочу дочитать главу.
– Нет-нет, Нари, ты нужен нам сейчас, – настаивал Соли, отнимая книгу. – Куда спешить, слова не исчезнут со страницы.
Он потянул Наримана за руку в гостиную. Они хлопали его по плечам, жали руку, обнимали, а он ежился, сожалея, что остался дома. С другой стороны, ему неминуемо пришлось бы вынести все это. Он услышал, как тетя Наргеш, жена дяди Соли, спрашивает у его матери:
– Скажи мне, Джеру, он это искренне? Он действительно расстался с этой Люси Браганца?
– О да, – ответила мать. – Он дал нам слово.
Теперь миссис Котвал кинулась к нему через всю гостиную и, ущипнув за щеку, прощебетала:
– Когда непослушный мальчик становится наконец хорошим мальчиком, это двойная радость!
Ему хотелось напомнить миссис Котвал, что мальчику уже сорок два. Потом его поманила к себе тетя Наргеш. Она всегда говорила тише всех, и шум в гостиной заглушал ее голос. Она похлопала по дивану, приглашая его сесть рядом, взяла его за руку – ее собственная рука носила следы ожога, в молодости полученного на кухне, – и прошептала:
– Нет большего счастья, чем исполнить родительскую волю. Ты помни об этом, Нари.
Ее голос доносился до него будто издалека, и не было у него ни воли, ни сил, чтобы спорить. Он вспоминал, как на прошлой неделе они с Люси сидели на Брич-Кенди и смотрели на отлив. Мальчишки тащили сетку по мелководью между камней в поисках добычи, забытой безразличными волнами. Мальчишки шлепали по воде и орали, а он думал о том, как они с Люси одиннадцать лет бились, пытаясь создать себе отдельный мир. «Кокон, – говорила Люси. – Нам нужен кокон, в котором можно укрыться, а когда обе семьи забудут про наше существование, мы выйдем на свет как две сверкающие бабочки и вместе улетим…» Воспоминание на миг ослабило его решимость – правильно ли он поступает? Да. Правильно. Они были загнаны в угол своими семьями. Измучены постоянной нервотрепкой. Он напомнил себе, как безнадежно их положение. Дошло до того, что чуть не каждый вечер у них с Люси вспыхивали ссоры, для которых всякий раз находился повод. Какой смысл быть дальше вместе, позволять, чтобы любовь гибла в бесполезных перебранках? Дети возбужденно визжали, обнаружив в неводе улов, а Люси в последний раз пыталась убедить его: надо все послать к черту, вырваться из удушливого мира семейной тирании, бежать от чувства вины, от шантажа, на котором специализируются родители. Могут же они начать совместную жизнь, только они двое – и больше никого. Изо всех сил стараясь сохранить решимость, он ответил, что это уже сто раз обсуждалось, что семьи все равно затравят их, найдут способ. Единственный выход – побыстрей все кончить. «Хорошо, – сказала она, – больше нет смысла разговаривать». И ушла. Он остался сидеть у моря. А теперь, когда родители и их друзья, попивая скотч с содовой, обсуждают его будущее, ему кажется, будто он подслушивает разговоры посторонних. Они увлеченно играли в «конференцию круглого стола» – так они это назвали, – планируя его женатую жизнь с таким смаком, как обсуждали бы партию в вист или дружескую попойку.

