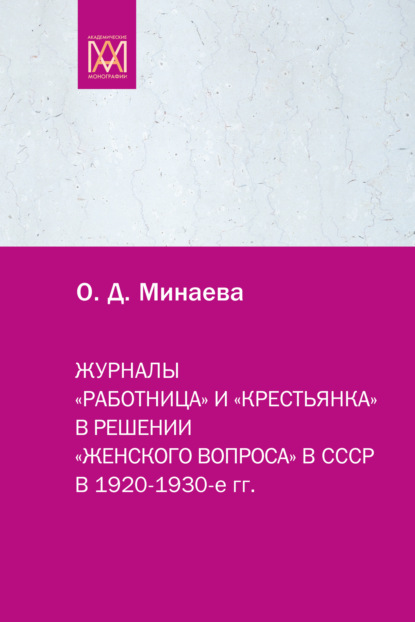 Полная версия
Полная версияЖурналы «Работница» и «Крестьянка» в решении «женского вопроса» в СССР в 1920–1930-е гг.
Как отмечают исследователи, гендерная дифференциация осуществляется при помощи принадлежности к женскому склонению и разнообразных суффиксов[340]. Причем в процессе применения этих новых слов часть их них не «прижилась» и вышла из употребления: сейчас говорят «доктор», «педагог», «инженер», «юрист», «бригадир», «мастер» и т. д. – независимо от пола работника.
С чем связано это отсутствие гендерной дифференциации в названии многих современных профессий? С тем, что женщины давно и прочно утвердились в них, завоевав уважение как специалисты? Во Франции, по наблюдению лингвистов, для многих женщин феминизация наименования их до сих пор престижной профессии равносильна потере этой самой престижности[341]. А может быть, дело в том, что обозначение пола говорит о сомнении в профессиональных качествах специалиста: врач и женщина – врач, юрист и женщина – юрист? Так, по мнению Н. И. Голубевой-Лопаткиной, феминизация названий не слишком престижных профессий воспринимается достаточно легко (уборщица, прачка, домработница), особенно если это профессии, которыми традиционно занимались только женщины. Феминизация отдельных отраслей (легкая промышленность, образование и др.)привела к тому, что из некоторых гендерно-симметричных пар (учитель – учительница, ткач – ткачиха) чаще употребляются названия профессий с «женским» суффиксом. Но также нужно отметить, что в некоторых случаях «прижились» названия профессий мужского рода, а указание на женский пол исчезло из обихода (врач, преподаватель, инженер и т. д.) или осталось в просторечии (врачиха, инженерша).
По мнению исследователей, в настоящее время профессия[342], наряду с образованием и зарплатой, является основным показателем социального статуса. Наименование профессии непосредственно связанно с чувством самоуважения и достоинства, поэтому непрестижными считаются профессии, в названии которых есть проявления «сексизма»[343], когда подчеркивается подчиненное положение женщины по отношению к мужчине (секретарша), или женщина показана в типично «женских» социальных ролях (нянька) и т. д.
Если язык рекламы «внедряет языковые модели, которые потом становятся основой осмысления и представления действительности»[344], то можно отметить, что язык печати также выполнял подобную роль, пытаясь успеть за изменениями жизненных моделей. Язык СМИ и фиксирует, и формирует процессы, происходящие в обществе и в сознании. Причем значение слова может меняться от нейтрального к отрицательному или от положительного к нейтральному и отрицательному. В женских журналах довоенного периода все новые названия женских профессий подавались в очевидно позитивном значении; если высказывалось негативное отношение, то оно маркировалось как «консервативная, отсталая» позиция.
2.3. «Мы теперь богато живем»[345]: культ ударниц и стахановок в женских журналах в 1930-х гг.
В годы первых пятилеток и коллективизации в советской печати активно пропагандировались «ударничество» и стахановское движение. Женщины занимали достойное место в создаваемом пантеоне героев труда. Образы героинь труда в женских журналах выполняли также и специфические функции. Наряду с презентацией новых возможностей, которые открылись перед трудящимися при социализме, стимуляцией производительности труда и прочими аспектами производственной пропаганды, ударницы и стахановки демонстрировали новый жизненный сценарий женщины. Как выстраивалась пропаганда ударного и стахановского движения журналистами? Вот типичный перечень тематических направлений, обязательно присутствующих в очерках и рассказах о героинях труда.
Настоящая, достойная жизнь – только в производственной сфере. Мы видим противопоставление завода и дома: «на заводе интереснее, чем дома стряпать»[346]. Виктория Кудряшова, станочница – ударница шлифовального цеха завода шарикоподшипников им. Кагановича[347] рассказывает: была домохозяйкой, «жизни настоящей не видела». Противопоставление завода и дома часто встречается в очерках и даже становится особой темой рассказов[348]. Главное для женщины на этом пути от полной беспомощности к уверенной, умелой работнице – это рост, изменение своей жизни и своего сознания. Типичный пример такого рода: домохозяйка, когда пришла на завод, ничего не умела, мастер ее не учил, в первый день так плохо работала, что попала на «черную» доску[349], а потом стала ударницей.
Часто подчеркивалось особое эмоциональное состояние женщин-ударниц: радость и гордость от результатов труда. Вот, например, фрезеровщица Л. Блохина говорит: «Раньше я была домохозяйкой и не знала, сколько творческой радости может принести работа на заводе»[350]. На ткацкой фабрике «Пролетарский труд»[351] из домохозяек «делают» работниц, пишет журналистка. Тов. Хохлова раньше была обыкновенной домохозяйкой и самой сложной машиной, с которой она имела дело, был примус. А сейчас она работает на фратерной машине. Раньше у нее «дух захватывало от страха», а теперь она «может разобрать и починить машину, знает сырье, производственный процесс, теперь она счастлива, что освободилась от своей прежней «мелкой, отупляющей, непроизводительной домашней работы»[352].
Ударничество или стахановское перевыполнение нормы повышают заработок, обеспечивают материальное благополучие. Ударницы получают в разы больше остальных работниц. Зарплаты более 700 руб.[353], более 900 руб.[354] в месяц упоминаются в очерках о знаменитых ткачихах-рекордсменках, тогда как обычный заработок работницы составлял 150–200 руб. Называя конкретные цифры, журналисты иллюстрируют агитационные лозунги и призывы добиваться рекордных показателей выработки.
Мать стахановки Таисии Одинцовой рассказывает: «Все как во сне. …Подарков Тасе надарили, заработок у нее вырос втрое. Мы никогда так хорошо не жили»[355].
В квартире у стахановки Уралмашзавода Малявиной «уютно. Обивка дивана, шторы, скатерть, обои подобраны в тон. Белоснежная кровать, чудесный коврик над кроватью, чистые половички. Она имеет патефон, радио, хорошо играет на гитаре. Подобрала хорошую библиотеку»[356]. Подробное описание ковриков и патефона имеют важное значение: надо продемонстрировать, что стахановка живет зажиточнее, чем основная масса работниц.
Простой тезис – лучше работаешь, значит лучше живешь – доносился до читательниц с помощью многочисленных конкретных примеров. Часто стахановки рассказывают о том, какие подарки они получают за трудовые рекорды. Евдокия Федотова перечисляет, что ей подарили: часы стенные, скатерть суконную, полдюжины полотняных простынь, отрез крепдешина синего, чайник электрический, утюг, одеяло шелковое, чайный и столовый сервизы, патефон, библиотеку из 122 книг, диван, шкаф, буфет и кровать. Ее маленькая дочь заводит патефон и говорит: «Вот теперь, мама, мы богато живем»[357]. Подарки так подробно описывались еще и потому, что они демонстрировали выросший уровень благосостояния работниц. Этот перечень шкафов и сервизов должен был стимулировать остальных работниц стремиться к рекордным показателям. А также показать, насколько «богаче» стал пролетариат при советской власти.
Убедительны ли были такие примеры? Думаю, да. Низкий уровень жизни рабочих семей до начала индустриализации демонстрируют данные, приведенные в справочнике «Труд в СССР». Рабочие в 1926–1928 гг. с трудом сводили концы с концами, их доходы совпадали с расходами, причем более половины зарплаты уходило на продукты питания. Исходя из анализа приведенного списка[358] предметов хозяйственного обихода в расчете на 100 человек, можно сказать, что в изобилии имелись лишь ложки, вилки, стаканы и чашки (более 100 шт.), кастрюли и чугуны (78-85). А вот кровати были не у всех (37-41), матрацы тоже (54-60); чайники металлические и фарфоровые (16-18 шт.), керосинки (8-12) – редкость. Предметами роскоши были часы карманные (7-9) и швейные машины (13-14), мясорубки (3-4). Рабочие жили бедно: мебель, предметы обстановки, не говоря уже о скатертях и сервизах, считались признаком зажиточности.
Необходимо отметить некоторое противоречие в том, что в качестве стимула ударного труда журналисты приводят выросшие зарплаты и перечни «подарков». В женских журналах интерес к потребительским товарам считался проявлением мелкобуржуазных вкусов и отсталости, даже выкройки одежды публиковались «для перешивания». Новый быт (примеры домов-коммун) был предельно аскетичен. Однако в ситуации, когда производительность труда новой советской промышленности нужно было повышать, все средства были хороши. В ход шли именно те аргументы, которые предметно показывали женщинам все выгоды трудовых рекордов. За такие результаты стоило постараться!
Ударнице улучшают бытовые условия: «живем мы в комнате в два с половиной раза больше, чем прежняя, в новом каменном доме со всеми удобствами, близко от завода»[359]. Улучшение жилищных условий – еще один стимул ударного труда, ударниц переселяют из общежития в отдельные комнаты и даже в отдельные квартиры[360].
Стахановке Е. Илларионовой дали прекрасную квартиру: две просторные комнаты, «красиво отделанные масляной краской», новая мебель, почетная грамота на стене. Она говорит: «Мне даже стыдно жить в такой квартире, ведь у самого директора хуже!»[361]. Это обычная практика поощрения героинь труда: Е. М. Федорова рассказывает почти теми же словами: «Квартира у меня из двух комнат, фабрика мне ее отделала: обои новые, выбелили, кухню масляной краской покрасили»[362].
Семьи ударников демонстрируют пример нового быта, уклада. «Теперь обедаем мы на фабрике-кухне, а ужин по очереди готовим. Раз все работаем на заводе, значит и домашние нагрузки пополам. Мы с мужем по очереди готовим, убираем. И мой муж, – я уважаю его за это еще больше, – ничуть не стесняется «женской работы, которая приходится на его долю»[363], – рассказывает ударница. Ее муж демонстрирует новый подход к «домашней работе»: не просто помогает, а делит ее пополам! Это идеальный вариант отношений в семье, где оба супруга работают. Но вряд ли это типичный пример, чаще можно найти жалобы работниц в рубрике «Почтовый ящик» о том, что муж совсем не помогает по дому. Однако в очерках об ударницах и стахановках рисовался идеальный пример нового быта.
В 1934 г. было проведено обследование в семьях рабочих на заводе им. Кагановича в Москве. Очерк о том, как улучшилась жизнь и выросли доходы рабочих семей, был напечатан в «Работнице»[364].
Слесарь Симаков рассказывает: в семье трое взрослых (все работают) и ребенок. Домашнее хозяйство они не ведут, питаются на фабрике-кухне, где кормят «сытно и вкусно». Жене нет теперь нужды «сидеть все дни около примуса», она больше не домохозяйка, а ударница и член партии. Они «живут общественной жизнью». Что имеет ввиду рабочий? «Часто ходим в театр… У нас с женой не так много свободного времени – по вечерам учимся в политшколе. Сын у нас живет (курсив мой – О.М.) в детском саду, там его прекрасно кормят и хорошо за ним смотрят…»[365], – рассказывает Симаков. Он подробно описывает покупки семьи: «За последние полгода купил костюм мужской 130 руб., сапоги – это себе, а жене – пальто с енотовым воротником, сыну – ботинки, джемпер. Шкаф платяной купили. Не отказываем себе ни в чем».
Этот факт показан как идеальный пример жизни рабочей семьи: сын – в детском саду, еда – в столовой, досуг – занятия в политшколе. Именно о таком укладе, таком образе жизни говорится в многочисленных публикациях на тему переустройства старой семьи. Ребенок выключен из жизни семьи, у него своя собственная жизнь, в которой семья на него никак не влияет. После голодных 1920-х гг., когда зарплаты рабочих с трудом хватало на еду, а покупка одежды и обуви была событием, в заметке демонстрируется выросший уровень оплаты труда ударников.
Ударницы и стахановки имеют особые привилегии. К работнице трикотажной фабрики с тремя классами школы на дом приходят преподаватели Промакадемии, учат ее математике, русскому языку, географии, на дом к ней приносит книги библиотекарша[366]. Стахановки отдыхают в санатории в Сочи[367], участвуют в партийных съездах[368] и правительственных совещаниях в Москве.
Не удивительно, что получая достойную зарплату, жилье вне очереди и прочие бонусы, стахановки часто повторяют слова И. Сталина о том, что жить стало лучше и веселее.
Что помогает ударнице перевыполнять норму: секреты мастерства. «Работница» подробно рассказывает о том, как «становятся» ударницами: чаще всего это просто разумная организация рабочего места и труда. Работница электромоторного завода им. Лепсе А. Катасонова так описала свой рекорд: «Перед началом смены я еще раз оглядела свое рабочее место… Мало отодвинуть ненужные детали и отходы производства, мало перетереть до блеска инструмент: надо еще организовать свое рабочее место. …Весь инструмент я разложила с правой стороны, ближе к правой руке; дальше… прикрепила к бечевке карандаш, провод разогнула, шпагат передвинула… К концу смены я сделала в 3,5 раза больше обычного!»[369].
Е. Ф. Емельянова, ткачиха Тейковского комбината, в своей книге[370] пишет, как проверяет, смазывает, содержит в чистоте станок, устраняет мелкие неполадки, старается рационально выстроить свой маршрут, чтобы сэкономить время. Простыми кажутся советы знаменитой ткачихи Дуси Виноградовой: не опаздывать на смену, подготовить станки, проверить их работу, не суетиться, двигаться по определенному маршруту[371]. О том же самом говорит ткачиха Ефросинья Илларионова[372], побившая рекорд Виноградовой: проверять станки перед сменой, чистить их, «как командир приводить станки в боевую готовность», экономить время. Иногда героини жалуются, что мастера халатно относятся к уплотненному графику стахановок, не обеспечивают сырьем и запчастями[373].
А. Хромова, стахановка станкозавода им. С. Орджоникидзе, рассказывает[374], что качество инструментов плохое, они часто ломаются и надо иметь запас, чтобы не отвлекаться от работы и не терять время. Надо, чтобы кран, который ставит станину, работал без задержек. «Иногда по 40 минут сидишь и дожидаешься крана», – замечает она. За этими деталями просматриваются общая неорганизованность работы на производстве и особые условия, которые создавались стахановцам для установления «мировых рекордов». Никаких показателей «мировых» рекордов или просто норм производительности на аналогичных производствах за рубежом не приводится в публикациях о стахановском движении.
Из публикаций подобного рода напрашивается вывод о том, что уровень организации производства, соблюдения технологических требований и культура труда были крайне низкими.
Стахановские рекорды: достижения личности или коллектива? Очевидно, что стахановские рекорды, которые давали высокий уровень заработков и привилегированный статус героиням, обеспечивались коллективно. Ткачиха Ефросинья Илларионова рассказала, как ей помогали ставить рекорды. В бригаде кроме нее 10 человек. Начальник цеха с ней заново внимательно пересмотрел всю технологию, экономя каждую секунду и выверяя любое движение. Главный инженер фабрики с хронометром записывал показатели, секретарь райкома партии расспрашивал, как она живет, чем питается: «Большое дело взяла на себя, будем тебе помогать!»[375]. Многие ткачихи увеличили вслед за ней свои показатели – «пришлось фабрике пускать третью смену». Конечно, ткацкой фабрике было важно иметь свою стахановку, участвовать во всесоюзном соревновании, ставить рекорды. В таком политически важном деле секретарь райкома тоже заинтересован.
Наверняка в рабочих коллективах возникали конфликты: кому стать героиней, а кому запасные шпульки для нее подносить. Вскользь намекает о подобном явлении знаменитая ткачиха Евдокия Виноградова: «Я употреблю все силы, чтобы первенство не уступить никому. Некоторые из наших малосознательных работниц сердятся на меня и на Марусю (ее сестра-сменщица – О.М.), ругают, что мы идем впереди них, но это разговоры отсталых»[376].
Иногда, чтобы повысить показатели, проводились «стахановские» сутки, декады, месячники. Так, в очерке о стахановских сутках на фабрике Москвошвея[377] подчеркивается, что такая работа требует особой подготовки, сырья и помощи инженеров и мастеров, а также нужны столовая, клуб, поликлиника, учебный комбинат – на фабрике все это прекрасно организовано. Цифры выполнения плана дня, месяца, года и роста производительности труда тоже приведены в назидание другим предприятиям швейной отрасли. Вывод журналиста: нужно улучшать организацию работы и наладить быт фабрики, тогда и показатели будут повышаться.
Но все же промышленность не могла постоянно «обеспечивать» стахановские нормы выработки. Поэтому складывается впечатление, что в очерках о героинях-ударницах на первом месте была задача показать новый жизненный сценарий, а потом уже говорить о реальном производственном процессе. Так, в заметке о стахановках Уралмашзавода журналистка пишет:
«Все эти работницы …представляют собой тип новых людей не только на производстве, но и в быту, во взаимоотношениях друг с другом, в образе мыслей и устремлений. Они пытливы не только в работе, но и в жизни. Они жадно тянутся к учебе, знаниям, культуре. Просто и спокойно успевают во всем»[378].
В большинстве очерков о героинях-стахановках в какой-то степени раскрывались приведенные выше аспекты. Задачей журналистов было с одной стороны, показать уникальность героинь, с другой – убедить аудиторию в том, что каждая работница может стать стахановкой, изменить свою жизнь. Именно для решения этой задачи и приводились конкретные детали.
Только в одном аспекте производственной темы журнал «Работница» отступил от своей принципиальной (или крайне радикальной, на взгляд мужчин) позиции в отношении равноправия мужа и жены в домашних делах. Жены стахановцев должны были создавать им особо комфортные домашние условия для успешного выполнения обязанностей на работе. В данном случае речь не шла о партнерских отношениях, не о разделении домашней работы между супругами. «Я всегда помогаю моему мужу. Я ему создаю дома обстановку, в которой он может хорошо отдохнуть»,[379] – говорит жена стахановца в заметке, опубликованной в журнале «В помощь фабрично-заводской газете» в качестве примера правильной трактовки темы. Автор – заместитель редактора многотиражки «Гудок» А. Латышев.
Вот как реализован этот совет-указание «руководящего» журнала отдела агитации и пропаганды ЦК партии в «Работнице». Жена шахтера пишет о том, как он собирался на рекордную смену, а она «окружала его заботливостью, вниманием и лаской». Вызвала на соревнование жену другого ударника по «лучшему культурно-бытовому обслуживанию (курсив мой – О.М.) мужа»[380].
«Обслуживание» мужа и есть та «домашняя каторга», с которой так принципиально боролись женские журналы на протяжении всего довоенного периода. Определенные изменения в трактовке этой темы связаны с поворотом политики партии в сторону укрепления семьи и принятием в 1936 г. закона о запрете абортов. Но обязанности матери «создавать условия» для здорового роста детей не нужно смешивать с обязанностями «обслуживать» мужа. Это утверждение противоречит позиции журналов для женщин, хотя, возможно, естественно вписывается в содержание общественно-политических изданий для всей советской аудитории (без разделения на женскую и мужскую).
Стахановское движение и ударничество были важной и актуальной темой в ряду других публикаций о производственной деятельности советских женщин в 1930-е гг.
Героини-стахановки заняли свое место в ряду героев труда – мужчин. Гендерный баланс был очень важен в связи с тем, что за годы индустриализации резко возросло количество женщин-работниц. В 1933 г. их было 6.908.000[381] и они составляли более 40 % всех промышленных рабочих. В этот период уже была достигнута равная оплата за труд женщин и мужчин[382], налажена система профессиональной подготовки женщин и т. д. В колхозах женщинам также отводилась важная роль.
2.4. Военная пропаганда в журналах для женщин в довоенный период
Тема военной подготовки не относится к числу традиционных для женской печати. Однако это пропагандистское направление присутствует в советской печати на протяжении всего периода между Гражданской и Великой Отечественной войнами. Оно тесно связано с борьбой за раскрепощение женщины, за ее «вовлечение» в производственную деятельность, общественную работу и формирование у нее новых ценностей и представлений о жизни.
В марте-октябре 1917 г., когда большевики вели активную антивоенную пропаганду, вопрос о возможности службы женщин в армии (в рамках борьбы за их равноправие) публично не обсуждался. К «женским батальонам» большевики относились с иронией, говоря, что они организованы «буржуазными барынями»[383]. Подвигом службу женщин в Царской армии не считали, героинями этих женщин не называли, хотя, казалось бы, этот опыт был очень ценен для последующей военной пропаганды. До ноября 1917 г. большевики организовали лишь курсы «красных медсестер», на которых приглашали работниц с петроградских заводов. Инициатором этого, судя по воспоминаниям, была Н. К. Крупская[384].
Затем, уже после захвата власти большевиками, в январе 1918 г. был принят Декрет «Об организации Рабоче-Крестьянской Красной армии». Согласно этому документу каждый, «кто готов отдать свои силы, свою жизнь для защиты завоеваний Октябрьской революции, власти Советов и социализма»[385], может вступить в ряды Красной армии, если предоставит рекомендацию войсковых комитетов или общественных демократических организаций. Оговаривался возраст – не моложе 18 лет, но не гендерная принадлежность. В статье 19 Конституции РСФСР 1918 г. устанавливалась всеобщая воинская повинность. Почетное право защищать революцию с оружием в руках предоставляется только «трудящимся» (мужчинам или женщинам – в Конституции также не оговаривалось). Вряд ли женщин рассматривали как силу, равную мужчинам в военном деле. Но в резолюции VII съезда РКП(б) есть строка о необходимости организации «всеобщего обучения взрослого населения, без различия пола, военным знаниям и военным операциям»[386]. В апреле 1918 г. ВЦИК издал декрет «Об обязательном обучении военному искусству». В нем указывалось, что обязательному военному обучению подлежат граждане РСФСР в возрасте от 16 до 40 лет, но «гражданки» обучаются по их согласию»[387].
На первом всероссийском съезде работниц и крестьянок в ноябре 1918 г. И. Ф. Арманд заявила: «…Работница должна пойти и на фронт. Она там необходима в качестве сестры милосердия, агитатора, красноармейца. Старый предрассудок, что вооруженной борьбой может заниматься только мужчина, революцией ликвидирован»[388]. Таким образом, военная подготовка и участие женщин в обороне страны связаны в этом высказывании с борьбой за их равноправие.
Анализируя тексты воспоминаний об участии женщин в Гражданской войне, И. В. Алферова[389] подчеркивает широкий спектр обязанностей, для которых готовили женские кадры: «отчуждение удобных домов и усадеб» под госпитали, добывание раненым продовольствия и т. д. Часть групп женщин в июне 1919 г. была направлена на фронт в качестве политических комиссаров. Однако в целом женщин на фронте было немного – около 2 %. Такой вывод И. В. Алферова подкрепляет следующей цитатой из архивного документа: «На фронт направлялись лишь единицы из наиболее стойких и сознательных пролетарок, свободных от семейных уз», отмечал в 1919 г. в одной из инструкций женотдел ЦК РКП (б)»[390]. Однако опыт участия женщин в Гражданской войне был активно использован в пропаганде военной подготовки в изданиях для женщин, да и вообще стал популярной темой в 1930-е гг.
Подготовка женщин к отражению военной угрозы стала одним из важных направлений партийной пропаганды в изданиях для женской аудитории. Эта тема реализуется в женских журналах в форме постоянных рубрик: «Наши коммунистки», «Враг не дремлет», «Работница и оборона страны», «Страничка обороны», «На оборону страны», «Воспоминания работниц», в рубриках о событиях международной жизни.
Значительную по важности и смысловым аспектам часть военной пропаганды составляла пропаганда подвига женщин – участниц Гражданской войны. Каким рисовался образ женщины – героини Гражданской войны в советских изданиях для женщин? Вот типичный пример публикации на эту тему: воспоминания Екатерины Матуль о том, как она воевала в Первую мировую и Гражданскую войны. Неправдоподобные обстоятельства и цифры приводятся в ее описаниях военных действий. Для женских изданий в целом типичны такие элементы: неправдоподобие или даже сказочность обстоятельств, чрезмерность в описаниях эмоций героини, избавление героини от напастей и бед, т. е. счастливый финал любого сюжета. А рассказ о войне обязательно содержит примеры сказочных спасений, счастливых избавлений и легких ранений, если они вообще есть. «Я поскакала на своем прекрасном сером жеребце. Выяснив, что это бандиты, махнула в сторону своих платком, и, сделав несколько выстрелов, повернула назад. …Тут я увидела, что командир убит. Тогда я крикнула: «Товарищи, за мной!»… Приняв командование полком, вывела его из мешка, поставила пулемет, который уложил 400 бандитов. Мы потеряли 40 бойцов. Нас было 125 человек, белых – две тысячи. За этот бой я получила награду – орден Красного знамени»[391], – пишет Екатерина Матуль. О трудностях службы в армии и пребывания женщины на передовой она говорит скороговоркой, о победе – подробно, но неконкретно. Видим, сказывается то, что год публикации – 1935. Аудиторию журнала уже в основном составляли женщины, которые в годы Гражданской войны были маленьким детьми, о войне представления не имели и тягот этого времени не помнили.

