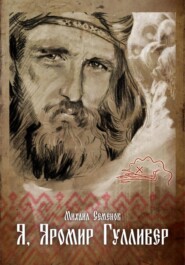 Полная версия
Полная версияЯ, Яромир Гулливер
Он же надеялся, что Ольга исчезла не навсегда, вернётся, просил об этом небеса. Ждал её, писал ей письма с предложением руки и сердца, но ответов не получал. Она так и не вернулась. Только спустя годы они узнали, что эти письма до неё не доходили.
Третья ночь выдалась дождливой, и Яромир пригласил Волхва в свою опустевшую Башню, заварил травяной чай. Тот обошел жилище вдоль стен, рассмотрел скульптуры Яромира, рисунки, графические образы ведических персонажей, заметил и состояние хозяина.
«Не тужи об Ольге. У неё будет другая судьба. Твой путь, заданный Высшими силами, – это тропа, где, впитав древние знания и навыки, ты сбережешь их, обогатив, передашь следующим поколениям».
«Много знаний утеряно с тех пор, – продолжил Волхв, – заметено временем, часто, нарочито искажено или оболгано. Веками творился рукотворный подлог в искажении и стирании истории, истинных героев, их имен и подвигов. Возьми, хоть того же Рюрика. Мог ли старый слабеющий князь словен Гостомысл призвать на смену себе княжить врага? А, ведь, свеи-норманы разбойничали тут, грабили, убивали в славянских поселениях. Поднимались из Балтики на своих суднах дракарах по той же реке Луге, и чинили разбой. Их сила была в оружии, обоюдоострых мечах. Таких у нас тогда не было. Зато, у нас они повзаимствовали приёмы деревянного «срубного в чашу» строительства, обработки брёвен. До того их жилые постройки были примитивными, в виде длинного двускатного шалаша с крышей, опертой на два ряда внутренних столбов, стены, грубо сложенные из камня. Большую часть этих холодных построек занимал скот, в одном конце у открытого очага ютились люди. Выходит – украли, как нынче по-вашему – «ноу-хау». Однажды, разграбив очередную деревню, с удивлением обнаружили развешенные на просушке выкрашенные ткани. Рядом котлы с заваренными травяными красителями. Забрали с собой пучки соответствующих растений. Стали красить у себя и сами».
– А чем тогда красили у нас? – спросил Яромир – что использовали для крашения русичи?
– Да, более двух десятков растений. Некоторые из них применялись целиком: это бессмертник, вереск, манжетка, череда, недотрога, василёк, в ход шли и листья березы. У орешника и дикой яблони для этих целей брали кору. Листья и стебли плауна, а также цветы сурепицы использовали при работе с шерстью, а купальницу применяли только для холста. Коричневый цвет получали на основе коры, листьев и ягод крушины ольховидной. Он был устойчив к выцветанию. Использовались и корни растений, в частности, сабельника Для шерсти пользовались корнями зверобоя. «Краснели» ткани в отваре лебеды. Голубизну полотну придавали с помощью коры ясеня, цветов василька или горечавки. Ягоды черники использовались для окрашивания льна в голубой цвет, а шерсти – в синий. Ягоды ежевики придавали тканям малиновую и фиолетовую окраску, а кора дуба с добавлением ржавого железа – от темно-синей до черной.
«Нет, свой он был Рюрик и его друзья-братья Трувор с Синеусом» – продолжил Волхв. – «ведь, нет ни одного источника в котором бы, скандинавы называли бы себя, или своих воинов, или своих морских разбойников Варягами или Русами. Нет и ни одной саги, повествующей о том, что Новгород присылал послов с просьбой владеть ими, не каждый же день к ним приходили чуждые народы с просьбой "дайте нам князя"… Если бы Варяги Рюрика были бы скандинавами, то они, непременно, оказали бы влияние на и язык, однако летописец говорит, что славянский и русский язык – один и тот же: "а Словеньскыи аезьıкъ и Роускыи одно єсть».
Расскажу тебе еще об одном курьезе. Вспомни описание языческого святилища, возведенного в 980 году Владимиром: «И нача княжити Володимеръ в Киев … единъ, и постави кумиры на холму вн двора теремнаго: Перуна древяна, а главу его сребрену, а усъ златъ, и Хърса Даждьбога, и Стрибога, и Семарьгла, и Мокошь. И жряху имъ, наричюще я богы».
Что за «Семаргл», ведь не было такого божества у славян? Как только не определяли его ваши книжники. Симург – волшебная птица из иранских легенд, Сенмурва – существо с головой и лапами пса, защитник всходов, потом Сима и Регла, что потом вытесняется именем Переплута. Но кумирами могли быть только человекоподобные персонажи. Да, и в отношении «Семарьгла» нет ни названий мест, ни личных имен, ни преданий, ни песен, ни поговорок, что характерно для всех прочих божеств тех времен. Семарьгл буквально повисает в воздухе. Он считается «заимствованным» у племен, которые о нем ничего не знали и не могли знать, он оказывается совершенно забытым в тех слоях общества, где о языческих богах и обрядах, в особенности той сферы, к которой он должен принадлежать, помнили дольше всего. Поскольку же божество такого масштаба и, относящееся к такого рода культу не могло сгинуть бесследно, мы имеем полное право предполагать, что произошла ошибка, и его имя изначально было искажено писцом, впоследствии же – описка была растиражирована многократным переписыванием, и в составе цитаты из летописи попала в Поучения против язычества. С точки зрения русского христианина тех времен, а особенно представителя духовенства, к которым, естественно, принадлежали авторы летописей и таких поучений, языческие Боги были «бесами», любое упоминание которых было деянием рискованным с точки зрения спасения души и прямо осуждалось.
Тут возможно произошла и ошибка, закрепленная механическим воспроизведением первотекста (как бы снимавшем с переписчика ответственность за воспроизведение «бесовских» имен). Подобные примеры имели место и позднее – ошибка писца, прочитавшего летописное описание Перуна «усъ златъ», как имя «Услад», надолго поселила это химерическое «божество» в описаниях славянского язычества. Переписчики приняли за две буквы – «ьг» – одну, «ы». следует не «Семарьгла», а «Сем Ярыла» (напомню, что древнерусское «Я» писалось как «ia»). Ярила, его облик – юноша в белом одеянии, на белом коне, в зеленом венке, которого встречают весной. Интересно, что в ряде русских регионов погребаемую летом куклу зовут не Ярилом, а Семиком, и Семиком у русских вообще называются весенне-летние земледельческие праздники.
Подобные курьезы породили постулаты, что укрепились в вашем сознании, в масскультуре. Трудно было «отжать» из древних былин нужное для творимой властной истории. Первые попытки решить эту задачу взаимосвязи былин и истории начались еще в шестнадцатом веке автором Никоновской летописи, конечно, на свой лад, вводя в текст былинных героев – Александра (Алешу) Поповича и Василия Буслаева. Именно он первым «превратил» былинного Владимира Красно Солнышко во Владимира I Святославича, крестителя Руси.
Новые поколения уверенно шли по его следам. Так, писатель «века золотого Екатерины» Василий Левшин написал по мотивам былин «Русские сказки» – вдохновившие, кстати, Пушкина на создание «Руслана и Людмилы». В них Левшин также отождествляет «Владимира Святославича Киевскаго и всея России» с былинным князем. Однако, «Святославичем» он называет князя лишь в авторском предисловии, тогда как в самих «Сказках» он «Славный князь Владимир Киевский солнышко Всеславьевич !».
Вслед за Левшиным первый издатель «Слова о полку Игореве», приводя былинную цитату из «Древних российских стихотворений» Кирши Данилова, заменяет в ней отчество «Всеславич» на «правильное» «Святославич» – последнее в былинах появляется чуть ли не в XX веке. Наконец, это отождествление узаконивает своим авторитетом Карамзин – и после него оно считается общим местом, едва ли не аксиомой. Любопытное замечание Василия Татищева, связывавшего, кажется, слышанные им от «скоморохов песни старинные о князе Владимире» не с крестителем Руси, а с древним языческим князем того же имени, предком призвавшего Рюрика Гостомысла, осталось, насколько мне известно, незамеченным.
Вот ещё. Первые известия о богатырских мощах в Киево-Печерской лавре не называют их обладателя Муромцем. Посол австрийского императора Рудольфа II к запорожцам, иезуит Эрих Лясотта, первый описывает в 1594 году останки «исполина Ильи Моровлина». Двадцатью годами ранее, вне связи с мощами и лаврой, оршанский староста Филон Кмита Чернобыльский в письме Троцкому кастеляну Остафию Воловичу упоминает былинного богатыря Илью Муравленина. Еще в конце XIX – начале XX века русские ученые Иловайский и Соколов убедительно доказали, что причиной превращения Муравленина в крестьянского сына Муромца стало появление в начале XVII века сподвижника известного повстанца Ивана Болотникова, казака-самозванца Илейки Иванова сына Муромца, выдававшего себя за несуществующего «царевича Петра». Про других былинных богатырей – Алешу, Добрыню, Святогора и прочих – подобных легенд нет, и муромские предания о ключе, забившем из-под копыт коня Ильи, или о холме, вставшем там, где он бросил шапку, примыкают не к былинам, а к разбойничьим историям. И только позднее их связали с былинным тезкой самозванца. Сам же богатырь много древнее: его имя, как мы увидим, возникает в германских легендах и шведских сагах в XI—XIII веках.
Культ «святого Ильи Муромца» расцветает к концу семнадцатого столетия. Во время Никонова Раскола в русской церкви многочисленные паломники в Киево-Печерскую лавру устремлялись к мощам святого богатыря.
Теперь, о Владимире, князе-крестителе Руси, ныне канонизированном православной церковью. Не правда ли странно, применительно к этому персонажу, слышать эпитет «Красное солнышко». Ведь Солнце, да ещё Красное – это главный сакральный символ Родноверия, почитания основы всего живого на Земле. В те «былинные» времена «Красного солнышка» правитель являлся воплощением идеи Центра, как такового, должен быть «неподвижен». Он, былинный Владимир, «никогда… не участвует в сражениях, сидит в Киеве и, по сути дела, является основным «сиднем» нашей народной поэзии».«Царь русов» никогда «не сходит с престола» и «не имеет другого дела, как сочетаться с девушками и пить». Действительно, считать Владимира «организатором обороны и военных действий», можно, лишь закрыв глаза на сами былины. В тех редчайших случаях, когда Владимир пытается как-то вмешаться в военные дела, он получает резкую отповедь былинного Ильи Муромца:
«А ты Владимер-князь да Святослаевич,
Убирайсе ты ко своей княгины Апрексеньи-то
И ты ей же да все распоряжайся же
А до нас-то тебе да все же дела нет…"
Это отнюдь не грубость в адрес нелюбимого правителя, а простое подчеркивание его функций. Военными же делами Киева тогда ведает не князь Владимир, не имеющий никаких воинских функций, а воевода Илья Муромец. Он «командует войском» и «нападает на врагов» – былинных «татар». Былинный Владимир «Ясно солнышко» – не вождь дружины, как его летописный тезка со своими отцом и дедом, а священный царь первобытной эпохи».
Волхв продолжил. «Знаю, ты изучаешь найденные здесь берестяные грамоты. Обращал ли внимание, что в них немало женских имен новгородок и их современниц из других городов – Милуша, Великая Коса, Передслава, Сторонька, Нежка, Втора, Неделька? Правда, таких имен все же, много меньше, чем обозначений женщин по имени мужа: Тешковая, Полюжая, Путковая, Надейковая, Нежаткина, Давыжая, Павловая, Иваняя – мы никогда не узнаем, как звали этих новгородок, жен Тешко, Полюда, Путко, Надейко, Нежатко, Давыда, Павла, Ивана. Как думаешь, в каком качестве появляются в грамотах все эти «несчастные» и обездоленные жертвы "домостроевщины"? Как ни странно, в качестве равноправных финансовых и торговых партнеров, вполне себе юридических лиц. Они берут или дают в долг, продают и покупают. А мужья? Сейчас уже не скажешь. В деловой поездке, может быть. Или, скажем – вполне может быть – муж не очень надежен, пьет, скажем, а жене доверяют. Или просто жена ведет свои собственные торговые дела, параллельно мужним. Для сравнения – в римском праве того времени женщина не являлась юридическим лицом в принципе. Она была живой собственностью "патер фамилия", никаких прав у нее не было вовсе.
Вот еще о новгородских грамотах, датируемых XII веком. Ты обратил, наверное, внимание на частое упоминание некой Марены. Так новгородский боярин Петр Михайлович – просит Марену оказать влияние на князя(!), некий Завид требует от неизвестного адресата, чтобы он (она?) велел(а) тому из своих сыновей, у которого есть зерно, отдать дань Марене. В другой грамоте Петр (возможно, тот же, что и в первой грамоте) – велит какому-то Демше выдать шесть гривен Микуле, но только "перед Мареной" и никак иначе, а вот Ярко гривен не давать ни при каких условиях, как бы тот ни упрашивал.
И хотя 1166 году епископ Новгородский Илья утверждал, что земля Новгородская "крещена", и поминал, как очевидец, "первых попов", ваши археологи обнаружили в Новгороде XII столетия великое множество следов языческих обрядов – идолов, следов жертвенных пиров и заклания животных, ритуальных масок, гуслей и сосудов. Знай, что превращение Мары-Марены в основной лик Великой Матери, Пряхи Судеб произошло в Новгороде, ведь, население одного из трех древнейших концов Новгорода, Людина, составляли кривичи. Они почитали Марену, как Богиню не только, и, может быть, не столько зимы и смерти, сколько судьбы и плодородия. Тем более, что грамоты с ее именем найдены как раз в Людином конце, кривичской части Новгорода. Будешь помнить, что грамоты с упоминанием Марены из заурядных бытовых писем стали бесценным памятником духовной жизни великого русского города эпохи двоеверия. Увидимся с тобой завтра и продолжим».
Они вновь встретились у Вечевой площади Дворища, неспешно вышли к Волхову.
«Знаю, ты часто разглядываешь картины поверженья тех последних Волхвов», – продолжил Волхв. – «на самом деле сопротивление не прекращалось веками, её потаённые сполохи можно обнаружить даже и ныне. Сегодня расскажу о последнем, блистательном ярком «княжем» отпоре.
Это произошло в то время, когда дружины, осенённые стягами с изображениями, с одной стороны, креста и ликов святых и символов Солнца и Грома – с другой, еще сходились на кровавых полях. Тогда у Брячислава Изяславича Полоцкого, внука несчастной Рогнеды, родился сын Всеслав. Про него в летописи сказано, что родился-де полоцкий князь «от волхвованья». Якобы на его голове всю жизнь оставалась какая-то «науза» – языческий амулет, и в результате этого полоцкий князь был «жесток на кровопролитье». От какого «волхвованья» был зачат Всеслав, понять трудно, но несколько раскрывает глаза на происходящее одна много более поздняя история: когда великий князь Московский Василий III женился на юной Елене Глинской, сам при этом будучи в весьма почтенных летах, ему якобы пришлось прибегнуть к помощи чародеев, чтоб зачать молодой жене сына. От этого-де сын, Иван Васильевич, будущий первый царь Руси, которому суждено было остаться в её истории под прозвищем Грозного, вырос жестоким и кровавым. Если кровожадность православного царя несомненна, то доказательств «жестокости на кровопролитие» полоцкого государя не найти даже в летописях его врагов. Напротив, жестокими там выглядят его противники, князья Ярославичи (сыновья Ярослава, позже прозванного Мудрым) – Изяслав, Святослав и Всеволод. Впрочем, всё по порядку. «Полоцкой» летописи до вас не дошло. По некоторым сведениям, она погибла в пожаре Москвы 1812 года, том же, что поглотил подлинник рукописи «Слова о полку Игореве» и множество других бесценных источников. Об этом, конечно, можно только сожалеть, ибо, в ней мы могли бы увидеть совсем иное отражение взаимоотношений полоцкого князя и Ярославичей. Однако кое-что можно вычитать и в «Повести временных лет» – монахи Киево-Печерского монастыря, где создавалась летопись, находились в сложных отношениях с киевскими князьями, да и искажать события люди Средневековья умели плохо, до изощрённого вранья XX века им было ещё очень и очень далеко. Там сообщается, что в результате очередной битвы властолюбивый «Злой Хромец» Ярослав, скрепя сердце всё же вынужден был смириться с независимостью Полоцка, независимостью не только политической, но, возможно, и духовной.
До какого-то периода отношения Полоцка с Киевом были мирными. В середине XI столетия из степей к русским пределам подошли новые кочевые племена, родственные печенегам – гузы, или, как называли их на Руси, торки. Всеслав Брячиславич не остался в стороне от общерусского дела, вышел на реку Рось, навстречу кочевникам, с другими князьями. Впечатлённые русской силой, торки просили мира и получили его, поселившись в качестве союзников у русских границ, южнее реки Рось – теперь граница Руси с кочевым миром пролегала здесь, в одном конном переходе от Киева. Времена Олега, Игоря, Святослава, правда, остались в прошлом, времена побед над кочевниками, пусть и более скромных, Владимира Мономаха ещё не настали. Несколько позднее Всеслав предпринял поход на Псков. Псков, как и родной город Всеслава Брячиславича, был населён кривичами – одним из восточнославянских народов. Там Всеслав, судя по всему, пытался восстановить союз племён, «княжение» кривичей. Вероятно, он хотел и освободить псковского князя Судислава, возможного соратника в борьбе с киевскими князьями. Тому воистину не за что было любить Ярославичей – в своё время «Злой Хромец» бросил его в темницу, да ещё в собственном Пскове, где несчастный просидел двадцать четыре года. Впрочем, хорошо было уже то, что беднягу оставили в живых – он был слишком близким соседом Новгорода, чтобы его смерть можно было спихнуть на происки «окаянного» Святополка.
В 1066 году Всеслав ударил на Новгород. Ваш город тоже был частью Кривичской земли, и один из трёх старейших городских районов-концов, Людин, или Гончарный, заселяли, по мнению археологов, именно кривичи. Новгород Всеслав взял. Несколько странно, что, безуспешно осаждая Псков, в те годы совсем крохотный, полоцкий князь добился полного успеха под стенами Новгорода. Очень возможно, что ему помогали изнутри – те же жители Людина конца, для которых правитель Полоцкого княжества был их, кривичским, государем. В Новгороде Всеслав разгромил выстроенный Ярославом храм Святой Софии. Он снял с неё колокола и светильники-паникадила, как бы выколов глаза и отрезав язык главной христианской святыне Новгородской земли. Колокола и паникадила были отправлены в Полоцк и нашли себе место в выстроенной отцом Всеслава в 1040-х годах Софии Полоцкой – соборе-тёзке знаменитых храмов Константинополя, Новгорода и Киева. Сам Всеслав Брячиславич в друзьях новой религии не значился совершенно определённо. Иначе не объяснишь ни, «ритуальную» расправу с христианским собором в Новгороде, ни ауру языческих легенд о «волхвованье», наузах, оборотничестве вокруг полоцкого князя, якобы способного в ночи, «окутавшись синей мглой», то «лютым зверем», то волком, преодолевать чудовищные расстояния – от Новгорода до белорусской речки Немиги, от Киева до крымского Тмутороканя. После его посещения в новгородском Софийском соборе остались следы кострищ —видимо, в главном храме новгородских христиан справляли языческие обряды.
Братья Ярославичи равнодушными к походу полоцкого язычника не остались. Очень скоро их войско обрушилось… нет, не на Всеслава, а на оставшуюся без защиты Полоцкую землю. Напав на богатый город Менск (ныне Минск), «христолюбивые» братья разграбили его дотла, истребили мужское население, а детей и жён угнали в плен. Вообще, нападения киевских князей на Полоцкое княжество описываются в летописи – Киевской! – и как небывало жестокие для войн между русичами. Тот же Всеслав, хотя и называет его летописец «немилостивым на кровопролитие», в захваченном Новгороде не вёл себя свирепо. Именно Всеслав, который, по словам летописцев и автора «Слова о полку Игореве», есть «рождённый от волхвованья» оборотень, носящий языческие наузы, творящий ворожбу, не замечен в подобном поведении, в нём проявились именно христолюбивые Изяславичи, не оставившие в городе в живых «ни челядина, ни скотины». То есть война, которую Ярославичи вели с Полоцким княжеством, шла по тем правилам, по которым воевали христиане с язычниками. И правила такой войны заданы не где-нибудь, а в самой Библии:
«А в городах сих народов, которые господь, бог твой, даёт тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души» (Втор., 20:16),
«и взяли город… и все, что в городе, и мужей, и жен, и молодых, и старых, и волов, и овец, и ослов, все истребили мечом» (Ис. Нав. 6:19-20),
Услышав о разорении своей земли, полоцкий князь ринулся навстречу захватчикам. На реке Немиге полоцкая рать столкнулась с киевской. Всеслава вызвали на переговоры, и все трое Ярославичей целовали крест, то есть присягали на кресте, заверяя полоцкого государя в его полнейшей безопасности. Поверив, Всеслав прибывает на переговоры с сыновьями – Борисом и Ростиславом – и… попадает в коварную ловушку. Князя и двух княжичей, заковав в кандалы, отправляют в Киев. Там бы ему и сгинуть, но…
Но в 1068 году у границ Руси появляется новый враг – половцы (на западе их называют куманами, на востоке – кипчаками). Тюрки, как и печенеги с торками, они принадлежат всё же к другой ветви тюркских народов. Навстречу ордам половцев хана Шарукана вышло киевское войско, возглавляемое Изяславом, Святославом и Всеволодом. На реке Альте противники встретились, и оказалось, что справиться с сильным противником несколько труднее, чем резать и грабить оставшихся без княжьей защиты минчан. Войско трёх князей было разбито наголову, Святослав вместе с младшим, Всеволодом, и с остатками дружины бросился в Чернигов, а старший, Изяслав, в Киев. Половцы, не торопясь лезть в конном строю на городские укрепления, принялись грабить богатые южные сёла. Киевляне собрались на вече и потребовали у Изяслава выдать им коней и оружие. Прямо с вечевой площади толпа повалила на воеводский двор, после этого киевляне разделились на две части – одна отправилась спасать из княжьей тюрьмы какую-то загадочную «дружину нашу», другая – ринулась через мост на двор самого киевского государя. Киевляне, очевидно, дождавшись подхода остальных горожан с освобождённой загадочной «дружиной», ринулись к порубу, где томился Всеслав. И тот с сыновьями были освобождены. Так Киев обрёл нового, своего князя. Всеслав, потомок старшей ветви сыновей Владимира, взошёл, по праву старшинства и воле народа, на киевский престол. Это произошло 15 сентября 1068 года.
О семи месяцах, проведенных князем-волкодлаком на престоле Матери Городов Русских, летопись говорит крайне скупо. Решительно ничего не сказано о том, что сталось после водворения Всеслава Брячиславича на киевский престол с воинственными настроениями киевлян. Но летопись много о чём «красноречиво» умалчивает. Вспомни, что в «Слове о полку Игореве» походом на Тъмуторокань обозначается не просто некое странствие за тридевять земель, в тридевятое царство, а поход на половцев. И скорее всего, именно ополчение киевлян во главе с князем-чародеем отшвырнуло кочевников от столицы. Впрочем, это мог сделать за него летописец Киево-Печерской обители, чей игумен, Никон, откровенно симпатизировал черниговским князьям. И ещё один заслуживающий внимания факт – в том же «Слове о полку…» сообщается, что «Всеслав князьям города делил». Не эти ли наши города «делил» другим князьям, ставший киевским князем Всеслав? Но в таком случае приходится признать, что младшие братья изгнанного Изяслава сочли выбор киевского решения вполне законным и признали право полоцкого оборотня наделять их городами! Если так – это лишний довод в пользу того, что Всеслав приложил руку к разгрому орды Шарукана, и приложил очень серьёзно. Но победа далась нелегко – а с запада уже двигалась на Киев новая гроза.
Изяслав с сыном Мстиславом даром времени не теряли. Они бросились в Польшу – очевидно, не рассчитывая на поддержку в Русских землях.
В лесах и болотах Полесья еще до XIX столетия молились Перуну и Яриле, а в Волынских землях только после монгольского нашествия угасли жертвенники огромных святилищ, так что это были не те края, где можно было бы искать управы на князя-оборотня, князя-чародея. С востока шли половцы, на юге лежала легко доступная их конным ордам степь, на севере – владения кривичей, подданных оборотня – там-то Ярославичей, пожалуй, встретили бы ещё «теплей», чем в половецкой степи. Поэтому, потомки «Злого Хромца» кинулись искать прибежища в ближайшей христианской столице – польском Кракове.
Подумай, чего ради киевлянам делать своим вождём человека с другого края необъятной Руси, правителя земли, которую они недавно жестоко разоряли? Чем привлекателен для них стал низвергнутый государь дальнего Полоцка? И кому в Киеве он, Всеслав Чародей. Волкудлак. «Рождённый от волхвованья мог быть нужен?
Напрашивается один ответ». Ратовали за него те же «невегласи», которые внимали киевскому жрецу Пятерых. А 15 сентября 1068 года в городе Киеве произошёл не просто «мятеж велик». В городе, в котором убили епископа и выбрали в князья волкодлака из дремучих полоцких лесов и болот, в которых ещё восемь веков будут славить Перуна и Ярилу, произошёл языческий переворот.
Именно поэтому вместе на Киев двинулись православные князья Ярославичи, Изяслав вместе с сыном, Мстиславом, и рыцари князя-католика Болеслава. Распри между уже разделившимися и успевшими взаимно отлучить друг дружку церквями были отложены в сторону перед лицом пробудившегося общего врага – древней Веры славян.



