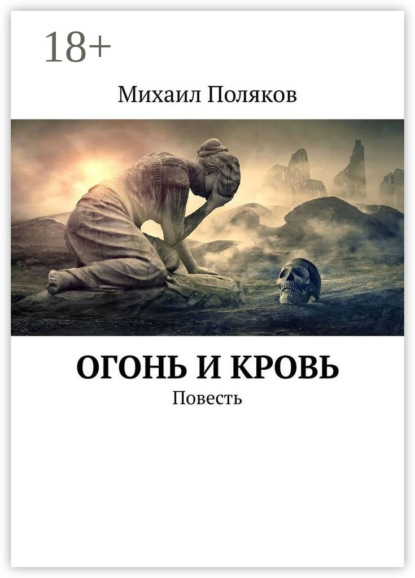
Полная версия:
Огонь и кровь. Повесть
– Ты мышьячка-то добавь туда! – крикнул ему кто-то в шутку.
– Я уже солью посыпал, – ответил он, тупо глядя на собеседника и хлопая глазами.
Мне он тоже запомнился довольно странной историей. Совсем недавно он отозвал меня в сторонку и заговорщическим тоном спросил, разбираюсь ли я в компьютерах и умею ли взламывать сайты банков.
– Не умею, – отвечаю.
– А научиться можешь?
– Зачем тебе? – спрашиваю.
– Ну, я читал, что можно взломать интернет-банк и украсть оттуда миллионы долларов. Это правда?
– Правда, – говорю.
– Ну вот, давай взломаем какой-нибудь банк, а деньги поделим?
Я даже не нашёлся, что сказать, но его серьёзный вид при этом так меня рассмешил, что я едва не расхохотался ему в лицо.
У нас, как я говорил, служат десять женщин, которые живут в отдельной палатке. Исключение составляет только Ева Андреевна, жена заместителя начальника узла связи по личному составу подполковника Семенихина, работающая у нас фельдшером. У них с мужем своя палатка, в которой они очень мило и по-семейному устроились, даже с плиткой, чайничком и кофейным сервизом в цветочек. Ева Андреевна – маленькая полненькая тётушка, добродушная и постоянно изнуряющая себя разнообразными диетами. Недавно вот носил ей в палатку какие-то бумаги, и она меня расспрашивала – слышал ли я чего-нибудь о чёрном рисе? Дескать, если только его есть, притом обязательно сырым, то быстро похудеешь. Я вежливо промолчал. Муж очень похож на неё. Это маленький и круглый как колобок, улыбчивый и добродушный человечек, не имеющий, впрочем, никакого влияния ни на офицеров, ни на солдат. Но он не дурак выпить и частенько участвует в офицерских посиделках, на которые те иногда собираются по вечерам. Забавно бывает смотреть, как жена, не дождавшись его вечером домой, врывается в штабную палатку и при всём честном народе начинает ругать и бить его.
– Ах ты, алкоголик, ах ты, морда пьяная, да что же тебя занесло сюда, да когда же ты, бес, угомонишься! – кричит она, вместе с тем хватая мужа за воротник и таща к выходу.
– Товарищ сержант (она по званию сержант)! Немедленно прекратите безобразие! – слабеньким голоском и с трусливым видом отвечает Семенихин. – Я ваш начальник, я старший по званию и требую, чтобы вы…
– Я тебе покажу начальника! – визгливо восклицает Ева Андреевна. – Ты тут начальник, а дома ты муж мне!
Остальные женщины живут в отдельной небольшой палатке – очень симпатичной, с занавесками на окнах, двумя электрическими радиаторами, так что не надо топить печку и нет гари, и даже с отдельным рукомойником и баллоном воды.
Большинство из них живёт спокойно, но иные особенно радуются временному освобождению от семейных пут. Кто-то уже безо всякого стеснения крутит романы с коллегами по службе, кто-то заводит связи с журналистами или людьми из группировки. Некоторые тётки уже практически семьями живут с офицерами, даже переехав к ним в вагончики. Причём даже офицеры, прибывшие в командировку из одной части, друг друга особенно не стесняются – то ли договорились между собой о том, что дома с жёнами – молчок, то ли, что более вероятно, этот порядок у них обычный, и о нём уже и не нужно заново уславливаться. Один приятель мне как-то рассказывал о своей поездке с московским симфоническим оркестром на экскурсию по Волге. Музыканты, только поднявшись на борт, тут же разбились по парам – дома у них одна семья, а в поездках – другая. Вот и здесь так. Сомов наш тоже не теряется – сначала общался с одной тёткой – Костоевой – диспетчером-телефонисткой, а теперь у него уже другая пассия – какая-то медсестра из группировки.
Не брезгуют некоторые женщины даже и солдатами. Особенно у нас говорят о двух женщинах – Мельниковой и Элле Михайловне Прониной, которую называют просто Эллочкой. Про первую и рассказывать нечего – толстая тридцатилетняя баба, совершенно слетевшая со всех моральных катушек, какое-то сластолюбивое насекомое. Тут же, в группировке, служит её муж, который, говорят, прекрасно осведомлён об её поведении, но давно плюнул на всё и оставил её в покое. За два месяца, что они тут вместе, он только однажды, да и то минут на десять, заглядывал навестить её. И вот так вот они живут уже лет пять.
Вторая – Эллочка – поинтереснее. Это увядшая дама лет сорока, пергидрольная блондинка, очень похожая на барышень, которых изображали на дореволюционных конфетных коробках – со взбитыми букольками над высоким лбом, маленьким носиком и бочкообразной фигурой. Она тоже, как поговаривают, никому из солдат не отказывает, но, кажется, не из-за развратности, а по причине какой-то необычной жалости к ним. Вообще, это существо воздушное, безответное и жалостливое. К своим любовникам она относится как к детям, которых у неё самой нет (не тут ли причина доброты?), и часто приносит им на смену то яблочко, то вафельный тортик, то пакет шоколадных конфет. Они же, явившись утром в казарму после дежурства, наивно хвастаются тем, что не только весело провели время, но и наелись сладостей. Я немного знаком с ней – конечно, не как другие солдаты, а по службе – заношу иногда воду в женскую палатку, приношу из ремонта их постоянно ломающийся радиатор, убираюсь там иногда. И каждый раз она мне суёт то пряник, то какую-нибудь конфетку. «Ну, что же ты не берёшь, посмотри на себя, какой ты худенький. Голодный ведь целый день, наверное?» – отвечает она на все отказы, всё-таки опуская мне в карман свой гостинец. Как пишу сейчас это, так и встаёт она у меня перед глазами со своей жалеющей улыбкой, со своими качающимися при каждом слове светлыми локонами, быстро моргающими светло-голубыми глазами и маленькой, скорбно изогнутой морщинкой на лбу. И почему-то так тоскливо становится, что сердце сжимается…
Особенно же я волнуюсь в связи со всем этим за Ирочку, девушку-телеграфистку. Ей приходится жить в этом аду, как это на неё повлияет? Вообще, с ней у нас в последнее время очень хорошие отношения, мне даже кажется, что она как будто тянется ко мне. Разумеется, ни о чём, кроме дружбы, у нас и речи быть не может. Во-первых, ну какой из меня ухажёр – вшивый, грязный солдат, находящийся чуть не в рабстве. Да и живу я в Москве, а она – за три тысячи километров, в Иркутске. Но с ней я словно бы отдыхаю сердцем от всей этой окружающей грязи. То чай пьём, то шутим насчёт какого-нибудь офицера с плохим выговором, то жалуемся друг другу на начальство, а то и просто болтаем о новостях группировки. Ради интереса читаю ей лекции по литературе, повторяю то, что сам помню с универа. И сам вспоминаю подзабытое, и ей какое-никакое развлечение – театров-то тут нет, да и времени свободного почти не находится – всё служба и служба. Рассказал ей уже о Диккенсе, Стивенсоне и своём любимом Гюго. Вот сейчас по памяти пересказываю «Отверженных». Она просто в восторге, говорит, что обязательно прочтёт этот роман полностью, когда будет дома. Впрочем, в последнее время у неё, видимо, что-то неладное творится в жизни. Часто застаю её плачущей, а начинаю расспрашивать – молчит. Позавчера она ни с того, ни с сего заявила мне, что собирается уехать из Ханкалы домой, но почему – не объяснила, как я ни приставал. Главное же, она ждёт отца, который должен приехать к ней из сорок шестой бригады в Грозном, где он сейчас служит.
7 января 2001 года
Вот и наступил Новый год, совпавший в этот раз и с началом нового тысячелетия. Что-то меня ждёт в нём? В первый раз я отмечал этот праздник один, без друзей и матери. И ведь не бог весть какое это горе, особенно на фоне больших, настоящих проблем, которые каждый день у меня бывают. Но кажется, во всю жизнь со мной ничего худшего не случалось. Всё-таки одиночество – тяжёлая пытка. Я всегда удивлялся тому, что заключённых в наказание сажают в отдельную, одиночную камеру. Считая себя одиночкой по натуре, я думал, что для меня это наказание было бы, напротив, наградой. Но это совсем не так, и теперь я остро это ощущаю. Меня иногда мучает кошмар – я бреду по какому-то лесу тёмной ночью. Наталкиваюсь на деревья, ветви бьют меня по лицу. Я умираю от жажды и голода и поднимаю с земли то какую-нибудь шишку, которую тут же ломаю, ища орехи, то хватаю пучок травы и начинаю жевать её, чтобы как-то отбить жажду. Но вдруг я вижу огни, иду к ним и наконецоказываюсь на людной площади маленького городка. Видимо, идёт какой-то праздник – звучит музыка, чистые, опрятные люди развлекаются, смеются, гуляют, задерживаясь то у палатки с конфетами, то у закусочной, то у помоста, на котором выступает фокусник. Я бросаюсь людям под ноги, умоляю помочь мне, выпрашиваю стакан воды, кусок хлеба. Но меня не замечают. Я кидаюсь от одного к другому, кричу, дёргаю за руки… Наконец, окончательно обессилев, я падаю на землю, и по мне спокойно ходят – наступают мне на лицо, на руки, походя пинают меня в живот. Может быть, подобную сцену я видел в каком-нибудь голливудском фильме или прочёл её где-нибудь, но ей-богу, страшнее кошмара у меня никогда не бывало, я в холодном поту вскакиваю от него посреди ночи. Впрочем, хватит себя жалеть. Я только разрушу себя, а мне ещё силы надо беречь. К слову, я научился чувствовать и ценить моральные силы и за одно это уже благодарен армии, это дорогого стоит. Впрочем, я отвлёкся. Расскажу о том, как мы живём.
Начну с такой пустячной новости, что у нас тут появилась новая мода… Вообще, надо отметить, что мода в армии – явление, весьма отличающееся от моды гражданской. Цель-то у модников везде одна, наверное, с сотворения мира – выделиться среди других, показать себя. Но в армии это не так просто. Если на гражданке можно свободно выбирать и одежду, и способ досуга, то в части, понятно, на этот счёт существует множество ограничений. Форму сменить нельзя, за пределы подразделения не выберешься. Что же делать – приходится работать с тем, что есть под рукой. И чего тут только не придумывается! У нас уже сменился десяток, наверное, разнообразных увлечений. Сначала было модно ходить в ремне с начисто сточенной пряжкой – так, чтобы не видно было рисунка на звезде. Затем под нарукавные шевроны (это такие треугольные эмблемы, на которых изображён символ военного округа, в котором ты служишь, – тигр, пантера, грифон и так далее) стали делать пластиковые подкладки, чтобы они не сминались при носке. После придумали ещё подковы на сапоги. На каблуки прибивались маленькие, не больше двух сантиметров в длину, металлические пластинки, и при ходьбе из-под ног раздавался железный звон и сыпались искры. Во время наших строевых занятий грохот и треск стояли невероятные, наверное, как на кавалерийских учениях в старину. Впрочем, некоторые моды оказывались недолговечными. Например, одно время у нас носили офицерские берцы вместо сапог и круглые, опять же офицерские, кепки, или, по-нашему, таблетки. Но по дивизии в таком виде ходить было невозможно – тебя немедленно забирали в комендатуру, где всё это обмундирование отнималось. Тут, в Чечне, на внешний вид никто, по понятным причинам, не обращает внимания – в нашей грязи не особенно покрасуешься. Зато появилось множество увлечений, о которых не слышали в части. Это и татуировки, и фотографирование друг друга возле военной техники и на фоне аэродрома, и коллекционирование отходов военного производства: в частности, многие ребята собирают гильзы от разных видов оружия, которые валяются под ногами. Сейчас вот в моду вошли ножи. Их солдаты покупают или обменивают на консервы и спиртное у зэков, служащих в соседнем с нашим подразделении. Кто-нибудь, наверное, удивился, прочитав последнее предложение. Но нет, действительно, с нами бок о бок, в отделении Минюста, служат заключённые. Разумеется, они не воюют и не подпускаются к оружию, хотя по группировке и перемещаются свободно. Главным образом они выполняют всякие хозяйственные поручения, а один из них – Денисин, – его все зовут Денисычем – даже работает у генерала, начальника юристов, кем-то вроде денщика – чистит ему сапоги, заваривает чай и бегает по поручениям. С ним я особенно часто сталкиваюсь по разным делам. Он маленького роста, сухенький, вертлявый, смотрит всегда очень хитрым, прищуренным взглядом. Как и все заключённые, это человек хваткий и энергичный. Вот, например, скажешь ему:
– Денисыч, я, возможно, буду здесь завтра и принесу тебе несколько банок тушёнки.
– Значит, завтра придёшь? Я буду ждать, – отвечает он с достоинством (они все как-то размеренно говорят, взвешивая каждое слово). – Тушёнки сколько принесёшь?
– Банки три-четыре, максимум пять достану.
– Хорошо, завтра здесь, в два часа, жду тебя с пятью банками тушёнки. Смотри не опаздывай, опаздывать западло.
То есть ты ему что-то между делом говоришь, ничего конкретно не обещая, а он это сразу же превращает в обязательство да ещё взывает к твоей чести. Я, впрочем, очень плохо это рассказал. За нахождение здесь у них существуют большие льготы, например, по итогам командировки можно получить УДО – условно-досрочное освобождение – и прямо отсюда уехать домой.
Ножи, которые мастерят эти ребята, довольно любопытны – лезвия у них изогнуты на турецкий манер, а лакированные деревянные ручки с большим искусством украшены разнообразными узорами – изображениями животных, воинских знаков (например, на заказ вырезают эмблему внутренних войск) и так далее. Мы их называем «скорпионами». Причём как зэки делают ручки, я ещё могу понять – сам видел несколько раз, как они возились с деревяшками. Но вот где они достают лезвия – для меня загадка. Разве что снимают с купленных на соседнем рынке китайских ножиков, которыми торгуют чеченки. Каждый такой «скорпион» идёт в цену трёх бутылок водки, и он есть почти у каждого солдата. До части их, впрочем, редко кто довозит, обычно весь подобный скарб отбирается у солдат ещё на входе в самолёт. Многие, правда, рассчитывают передать ножи офицерам, а после, в Москве, получить их обратно.
К Новому году начали готовиться недели за две. Офицеры запасались спиртным, солдаты тоже доставали, где могли, продукты и водку. Всё это приносилось в общий котёл, так что под койкой нашего старшины Иванова собралась наконе, целая батарея бутылок. Женщины обещали приготовить на праздник что-то необыкновенное и с самого утра 31-го числа заняли столовую, вход в которую завесили простынёй, чтобы никто не мог видеть происходящего внутри. Для торжества Сомов выделил даже свой магнитофон, который недавно получил в качестве поощрения в группировке.
В общем, весь узел связи был в предпраздничном волнении. Обо мне в суматохе забыли, и я замечательно провёл время с Ирочкой. Мы в последнее время совсем с ней сблизились, и она стала гораздо откровеннее со мной. Часто рассказывает, например, о том, что происходит в их палатке. Это ужас какой-то. Среди женщин есть такие, которые отравляют жизнь всем – гуляют, пьют как сапожники, матерятся. Особенно всех измучила одна телеграфистка – Копылова, настоящая стерва, судя по рассказам Иры. Сейчас она, кажется, водит шуры-муры с Сомовым и вовсю пользуется своим влиянием для того, чтобы командовать в палатке. Назначает дежурных, указывает – кому из женщин убираться, требует заваривать себе чай и заправлять свою кровать. Даже заводит себе фавориток, а неугодных пугает отчислением с узла связи. Все тут, в Ханкале, из-за денег, и угроза действует страшно. Ирочка всё боится, что она и её впутает в какую-нибудь историю. На Новый год она подарила мне баночку вишнёвого конфитюра и пачку печенья, мило обвязанную ленточкой, а я ей – диск с музыкой Поля Мориа, который по моей просьбе записал знакомый солдат из информационного центра группировки.
Праздничный вечер, впрочем, несмотря на все приготовления, прошёл отнюдь не так торжественно, как я ожидал. Нас, солдат, впустили в столовую на полчаса, покормили каким-то странным пирогом, сверху расписанным узорами из варёной сгущёнки, а затем раздали подарки и выпроводили на улицу. В помещении к тому времени начинали собираться офицеры, для которых уже ставились на стол шампанское, блюда с фруктами, бутербродами с красной икрой и так далее. Впрочем, это мало кого огорчило: солдаты, у которых всё уже было готово для своего пира, только того и ждали. Я же, выпросив разрешение у Евы Андреевны, зашёл в пустую медицинскую палатку и всю ночь провёл там, читая книжку, найденную у неё среди дурацких бульварных романов, произведений Донцовой и прочей ерунды, – том из собрания сочинений Достоевского с «Мёртвым домом» и «Дядюшкиным сном».
Всю ночь над Ханкалой грохотала праздничная канонада, в которой слились автоматные, пистолетные и даже, кажется, орудийные выстрелы. И через толстое сукно палатки можно было видеть яркие разноцветные вспышки, освещавшие небо. Говорят, кто-то из зэков, напившись до посинения, перелез через забор на территорию нашего узла, взобрался на крышу бани и выпустил в воздух несколько очередей из автомата, расстреляв подряд несколько рожков. Также я слышал, что ночью в группировке кого-то случайно застрелили.
Я спокойно пересидел ночь в палатке, а утром вышел на развод, который ради праздника перенесли с шести тридцати на восемь часов утра. Стоило при этом посмотреть на наших солдат. Половина едва держались на ногах, а те, что стояли уверенно, имели такие синие и кислые лица, что походили на пациентов туберкулёзного диспансера. Катин, наш начальник штаба, допился до такого состояния, что его нашли в дальнем конце лагеря в каком-то корыте, и после он почти неделю лежал в своей кашээмке. Впрочем, от него и так почти нет никакого толка, и я сейчас даже удивляюсь, что когда-то считал, что надо опасаться его. Трезвыми были разве что дежурные по связи, я да наш ремонтник прапорщик Валентинов. Последний, впрочем, вообще человек основательный и серьёзный. Хорошо держался и Сомов, впрочем, в этого сколько, кажется, ни влей, всё ему будет нипочём.
Кому-нибудь, наверное, будет интересно узнать, какие нам сделали подарки. Во-первых, каждый получил продуктовый набор – банку сгущёнки, тушёнки и шоколадку «Альпен гольд», а также чёрную спортивную шапку из толстой материи. Шоколадку я съел ночью, читая книжку, а остальное у меня стащили на следующий день. Но были ещё подарки из так называемой гуманитарной помощи – вещей, собираемых и направляемых сюда, в Чечню, различными учреждениями, чаще всего – школами. Обычно это открытка и что-нибудь такое, что может пригодиться солдату в быту, – моток ниток с иголкой, тетрадки, несколько ручек. Всё это обыкновенно сопровождается коллективным письмом класса: мол, сражайтесь смело, дорогие бойцы, благодарим вас за самоотверженность и отвагу, ну и т. д. Подарки вывалили перед нами на стол, чтобы каждый мог выбрать что-нибудь себе по душе. И вот среди стандартных наборов ручек и носовых платков я нашёл небольшой пакетик. В нём – пара перчаточек, три уже исписанных, но усердно отточенных карандаша и новая тетрадка. Никто из наших на всё это и не посмотрел – расхватали, что поярче, и разбежались. Но вы не представляете, как меня умилила и обрадовала эта посылка! Перчаточки были старые, но аккуратно заштопанные, как для себя. Видно было, что отправитель – человек бедный и отдаёт чуть не последнее, при этом очень заботясь о том, чтобы подарок обязательно пришёлся впору и пригодился. Прилагалась и открыточка – тоже скромная, даже не магазинная, а с собственноручно нарисованной картинкой – нарисованным фломастерами зайцем с морковкой в лапах. Обычно дети составляют такие послания под диктовку учителя, тут же имелось собственное, личное письмо. Писала восьмилетняя девочка. Она подробно рассказывала о том, как выпрашивала у папы его старые перчатки, как он сначала не хотел их отдавать, потому что живут они небогато, и как после охотно согласился, узнав, для кого они предназначены. Как потом она аккуратно зашивала их, несколько раз распуская нитку, если видела, что шов получился некрасивый, и как складывала в дорогу, для чего не пожалела сумочки своей куклы Даши (перчатки были действительно упакованы в маленькую розовую сумочку). Дальше следовало очень серьёзное предостережение дорогому защитнику о том, что не стоит выходить без них на мороз, чтобы «ни схватить минингит», и подробное, с детской важностью, описание этого «минингита». В конце она желала получателю её подарка всего хорошего и просила после службы не забыть навестить её, Светикову Настю, ученицу третьего класса такой-то школы города Коврова.
И столько искреннего и наивного было в этом подарке из последнего, от нищего нищему, что поверите ли, я, взрослый лоб, разрыдался в два ручья, всхлипывая и ладонями растирая по щекам слёзы. И нас кто-то помнит, и нас, грязных, вшивых, забитых, кто-то искренне любит и жалеет! Как будто от всей России я получил эту посылку…
Сейчас я сижу один, на часах одиннадцать вечера, а смена будет длиться до утра. Чем же занять это время? Расскажу, пожалуй, о дедовщине. Ну, собственно, тут у нас этого явления нет. Но в то же время отсутствие её – следствие не какого-нибудь патриотического подъёма или хотя бы сплочённости солдат перед лицом общего врага. Дело в самом банальном прагматизме – между нами существует молчаливая договорённость вести себя как можно тише и спокойнее, чтобы ни у кого не возникло проблем с увольнением и получением денег. И так как устранены не причины дедовщины, а просто есть желание не создавать опасных прецедентов, то тех солдат, в абсолютной безответности которых все уверены, всё-таки продолжают мучить. У нас тут есть один такой жалкенький паренёк по фамилии Корольков. Он, представьте себе, сержант, даже старший, и вместе с тем каждый понукает им и издевается над ним. Сержантское звание стало для него каким-то проклятьем. Собственно, если касаться звания, то есть два способа получить его – или быть назначенным на должность, соответствующую ему, или окончить сержантскую учебку, в которой готовят будущих командиров. Из неё в часть приходишь через полгода уже заместителем командира отделения (в отделении 5—6 солдат). Отбор в учебку – чрезвычайно ответственное занятие. Тут у офицера должен быть какой-то особый нюх, почти сверхъестественное чутьё на людей. Ошибиться очень опасно, и живой пример тому – бедняга Корольков. Если бы не направили его учиться, он стал бы одним из очень многих тихих и незаметных солдат. Но его выдвинули на место, совершенно не соответствующее его характеру, и практически испортили ему жизнь, причём, может быть, не только здешнюю, армейскую, но и всю дальнейшую. Звание сержанта и необходимость руководить людьми стали для него настоящим наказанием. Он ещё с части назначался во все наряды и караулы, в какие можно было его вставить. Не знаю, известно ли вам, что такое собственно наряд? Это группа из четырёх человек – трёх дневальных и одного дежурного, которых назначают для наблюдения за порядком в казарме. Обыкновенно работа наряда выглядит так – один солдат стоит на тумбочке у входа в расположение роты. Его задача – охранять казарму и выполнять мелкие распоряжения офицеров – кому-то позвонить, передать что-нибудь и так далее. Остальные же убираются в казарме и выполняют разные поручения в её пределах. Без крика и твёрдой руки дежурному в наряде почти невозможно управиться. То спит прямо на тумбочке дневальный, то не убрано что-нибудь в туалете, то плохо вымыты полы, то не оповещены о чём-нибудь офицеры. Королькова, говорившего всегда тихим, робким голосом, робкого и забитого, не слушал никто из дневальных. В нарядах он буквально изводился – сам везде убирал, чистил, справлялся с оповещениями и так далее. Он работал круглые сутки и почти всегда засыпал в конце концов где-нибудь в углу со швабрами. А потом, в шесть часов следующего дня, надо сдавать дежурство новому наряду. И зачастую у Королькова принимали его только за полночь – пользуясь его беспомощностью, новый дежурный цеплялся к каждой мелочи и заставлял его по-новому делать уже сделанную работу, а сам спокойно отдыхал где-нибудь. Здесь, в Ханкале, этого доходягу назначили вечным уборщиком и истопником, и он целые дни метёт пол, убирает кровати, а каждую ночь проводит у печи. Он, кажется, совершенно отупел на этой работе. Я недавно зашёл днём в палатку и увидел его сидящим где-то в углу. Заметив меня, он вскочил с места и механически прошёлся взад-вперёд по проходу между кроватями, изображая активность. Однако, поняв, что это я, то есть человек, для него не опасный, забрался обратно в свой угол. Так он и живёт по углам, почти ни с кем не общаясь, забитый и униженный.
Наблюдая подобное, конечно, так или иначе задаёшься вопросами: что же это происходит, что за звери, что за животные эти солдаты, почему они мучают и пытают друг друга? неужели же нельзя им жить в мире?.. – ну и всё в этом духе.
Если забираться дальше, то можно задуматься и ещё вот над чем: ведь солдаты-то – представители одной и той же социальной прослойки, практически все они из бедных семей. Где же наша русская общинность, где хвалёная взаимопомощь простых людей, которой мы гордимся иногда и перед иностранцами? А ведь это всё отнюдь не мифы, это явления, существующие у нас поныне. Взять любое стихийное бедствие, любую беду, обрушивающуюся на страну, – всегда соседи помогают соседям, всегда отдаётся пострадавшему последняя копеечка, последний кусок хлеба, всегда он пускается на ночлег в самый бедный дом… В армейском же обществе, которое, казалось бы, является проекцией общества гражданского (да и как иначе – люди-то одни и те же), все подобные связи полностью уничтожаются, разрываются.

