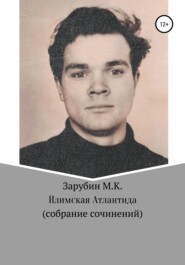 Полная версия
Полная версияИлимская Атлантида. Собрание сочинений
– Теперь уже никакая сила не разлучит нас, – сказал Енисей. И Ангара еще крепче прильнула к возлюбленному, прошептав:
– А волшебные бусы, что я для тебя хранила и которые привели меня к тебе, мы раздадим людям, чтобы и они стали счастливыми.
Много лет прошло с тех пор. Слезы Байкала, Ангары, Енисея и Иркута, пролитые ими от горя и от радости, превратились в живительные речные воды. А добрые желания Ангары исполнились: там, где были разбросаны ее драгоценные бусы, стали селиться люди, выросли города, воссияло людское счастье…
– Ангара, Енисей, Иркут – это люди или реки? – хитро улыбаясь, спросил Паша. Он, конечно, понимал, что в сказке возможно все – реки могут вести себя как люди: разговаривать, влюбляться друг в друга, жениться и выходить замуж. Удивительная вещь, законы сказки понимают даже маленькие дети, принимая как реальность ее условности и чудеса.
– Ты же слушал сказку, Паша, – ответил я. – И понял, что все это правда. Когда Ангара затапливала Иркутск и прибрежные села, люди говорили, что это Байкал не успокоился, все еще сердится на Ангару и посылает за ней гонцов…
Раньше паводки были довольно частыми. Самые тяжелые по последствиям приходились на зиму, при ледоставе на реке. До строительства Иркутской ГЭС самый крупный паводок случился в январе 1952 года, когда прибрежная часть города и его центр при морозе минус сорок градусов были затоплены водой.
Но настоящий потоп в Иркутске произошел в начале января 1870 года ночью. Как записал летописец Романов, диск луны был покрыт туманной оболочкой кровавого цвета. За неделю до этого ударил крепкий мороз, и Ангара неожиданно поднялась у иркутских берегов. Ближе к рассвету наступила быстрая оттепель, и река стала разливаться по прибрежным улицам. Район затопления охватил огромную городскую территорию: Ангара заливала улицы, подвальные этажи, дворы, службы, одноэтажные дома. На город двинулся лед: громадные льдины громоздились друг на друга, ломая береговые тумбы с перекладинами. Преодолев довольно высокий прибрежный подъем, ледяные глыбы двинулись дальше, в город.
Возникла паника. Люди спасались бегством, а во льду, крича на все голоса, замерзали коровы, куры, собаки и другие домашние животные. До них никому не было дела, каждый думал лишь о собственном спасении.
Через тридцать лет снова возникла угроза затопления Иркутска. Тогда от резиденции генерал-губернатора до понтонного моста решили соорудить вал. По словам очевидцев, это укрепление сделали из снега, и весьма основательно, оно напоминало железнодорожную насыпь. С тех пор снежный вал на набережной Иркутска возводили каждый год. Со всего города сюда свозили тонны снега, из которого лепили неприступные ледяные бастионы. При Советской власти эту затею поначалу посчитали бесполезной, но когда Ангара вновь напомнила о своей мощи и непредсказуемости, то пришлось вернуться к старому и испытанному способу спасения. В 1939 году уровень реки поднялся на шесть метров выше ординара. И тогда на городской набережной выстроили гигантских размеров ледяную дамбу. Размеры ее впечатляли: пять метров высоты и шестнадцать километров длины!
Да, Ангара знала себе цену, когда-то в ее водах добывали жемчуг. Одно из первых упоминаний о зарождении столь необычного для Сибири промысла относится к концу XVII века. В это время в Братском остроге появились «охочие жемчужники». Первым из них был некий Семейка Васильев. Добыв на Ангаре однажды крупное жемчужное зерно и с дюжину малых, Семен написал донесение о своих поисках:
«В Брацком де уезде на Ангаре реке жемчужная раковина есть… А то де место, где ныне жемчуг сыскали, будет промыслу жемчугу прочно…»
Ввиду важности открытия Семейка Васильев ездил с докладом к иркутскому воеводе. Жемчужника вновь послали на Ангару, положив ему денежное, хлебное и соляное довольствие. Когда Васильев умер, на его место заступили бывшие его помощники – Иван Федотов и Гаврила Тарасов из Соли Вычегодской, а еще через десяток лет промысел прекратился – жемчужные раковины исчезли. Возможно, и сейчас на дне Ангары или где-нибудь в ее притоках обитает моллюск с перламутровой жемчужиной внутри. Кто знает?
Каменные острова на Ангаре остались только в памяти старожилов. Стояли они вблизи маленькой деревушки Егоровой. Знамениты эти острова рисунками животных, выбитыми на скалах рукой древнего человека. С вводом в строй Братской ГЭС острова ушли на дно водохранилища, однако величайшую культурную ценность – наскальные рисунки – удалось сохранить.
По словам академика Алексея Окладникова, посетившего Каменные острова незадолго до их исчезновения, рисунками были покрыты десятки метров скал. Сотни изображений находились на различной высоте и в различной степени сохранности. Чего стоило изображение лося или сохатого, как его зовут сибирские охотники!
Перед затоплением решено было вырубить лучшие и наиболее доступные рисунки отдельными кусками и даже целыми композициями. Для этой цели из Ленинграда специально пригласили профессиональных мастеров-каменотесов. Они прекрасно справились с поставленной задачей: меткими и точно рассчитанными ударами вырубили тяжелые блоки песчаника из скал, а затем осторожно опускали их на заранее подготовленную опору. Потом зубилом сняли лишний каменный груз – и камень был готов к отправке в музей.
Это я уже рассказывал самому себе, вглядываясь как в прошлое, в темень за окном. Внук уснул, но мою руку не отпустил. А я мыслями отправился на берега чудесной реки Ангары, в тихую и уютную деревню Кеуль, где когда-то родился. Совсем недавно я побывал в ней; все было для меня в удивление, я смотрел на стремительно мчащуюся реку-красавицу, на заросший лесом противоположный берег. И показалось мне вдруг, что вижу живые, любимые и любящие, ясные мамины глаза.
В детстве я очень хотел знать, почему так ладно и удивительно устроен окружающий меня мир. Почему, например, камень сначала летит в небо, а потом падает на землю? А солнце без опор висит на небе целый день и не падает? Куда оно уходит на ночь? Да мало ли вопросов! Потом оказалось, что жизнь – одни сплошные вопросы. С возрастом они только усложняются: почему, например, человек должен стареть? Так хорошо всегда быть молодым! Хорошо, когда не болят ноги…
Эта естественная мысль возникла, когда почувствовал, что мои ноги затекли, ведь я боялся пошевелиться, чтобы не потревожить сон внука. Но нельзя же недвижно просидеть до утра, я осторожно взял на руки легонького своего любимого Пашу и отнес его на кровать. Он не проснулся, наверное, видел свои удивительные детские сны, еще не обремененные проблемами и нерешенными вопросами…
А я как колыбельную – себе ли, ему ли нараспев читал стихотворение своего земляка, односельчанина-погодаевца, известного художника и поэта Георгия Иннокентьевича Замаратского:
Детство – это когда в оконцеВидишь утром румяное солнце,Детство – это когда на двореЗабываешься в шумной игре.Детство – это когда ты в поле,Словно малая птаха на воле,И когда на лугах цветы,И в цветах растворяешься ты.Детство – это когда осиныБагровеют густой листвой,Ты с грибами в сиянье синиПо опушке идешь домой.Детство – это снежинки и лыжи,И коньков серебристых звень,Ты на них покататься вышел,Несмотря на морозный день.Детство – это когда из окошкаТы сосулек увидишь блеск.Значит, солнце пригрело немножко,Вновь мальчишек заманит лес.И от этих стихов так сладко становилось на душе, сердце воспаряло, как в минуты полета на качелях. И многие-многие трудные вопросы бытия сами собой разрешались, и жизнь казалась ясной, легкой, как лунный свет, льющийся в мое ночное окно.
Там, где всегда жива мама
…Плывет по Илиму на большой лодке крестьянская семья. Молодые, здоровые люди ищут пригодные для своей будущей жизни места. По обе стороны реки сомкнутым строем стоят угрюмые леса, мирно в них соседствуют сосны, лиственницы, ели и березы. Здесь нет деревьев-гигантов, при одном взгляде на которые кружится голова; здешние деревья не крупнее тех, что растут где-нибудь на Вологодчине. Здесь тайга без конца и без края. Заливаются птицы, жужжат насекомые. Хвоя, припекаемая солнцем, насыщает воздух сладким густым живительным запахом. Поляны и опушки у берегов, покрытые голубыми, розовыми и желтыми цветами, кажутся похожими на лоскутки радуги. Сила и притягательность тайги в ее тайнах, в том, что лишь перелетные птицы знают, где она кончается. Сделаешь остановку, взберешься на сопку, заросшую лесом, глянешь вперед на восток, по направлению реки, и видишь: внизу лес, дальше еще сопка, кудрявая от леса, за ней другая сопка, потом еще одна… И так без конца. Идешь дальше. Через сутки глянешь с другой сопки вперед – та же картина. Что же находится за этими лесами, которые тянутся по сторонам реки на север и юг? Где они кончаются? Это неизвестно было даже тунгусам, родившимся в тайге. На такие вопросы они отвечают привычно, коротко и убежденно: «Конца нет!»
Сколько тайн прячет в себе тайга! Вот меж деревьев петляет, словно запутывая след, тропинка, исчезающая в лесных сумерках. Куда она ведет? В тайный ли винокуренный завод, о существовании которого не знает местный исправник, или может быть к золотому прииску, открытому артелью бродяжек? Но какой манящей, тревожной свободой веет от этой загадочной тропинки!
По рассказам людей бывалых, в тайге живут медведи, волки, сохатые, соболи, дикие козы. Лодка плывет вдоль берегов, на которых непроглядные чащи соседствуют с просветленными рощами. Оглянешься назад и увидишь, как важно, по-хозяйски выходит и смотрит тебе вслед медведь или лось. Стремглав пролетают над головой утки, шлепают крыльями взлетающие гуси. А в прозрачной воде, в пластах глубинных течений – видны косяки непуганых рыб.
Интересно в этой глухомани, притягивает таинственная чаща. Но в лес не углубиться, ни тропинок, ни дорог, только высокие завалы обломанных жестокими осенними ветрами сухих веток, нагромождения вывернутых с корнем деревьев. Они повсюду преграждают путь, кажется, никогда не пройти сквозь бастион, образовавшийся из поваленных стволов, вывороченных пней и острых обломанных сучков, торчащих во все стороны как копья.
Жарко… С чуть слышным шелестом пролетают таежные птички. Ветви и кусты составляют как будто единый орнамент, затканный радужно сверкающими алмазными паутинками. А то вдруг взлетит из-под ног, пугая резким шумом крыльев и теряя перья, линяющий косач или рябая глухарка. Кажется беззащитной горстка людей в этом огромном мире природы, живущем по своим законам. Вверху синь с кучевыми облаками и животворные лучи солнца, ниже – оркестр таежных красок, цветастые бабочки, увлеченные своей непостижимой работой, умиротворяющий, убаюкивающий шелест листвы, беспрерывный стрекот кузнечиков в траве. Вечером – костер у реки, уха из только что пойманной рыбы, и негромкая печальная русская песня, неизбывной надеждой согревающая души…
Трудно представить, а тем более передать словами особенности жизни и быта моих предков. Но очень хочется иногда это сделать. Так больно иногда врезаются в сердце какие-то незримые, крепкие, не порвавшиеся нити, соединяющие меня с далекой родней, прошлое с настоящим.
Вспоминая свое детство, когда я был такой же, как сейчас мой десятилетний внук Паша, я невольно сравниваю два мира: сегодняшний, и тот, ушедший навсегда. И каким же прекрасным и светлым он мне кажется! Сейчас я постоянно слышу призывы о защите природы, о том, как современная цивилизация уничтожает ее существованию. Наши предки жили и берегли окружающий их мир без всяких призывов, по совести, они делали это для нас, не задумывались, – это было нормой их бытия.
Каким было мое детство? Оглядываюсь назад. Вижу маму – она всегда в работе, и на колхозной ферме, и дома. Я не помню, чтобы она отдыхала. Ее жизнь была непрерывным трудом, привычка к нему как наследство передавалась из поколения в поколение. Удивительно, но мне, мальчишке, казалось, что это состояние труда она любила. На мой взгляд, мама трудилась всегда легко, радостно, с улыбкой. Сейчас я понимаю, что это был подвиг «во имя». Так трудиться она была вынуждена, чтобы мы, ее дети, не знали нужды.
Я помню ее усталые, измученные постоянной работой руки, ими она нежно гладила мою голову, помню ее добрые, глубокие голубые глаза. Ласка и тепло, исходящее от матери, остались во мне на всю жизнь. Она любила меня, и я любил ее. Сейчас, когда я уже взрослый и даже старше по возрасту, чем тогда мама, понимаю, что она была человеком мудрым, наделенным любовью ко всему миру. Она сердцем понимала природу, любила жизнь, какой бы стороной та к ней ни поворачивалась. Мама хранила свою душу в первозданной чистоте, не пускала туда зависть и уныние.
Мама была сильной и выносливой, как все женщины в Сибири, но вместе с тем благодарно отзывчивой к красоте. По-детски могла любоваться заходом и восходом солнца, восторгалась, рассматривая узоры мха на камнях или затейливые листочки папоротника. Помнится, если я в тайге находил цветок саранки, мама не позволяла мне выкапывать его вкусную сладкую луковку, говорила, что такую красоту нельзя губить, ею можно только любоваться.
Тогда я не подозревал, что наш простой, как будто приземленный мир, не единственный, что есть мир другой, возвышенный, духовный. Не знал, что есть мир больших знаний, искусства, музыки, литературы. Но я благодарен своей детской судьбе за то, что она наградила меня жизненной силой Сибири. И хотя жили мы тогда небогато, но были счастливы, веселы. Да и как иначе можно было жить в том удивительном природном мире, питающем нас животворными соками первозданного бытия.
Та далекая сибирская жизнь закалила меня, обкатала незаметно и ласково, как речка обкатывает голыши. Вот и остался я таким обкатанным «голышом», пусть неправильной формы, но зато крепким и надежным.
Лет с десяти все ребята нашей деревни уже работали в колхозе. Это не называлось, как теперь, эксплуатацией детского труда. Нас приучали к работе, прививали трудовые навыки. А уж сенокос – мечта любого деревенского мальчишки! Сенокосные угодья были и рядом с деревней, и далеко от нее, километров за пятьдесят. В начале июля на лошадях мы отправлялись заготовлять сено. Дорога шла по тайге. Я и сейчас явственно слышу звуки тех минувших времен, голоса друзей, вижу лица родных, даже иногда вспоминаю давно растаявшие запахи.
Для меня тайга – моя жизнь, моя радость, моя надежда. Для меня она олицетворяет всю красоту Сибири: богатырское стояние гор, плодородное лоно равнин. Мне кажется символом неиссякаемости жизни вековой кедр с розовыми, как младенцы, смолистыми цветочками, прячущимися в глубине кроны. Музыкальна неуловимая игра света и тени в таежном лесу. Полезно для души здесь побыть одному и последить, как спешит с хвоинкой на спине муравей, посмотреть, как под корой старого дерева прячется гусеница, почувствовать на себе внимание дятла, который делает вид, что высматривает на сухом стволе пропитание, а на самом деле с любопытством поглядывает на меня.
В детстве мне посчастливилось ходить на судне по Илиму. Это было большое плавание. Плыли мы только днем, а на ночлег обязательно приставали к берегу. Те ночевки на берегу я хорошо помню. Лодка чалилась к корягам, каких много по берегам, или к большим валунам, сбрасывался большой железный якорь. Парни заготовляли дрова, разжигали огромный костер, дым которого в какой-то мере спасал нас от гнуса.
Бреднем ловили рыбу, она, непуганая, прямо шла в невод. Иногда мы видели всплески огромных рыбин, от их предполагаемой доисторической величины становилось жутковато. Это был таймень. Девчата в большом котле варили уху на всех. Ужинали весело и шумно. Все чем-то были заняты, у каждого было свое задание, говорили и суетились, радовались берегу.
Значительно позже, читая книжки про первобытные племена, я вспоминал эти ужины у костра посреди дремучей тайги и, сравнивая, находил много общего с древними временами.
С кружками в руках мы рассаживались вокруг котла, окруженные непроглядной глушью ночной тайги. В нашем стане распоряжался капитан-лоцман, опытный специалист, много раз водивший большие лодки по реке, хорошо знавший фарватер и тайгу. Он же отвечал за жизнь людей и сохранность груза. Авторитет капитана, излучающего силу и уверенность, был непререкаем. Помню, что на его лице был большой шрам, на который мы смотрели с уважением.
После ужина мужчины долго пили таежный чай, курили и рассказывали разные страшные истории. Постепенно разговоры затихали, люди умолкали, завороженные в глухой ночи мистическим слиянием тайги, костра, реки и наших жизней, казавшихся такими незначительными в огромном пространстве Сибири.
В этих походах были и неустранимые трудности. Нас изматывал таежный гнус. Плавание обычно начиналось в самое жаркое время лета, когда он особенно воинственен. На реке гнуса почти не было, а вот берега от него гудели. Добычу мог съесть живьем, человека свести с ума. Страдало и зверье. Мы не раз слышали, как животное ревет, съедаемое этой мелкой тварью. Лоси были хитрее, они выходили на берег и периодически окунали головы в воду, так спасаясь от гнуса. Людям, закутанным с ног до головы защищавшей одеждой, приходилось спать с дымокурами, но все равно мошка доставала, мы всю дорогу были искусанные и опухшие.
Запомнились бури и грозы на реке. Конечно, это не морской шторм, но при утлости нашего суденышка все же было страшновато. Тревога взрослых передавалось и нам, детям. Во время ненастья мы приставали к берегу или укрывались в ближайшей заводи.
Днем при ясной погоде можно было полюбоваться сибирскими красотами. Река и берега казались неизменными в своей непреходящей, величественной красоте, которая, однако, каждый день открывалась по-разному. После такого путешествия в душе на всю жизнь оставался немеркнущий свет восторга от щедрости природы и гармонии бытия…
В памяти с того времени остался страх большой воды, ощущение усугубляющейся угрюмости тайги, безмолвие расширяющегося пространства.
Мне тогда открывался мир, а открывается он человеку полнее всего в детстве. Я этот мир не забыл: до сих пор помню запахи пронизанных солнцем брусничных полян, смоляной дух поскрипывающих кедрачей. А главное, моя память хранит ощущение величия таежных просторов, речных течений, высоких небес. Величия жизни.
Много лет назад я покинул эту свою малую родину. Сколько на своем веку городов и весей повидал, но нет для меня уголка земли краше и роднее нашего, Илимского. Места благодатные, хороши и для охоты, и для рыбалки, сладки для ягодников и грибников. До сих пор помню свои дрожащие от волнения руки, которыми снимаю с крючка хариуса, длинного и узкого, который почти не отличается от своей родной сестры – форели.
Я люблю свой Илим и горжусь тем, что мои предки выбрали для жизни именно этот край! Люблю ненаглядные сопки, покрытые молочного цвета цветами багульника, похожие на ответвления Млечного пути. Люблю воздух, напоенный дыханием разогретой полуденным солнцем хвои. А как не вспомнить нашу опрятную деревенскую улицу, никогда не знавшую никакого транспорта. Поэтому пространство между домами и огородами всегда было покрыто идеально ровным травянистым ковром, расцвеченным покачивающимися на длинных стебельках ослепительно желтыми одуванчиками. Через этот двухцветный ковер от дома к дому скромно проходила тропка-дорожка. Это она выводила меня в жизнь.
Все мы живем на одной земле, все освещены одним солнцем, но у каждого из нас есть свой заветный край, свой уголок земли, где цветы душистее, солнце ярче, хлеб вкуснее, и где всегда жива мама.
Под знаком вечности
О рассказах Михаила Зарубина
Радостно, когда в нашу бурную, переворотную эпоху постоянно меняющихся законов и смыслов выпадает счастье видеть сущности незыблемые, символизирующие традицию и Вечность. Так же радостно, как Пушкину в своем путешествии в Арзрум было отрадно увидеть через многие годы на том же месте и в той же величественной красоте Кавказские хребты. «В Ставрополе увидел я на краю неба облака, поразившие мне взоры девять лет назад. Они были все те же, все на том же месте. Это – снежные вершины Кавказской цепи» (А. С. Пушкин «Путешествие в Арзрум»). Рассказы Михаила Зарубина дают нам такое счастье. Созданные на основе личных воспоминаний о послевоенном детстве писателя и о сегодняшних днях, они, облеченные в проникновенную художественную форму, ведут за собой читателя через осмысление прошлого к укрытым за облаками времени нравственным вершинам, которые за этими облаками не померкли, и в наше время не изменили ни высоты, ни весомости.
Рассказ-образ «Журавли» – базовый, он задает читателю координаты присутствия и точку зрения в изображаемом автором мире. Редко мы видим журавлей на земле, чаще в небе, когда трепетной цепью они или улетают, или возвращаются в родные края. Скажи – журавли, и в памяти тотчас возникают будоражащие душу их клики, напоминающие о временности человеческого бытия, символизирующие одновременно скоротечность времени и его неистощимость, сопричастность Вечности. Название этого рассказа заставляет читателя повернуть голову к небу, требует расширения угла зрения и горизонта видения. Это расширение необходимо для воплощения замысла автора, который, может быть, даже не подозревая сам, вплотную подходит к разрешению древней антиномии с ее эмпирически противоречивым и одновременно логически равноправным обоснованием: изображение «нарастания» и «убывания» жизни одновременно в пространстве одного художественного произведения. Автор книги добивается этого совмещением двух противоположных зрительных позиций, соединяя две противоречивые перспективы – внутреннюю и внешнюю, пространство земное и небесное, закон Божий и опыт человеческий.
Журавли, облака, река Илим – это не просто реальные, натуралистические детали, в разнообразных состояниях присутствующие в произведении, но символичные границы, разграничивающие и соединяющие миры видимые и незримые, в вероятном в перспективе их единении. Соприкосновение в высоком духовном напряжении двух разнородных пространств мы видим в рассказах, посвященных матери писателя, крестьянке Анне. Хотя вся книга озарена светом ее облика, нигде более, как в этих воспоминаниях, писатель не выказывает ей такого искреннего восхищения и поклонения.
«Белизна ее лица была белее, чем у остальных женщин деревни. Это была даже не белизна, не бледность – это было сияние. Так сияют в весеннем поднебесье крылья журавлей или в осеннем ночном небе далекие созвездия. Красота ее была несомненной, непререкаемой, не вызывающей соперничества и пересудов. В свои сорок с небольшим лет она была стройна и грациозна. Откуда у деревенской женщины, занимающейся тяжелым физическим трудом, была эта небесная грация? Грация печальной трепетной птицы. Легкая, летящая походка казалась врожденной, она не шагала по земле, как все остальные крестьянки ее возраста, а как будто скользила, касаясь поверхности только кончиком ступни. Так сказочная царевна-лебедь скользит по глади вод. Ее не утяжеляли ни грубые сапоги, ни стеганая телогрейка, которая в стремительном движении распахивалась, и полы ее, как крылья, трепетали на встречном ветру».
В рассказах, посвященных матери главного героя повествования Мишки, являющегося своего рода художественным двойником автора, много бытовых деталей, повседневных отношений. Дом, его скромный даже по послевоенным меркам интерьер, домашние животные, поля и огороды – предстают перед читателем в естественной перспективе в натуральную величину, символизируют пространство внутреннее, жизнь видимую. Автор с гоголевскими многоцветной живописностью, фантастичностью, с верой в идеально-прекрасный мир, с легкой иронией описывает быт своего нелегкого детства, вовлекает в пространство бытия маленькой, затерявшейся в таежных лесах деревушки читателя, с удовольствием присоединяющегося к этому познавательному путешествию в другие земли и времена. Но к образу матери художник читателя близко не подпускает, да и сам взирает на нее из глубины своего сегодняшнего понимания законов существования с отстранением, с поклонением святости, смотрит на мать, как на явление иного мира, иной величины.
Литературными средствами писатель достигает эффекта «обратной перспективы», изображает хрупкую физически, скромную маленькую женщину в аскетике вечности, как символ сохранения и «нарастания» жизни, несмотря на то, что выпала ей по судьбе трудная жизнь и ранняя тяжелая смерть. Эта жизнь явилась не только источником, но и примером жизни сыну. Художественный образ Анны, оставившей своего любимого Мишку сиротой в четырнадцать лет, кажется много выше и светлее всех остальных персонажей повествования благодаря не только внешней красоте, но сердечным и духовным качествам этой женщины, не знавшей компромиссов с совестью, склонявшейся не пред обстоятельствами, а только пред образом Божиим. Автор не пишет подробный портрет своей матери, но поэтическими средствами, не обрывая ее связи с земными и небесными ипостасями бытия, можно сказать, опосредованно, передачей субъективного пространства ее существования выходит на объективные уровни и обобщения этого образа.



