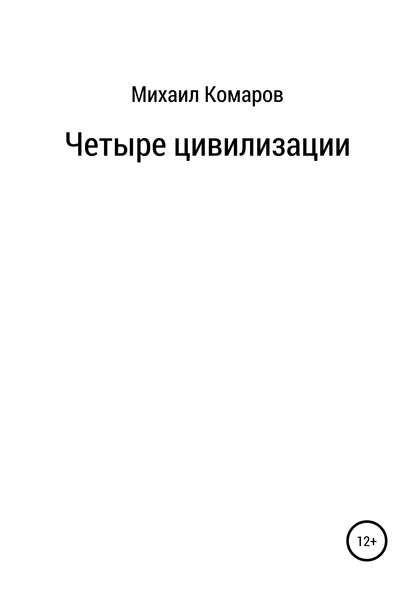 Полная версия
Полная версияЧетыре цивилизации
Имела место и организованная экспансия. Подобно Древнему Риму, немцы начали движение на восток, где ассимилировали или вытеснили полабских славян и пруссов и распространили свою власть по всей южной и восточной Балтике вплоть до современной Эстонии. Викинги тоже не ограничились разбойничьими набегами, они завоевали северную Францию (Нормандия), восток Англии (Область Датского Права), земли восточных славян (древнерусская «империя» Рюриковичей) и очень значительно отметились в Польше, основав в устье Одера крепость Йомсборг. Позже крупнейшими колониальными империями стали Нидерланды и Великобритания.
Новгород, основанный, по всей видимости, переселенцами с южного побережья Балтийского моря, стал органичной частью и восточным форпостом «морской цивилизации» Северной Европы. Несмотря на то, что он располагался далеко от морского берега, он обладал всеми признаками «морской цивилизации». Здесь тоже было крайне трудно обеспечить себя зерном, но тоже нашлись «уникальные продукты» – пушнина, воск, мед, березовый деготь. Сформировавшись как типичный самоуправляющийся полис с республиканской системой управления, Новгород начал свою экспансию, распространившись на северо-восток до Полярного Урала и низовьев Оби (см. «Феномен Великого Новгорода»).
Таким образом, к XII-XIII веку «морская цивилизация» Северной Европы распространилась на огромных пространствах от Лабрадора и Ньюфаундленда на западе до Западной Сибири на востоке. К концу XV века ее центральная часть, собственно Северная Европа, почти полностью слившись с Европой остальной, стала ее органической частью (сохранив, при этом ряд своих особенностей). Западная часть цивилизации (Северная Америка, Гренландия и Исландия) выродилась в условиях крайней оторванности и экстремального арктического климата, сохранились лишь малочисленные поселения в Исландии. Восточная часть, Новгород и Псков, отделенные от Европы религиозной стеной православия и отторгнутые ею, были уничтожены сильным и агрессивным южным соседом – Московским царством.
Очень интересна история цивилизации Индийского океана. Первые мореплаватели в Персидском заливе, согласно древнешумерскому эпосу о Гильгамеше, приплыли в Месопотамию еще в III тыс. до н.э. из загадочных стран Дильмун, Магар и Мелухха (вероятнее всего с острова Бахрейн и других островов у побережья ОАЭ, Омана и Ирана). Сведения о южноаравийских мореплавателях, освоивших маршруты от Сомали до Индии, встречаются и в других источниках. Однако на том этапе скудных ресурсов пустынного аравийского побережья не хватило для формирования полноценной цивилизации. С III в. до н.э. в этой части Индийского океана господствовали греки и индусы, вероятнее всего, при активном участии местных жителей. Греки принесли сюда высокоразвитые технологии кораблестроения (опять килево-шпангоунтная конструкция), а греческий кормчий Гиппал, вероятно с подачи индусов, поймал муссоны, благодаря чему плавания по Индийскому океану стали столь же быстры и надежны, как и по Средиземному морю.
В VI веке н.э., после падения Римской империи, греческие и индийские мореплаватели уступили место местным. Персидская империя Сасанидов распространила свою власть на побережье океана от Эфиопии до Ирана, и теперь мореплаватели южной Аравии и Персидского залива смогли опереться на богатые ресурсы Ближнего Востока. Расцвет этой морской цивилизации пришелся на X-XV века, на «золотой век Ислама». Индийский океан превратился в «мусульманское озеро», поплыли доу, корабли Синдбада-морехода, а многочисленные арабские султанаты стали возникать от Мозамбика и Занзибара до Малакки и южных Филиппин. Характерно, что в 751 года в Омане, ставшем центром мореплавания, как и полагается для «морской цивилизации», возникла почти республика. Был установлен выборный порядок (иджма) смены имамов – духовных лидеров, взявших на себя и функции управления регионом. Но по ряду причин мусульманская цивилизация Индийского океана не смогла противостоять появившимся здесь европейцам. Серьезный удар был нанесен португальцами в XVI веке, нарушившими монополию арабов на торговлю, но даже в середине XIX века владения морской торговой империи оманского владыки Саида ибн Султана распространялись на все побережье Аравии, Персии и на Восточную Африку от Сомали до Мозамбика и Мадагаскара. Окончательный конец арабской морской цивилизации Индийского океана положили англичане. Однако следы ее заметны и сегодня в значительном распространении мусульманства в Восточной Африке, в Малайзии, на островах Индонезии и на юге Филиппин.
Еще одна «несостоявшаяся» морская цивилизация – тихоокеанская, австронезийско-полинезийская. Протоавстонезийские племена, жившие на о. Тайвань, к V—IV тыс. до н. э. освоили своеобразную технологию судов с балансирами (прообраз катамарана) и начали свою экспансию. Часть переселилась на Японские острова, где была впоследствии полностью ассимилирована. В IV—III тысячелетии до н. э. австронезийцы через Филиппинские о-ва заселили Малайский архипелаг, достигли северного побережья Новой Гвинеи. Однако, если мореходам южной Аравии и Персидского залива не хватало ресурсов для формирования цивилизации, то здесь, на островах Индонезии, ресурсов было, наоборот, слишком много. Благодатный климат и плодородные вулканические почвы позволяли получать все необходимое для жизни на месте, натуральное хозяйство было вполне эффективным, и стимула продолжать плавания не было. И это даже несмотря на наличие здесь «уникального товара» – пряностей Молуккских островов. В результате, несмотря на море, изрезанное побережье и «уникальный товар», здесь сложилась типичная горная цивилизация, в которую проникли очень подходящие для нее идеологии в виде индуизма, буддизма, а позднее ислама и даже христианства.
Тем не менее, полинезийцы, восточная часть австронезийцев, продолжили морскую экспансию, начав в XIII в. до н. э. заселение островов Фиджи и Тонга. К началу II тыс. н.э. были заселены практически все остова Тихого океана. К моменту появления здесь европейцев на некоторых островах начала складываться государственность, в частности на Гавайях, на Маркизских островах и на о. Пасхи. Однако скудость ресурсов и чрезвычайная разобщенность островов друг от друга не позволили сложиться единой высокоразвитой морской цивилизации на всем пространстве Тихого океана.
Степные цивилизации.
В VII тысячелетии до н.э. производящее хозяйство (земледелие и скотоводство), утвердившись окончательно в Плодородном Полумесяце, начало стремительно распространяться во всех направлениях. Продвигаясь на север, обойдя Черное море с запада, через Балканы, и с востока, через Кавказ, мигранты с Ближнего востока оказались в причерноморских степях. Этот регион оказался чрезвычайно благоприятным для земледелия – долгое жаркое лето, достаточное увлажнение, большое количество рек (как источника рыбы и как средства коммуникаций) . А самое главное – почвы. Нет в мире столь же плодородных почв, как причерноморские черноземы.
В V—III тыс. до н. э. в Дунайско-Днепровском междуречье формируется Трипольская культура бронзового века, с городами до 20000 чел. Заметим, это происходит одновременно с появлением первых государств в Египте и Месопотамии. В это же самое время на Северном Кавказе формируется другая высокоразвитая культура бронзы – Майкопская культура, 2-я пол. IV – нач. III тыс. до н. э. Она характеризуется масштабными работами по террасированию склонов Кавказа для более эффективного использования земли. При спокойном течении истории дальнейшее распространение этих культур должно было привести к «замыканию клещей» вокруг Черного моря и созданию единой высокоразвитой цивилизации, или, может быть, двух-трех. Однако этого не произошло. На смену этим культурам пришли более примитивные.
Долгое время велись научные споры относительно прародины индоевропейцев, предков большинства современных народов Европы, Среднего Востока и Индии, а также обеих Америк и Австралии с Новой Зеландией. Выдвигались гипотезы: анатолийская, центрально-европейская, балканская, индийская. В настоящее время общепринятой считается «курганная гипотеза» Марии Гимбутас, согласно которой прародиной индоевропейцев является степная зона восточной Украины и юга России от Днепра до Урала. Ее мы и будем придерживаться.
Все пространство между Трипольской и Майкопской культурами, т.е. левобережье Днепра и Донские степи, занимала Днепро-Донецкая культура (с 5000 г. до н.э.), местные племена загонных охотников, рыболовов и собирателей, говоривших на праиндоевропейском языке.
К 3500 г. до н.э., вследствие контактов с трипольцами и майкопцами, у них также возникает примитивное земледелие и, главным образом, скотоводство. С 3200 г. до н.э. на основе Днепро-Донецкой культуры формируется чисто скотоводческая Среднестоговская культура. Не имея тысячелетних традиций земледелия, носители этой культуры быстро оценили преимущества именно кочевого скотоводства в степном ландшафте – возможности быстрых перекочевок в любом направлении в условиях слабопересеченной местности, и огромные просторы пастбищ. Кочевое скотоводство, по сравнению с оседлым земледелием, более «естественно» для человека, оно не требует тяжелого монотонного труда, зато здесь необходимы смелость, сила и ловкость, то есть качества, присущие человеку вообще и загонным охотникам в особенности (подробнее см. «Неолитическая революция»). Повышение температуры с севера на юг и снижение влажности с запада на восток, означающие изменение периода цветения трав, длительности снежного покрова и его толщины, давало возможность найти сезонные пастбища в любое время года. Помимо заимствования крупного рогатого скота, овец, коз и свиней у трипольцев и майкопцев, носители Среднестоговской и наследовавшей ей Ямной культур, праиндоевропейцы, приручают лошадь в качестве верхового и вьючного животного. Они же изобретают колесо и повозку. Они овладевают технологиями бронзы. Вместе с этими технологиями и кочевым образом жизни у них формируется соответствующий менталитет – подвижный, воинствующий, экспансионистский. Ямная культура распространяется на восток до Волги и Урала.
В период с 3200-2700 гг. до н.э. кочевники уничтожают Трипольскую и Майкопскую культуру, также располагавшиеся в степной зоне. Земледельческие культуры, не успевшие сформироваться в государства, не смогли себя защитить. С этого момента на четыре с лишним тысячелетия огромные евразийские степи оказываются во власти кочевников. Возникает Дикое поле.
Здесь я вынужден не согласиться с А.М. Хазановым («Кочевники и внешний мир», С.-Пб., Филфак СПГУ, 2007), который утверждает, что кочевое скотоводство возникает только на землях, не приспособленных для земледелия. Скорее наоборот, земледельческая цивилизация не может возникнуть в зоне степей, так как не выдержит конкуренцию с кочевыми культурами, подвижными, воинственными и вполне эффективными в данном ландшафте.
Понятие «кочевое скотоводство» не нужно абсолютизировать. За несколько тысячелетий в степной полосе Евразии сменилось множество народов и культур, которые можно отнести к кочевым, но все они существенно отличались друг от друга. Соответственно, формы скотоводства менялись. Кто-то из них вообще не имел постоянных поселений и вел исключительно кочевой образ жизни, другие лишь время от времени, в зависимости от сезона, перемещались на сравнительно небольшие расстояния. Вторые могли иметь более-менее постоянные поселения с относительно капитальными постройками. Историки их иногда называют не «кочевыми», а «отгонными» или «пастушескими». И все-таки все они постоянно перемещались.
Соответственно, кочевое скотоводство не означает полного отсутствия земледелия в степной зоне, но оно существует отдельными очагами, в качестве вторичного вида хозяйственной деятельности.
Когда мы говорим про сельское хозяйство, мы подразумеваем земледелие и скотоводство как некий единый комплекс. Но на самом деле заниматься интенсивным земледелием и скотоводством одновременно крайне затруднительно – слишком разные требования и к окружающему ландшафту, и к образу жизни.
Земледелие подразумевает обработку крестьянином определенного участка земли, размер которого соответствует физическим возможностям его обработки в соответствии с тем уровнем технологий, который существует в данное время. Соответственно, главной ценностью является именно этот определенный участок земли. Мы не касаемся здесь вопроса собственности на землю, она может быть различной, но факт остается фактом, при занятии земледелием главной ценностью становится земля. Такой способ производства подразумевает оседлость. Ко всему прочему, ограниченность площади участка, который способен обработать один крестьянин, подразумевает достаточно большую плотность населения.
Скотоводство же, наоборот, привязано не к земле, а к скоту. Скоту нужны пастбища, и их нужно постоянно менять: во-первых, стадо животных быстро выедает пастбище, во-вторых, питаться скоту необходимо круглый год, и, соответственно, необходимы сезонные смены пастбищ. Это подразумевает необходимость кочевого образа жизни. Один человек может пасти значительное количество скота, ему необходимы только пастбища, причем все время новые. И это подразумевает низкую плотность населения.
Естественно, у земледельцев тоже имеется скот, но, как правило, его мало, потому, что пасти его негде и некому – земледелец занят земледелием, и землю использует для земледелия. Можно, и даже необходимо, иметь несколько голов скота, чтобы иметь тягловую силу для пахоты, источник шерсти, молока, вьючный транспорт. Но иметь постоянный и надежный источник мяса – непозволительная роскошь. На мясо забивали только старых животных, неспособных уже выполнять другую, основную функцию.
С другой стороны, скотовод, вынужденный постоянно перемещаться в поисках новых пастбищ, не может себе позволить заниматься полноценным земледелием, так как, во-первых, его посадки будут уничтожены его же скотом, во-вторых, он, скорее всего, не успеет собрать урожай, так, как вынужден будет откочевать, чтобы прокормить скот, а в-третьих, у него просто не будет времени на обработку земли. Но, тем не менее, какие-то небольшие грядки он себе позволить может. А если это не совсем кочевое скотоводство, а отгонное, то роль земледелия может возрасти еще больше – пока мужчины угонят стада на летние пастбища (например, на север или высоко в горы, к альпийским лугам), женщины могут обрабатывать землю. И все-таки, земледелие даже в таком случае остается у скотоводов на «вторых ролях».
Поскольку скотоводу необходимы все время новые пастбища, он рано или поздно посмотрит на земли, занятые земледельцами, и неизбежно возникнет конфликт. Этот конфликт сопровождает всю историю человечества. Он зафиксирован в Библии как конфликт между родными братьями Авелем и Каином. Как известно, Авель был пастухом, а Каин земледельцем. И то, что Каин оказался «плохим», говорит только о том, что древние евреи, составители Библии, были скотоводами.
Образ жизни формирует определенный менталитет народа. Земледелец, привязанный к своему клочку земли, по своей природе не воинственен. Ему, по большому счету, все равно, кто у него отнимает часть урожая в качестве дани или налогов, важно только, чтобы этот «кто-то» выполнял все свои функции в качестве власти – поддерживал в исправном состоянии системы мелиорации и обеспечивал порядок и безопасность. Он не умеет владеть оружием – ему это просто не нужно, оборонную и полицейскую функцию за него выполняет государство. Земледелец, вынужденный жить в условиях высокой плотности населения, более социализирован и дисциплинирован.
Напротив, кочевник-скотовод, все время перемещающийся со своими стадами, всегда готов к любым неожиданностям на новых землях, соответственно он воинственен. Вынужденный защищать свои стада, он вооружен и хорошо владеет оружием.
Земледелец не представляет себе жизни без своего участка земли, он тяжел на подъем. Если он вынужден воевать, то его война должна «уместиться» в промежуток времени между посадкой и сбором урожая.
Напротив, кочевники-скотоводы чрезвычайно мобильны, и способны быстро собираться в крупные армии. У скотовода, как правило, нет своей земли. Любая земля, где достаточно травы, его, но ровно до тех пор, пока траву не выел скот. Из-за этого часто возникали конфликты между разными кочевыми племенами и народами.
Ко всему прочему, кочевое скотоводство достаточно продуктивно и значительно менее трудоемко, чем земледелие.
Кочевники имели достаточно высокоразвитые ремесла. Они изобрели колесо со спицами, повозку, они достаточно рано овладели бронзой и железом, они изобрели стремена, седло, и многое другое.
При этом мы не говорим про лошадь – казалось бы, неотъемлемый атрибут кочевника, делающий его непобедимым. Все, что мы говорили о боевых преимуществах кочевников, справедливо и без лошади. Многие кочевые народы Африки не владели лошадьми, что не снижало их экспансионизма. Кенийские масаи и южноафриканские зулусы славились своими боевыми качествами без лошадей. Но наличие лошадей делало кочевников просто непобедимыми.
Все это играло на пользу кочевникам. Мобильность кочевых цивилизаций в чем-то сходна с мобильностью морских цивилизаций. Очень много общего в истории викингов и, к примеру, половцев, только вместо моря – степь, а вместо корабля – лошадь. Но, тем не менее, в историческом процессе кочевники, в отличие от мореплавателей, проиграли. Вот почему:
1. Кочевой образ жизни предполагает низкую плотность населения, соответственно более примитивную социальную организацию, что бы ни говорил по этому поводу Лев Гумилев, идеализировавший «Великую степь». Кочевники смогли создать более-менее полноценные государства, только подчинив себе земледельческие общины и включив их в состав своего государства. Но в этом случае кочевники сами со временем становятся земледельцами, мы это увидим далее. Ни одно чисто кочевое общество так и не перешагнуло уровень протогосударства, или «вождества» (разве что монголы, но только с помощью китайских и персидских «учителей» и, при этом, крайне не на долго).
2. Кочевое скотоводческое хозяйство, будучи достаточно эффективным в степном ландшафте, тем не менее, значительно уступает в эффективности всем земледельческим цивилизациям. А это значит, что прибавочный продукт в степи намного меньше. В силу этого, а также в силу их образа жизни, у кочевников не может быть полноценных городов, а именно города являются сосредоточием ремесел, образования, науки, культуры, и, соответственно, центрами развития. «Великие» столицы кочевых каганатов – Итиль, Баласагун, Сарай-Берке, Каракорум – не оставили после себя даже развалин, их местоположение до сих пор точно не установлено. Соответственно, кочевые культуры, по сути, останавливаются в своем развитии, а все новое черпают у соседних оседлых народов. Быт монгольской кочевой семьи времен Чингисхана и в начале XXI практически одинаков.
3. В силу меньшей эффективности хозяйства, кочевники гораздо больше нуждаются в товарах и продуктах, производимых оседлыми земледельческими цивилизациях, чем наоборот. В евразийских степях кочевники постоянно контактировали с развитыми оседлыми культурами, либо в форме приграничной торговли, либо в форме грабежа. В африканских саваннах высокоразвитых оседлых цивилизаций так и не возникло, и кочевники были вынуждены мириться с существованием рядом с собой земледельческих племен (или каст), не забывая при этом подвергать их нещадной сегрегации. В этом заключается причина отсталости Африки – африканский трайбализм, самым трагичным проявлением которого стал геноцид тутси в Руанде в 1994 г. (см. «Почему Африка такая отсталая»).
Впервые разделение на оседлых земледельцев и кочевых скотоводов произошло еще в Плодородном Полумесяце. Если земледельцы преимущественно переместились в поймы рек, в те самые аллювиалы, где были более легкие и плодородные почвы, то скотоводы остались в горах, где, в зависимости от сезона, могли перемещаться со своими стадами вверх или вниз в поисках свежей зеленой травы – зимой, когда в долинах достаточно влаги и зеленая трава, вниз, а летом, когда внизу все выгорает, вверх, к свежим альпийским лугам, пока там не выпадет снег.
Но в Плодородном Полумесяце горные «отгонные» кочевники не представляли особой опасности для земледельческих «речных» и «горных» цивилизаций в силу своей малочисленности. Горы, разделенные ущельями и хребтами, препятствуют мобильности скотоводов, каждая группа которых вынуждена кочевать по определенной горной долине, перемещаясь вверх-вниз по устоявшемуся маршруту. Группы, кочующие в соседних долинах, могут годами не общаться друг с другом. Так было насколько тысяч лет назад, так осталось и сейчас. В Дагестане, горном Таджикистане или в горах Афганистана в каждом селе существует свой язык, а высокоразвитая Швейцария разделена на кантоны – фактически независимые государства. Из-за такой разобщенности горные кочевники не могли объединиться, чтобы осуществить свою экспансию, скорее наоборот, они сами постоянно становились жертвами нападений сопредельных земледельческих держав. И, в общем-то, они были вовлечены в товарооборот, получая из речных или горных долин необходимые продукты земледелия и ремесленные товары в обмен на свой скот. Но они оказали большое влияние на «горные» цивилизации, став, в значительной степени причиной их экспансионизма, и, в еще большей степени, их ударной силой, или «пушечным мясом».
Интересно проанализировать, какая форма правления формируется в «степных» цивилизациях. В России устоялось мнение, что традиции монархизма и деспотизма пришли к нам из Золотой Орды, из степи, но я с этим не соглашусь. Своей подвижностью кочевники напоминают жителей «морских» цивилизаций. Кочевника трудно заставить встроиться в систему тоталитарного государства с обладающим абсолютной властью монархом. Как приморский рыбак может в любой момент уплыть на соседний остров и начать там новую жизнь, так и кочевник может в любой момент откочевать со своими стадами в любом направлении. Кочевнику это сделать даже проще, он не держится за свой участок земли. В «морских» цивилизациях в таких случаях возникали договорные отношения, республика или ограниченная монархия. На первый взгляд, то же должно было происходить и в степях. Но это только на первый взгляд.
Греческая и финикийская колонизация проходила в Средиземноморье достаточно мирно. Для создания колонии нужен совсем небольшой участок земли, колонисты чаще всего договаривались с туземцами о его предоставлении. Поделившись землей, туземцы получали возможность для взаимовыгодной торговли с колонистами. Известно, что Геродот писал о скифах-земледельцах, живших поблизости от причерноморских колоний. Но известно, что скифы были кочевниками-скотоводами. По-видимому, в связи с тем, что греческие колонисты нуждались, прежде всего, в зерне, некоторые из них перешли к оседлости и освоили земледелие.
Хорошо известен миф об основании Карфагена. Карфаген был основан в северной Африке выходцами из финикийского города Тира в конце IX века до н. э. Согласно легенде, город основала вдова финикийского царя по имени Дидона. Она пообещала местному племени заплатить драгоценный камень за кусок земли, ограниченный шкурой быка, но при условии, что выбор места останется за ней. После того, как сделка была заключена, колонисты выбрали удобное место для города, окольцевав его узкими ремнями, сделанными из одной бычьей шкуры.
Португальцы, основывая свои опорные пункты в Африке, начинали с местными вождями оживленную торговлю рабами, французы в Квебеке и новгородцы на русском севере мирно скупали у местных племен пушнину. Туземцам всегда было выгодно появление такой колонии по соседству с ними.
Совсем другая ситуация возникает при перемещении кочевника со своими стадами. Ему на новом месте нужны пастбища, т.е. земля. А на ней кто-то живет. Возникает конфликт. Чтобы получить новые пастбища, кочевники, индивидуалисты по своему менталитету, вынуждены объединяться в крупные сообщества. И в любом конфликте побеждает тот, кто лучше организован. Необходимо единоначалие, появляется вождь, хан, каган, бек. Таким образом, в степи формируется именно монархическая система власти. Но власть монарха в степи не настолько абсолютна, как в «речных» и «горных» цивилизациях, хотя и весьма значительна.
Главное отличие монархической системы власти в степях и в речных долинах или в горах заключается в том, что в степях власть монарха – это осознанный свободный выбор людей для противостояния врагам. На общемонгольском курултае (съезде) 1206 г. Темуджин стал Чингисханом, на последующих курултаях его наследники выбирались Великими ханами.
Поэтому, у власти в степи нет необходимости в какой-то мистической религии, чтобы обеспечить лояльность населения. Кочевое общество достаточно веротерпимо, а роль религии в мировоззрении индивидуума невелика. Монголы исповедовали тенгрианство, поклонялись Вечному Небу, но при этом среди них было много и христиан несторианского толка, и мусульман. Позже, когда в хан Золотой Орды Узбек провозгласил Ислам государственной религией, В Сарае продолжала прекрасно существовать православная епархия, а в степи оставалось огромное количество кочевников-христиан, ставших в последующем основой казачества. Если сравнить сегодняшние Казахстан и Кыргызстан, наследников «степных» цивилизаций, и соседний Узбекистан, имеющий многовековую земледельческую традицию, мы увидим, что в Узбекистане Ислам проник в сознание людей гораздо глубже, и присутствует там в гораздо более радикальных и фундаменталистских формах.

