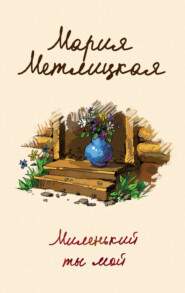скачать книгу бесплатно
А он как взбесился:
– Ты что, на серьезе? Приехала мать и сильно болеет? Лежит там одна? Ты одурела? Не ожидал я такого… – и мотает башкой. – Она там, а ты здесь, Лида?
Возмущенно мотает. А я – в оправдание:
– Дим! Ты чего? Ты не в курсе моих обид? Моего инвалидского детства? Ты что, заболел?
– Нет, Лида! Это ты заболела! Это же мать! Мама твоя! И ей сейчас плохо. Да как же ты можешь считаться, а, Лид? У тебя что, совсем сердца нет?
Такой вот «поддержки» в кавычках я вовсе не ожидала. И я испугалась… Аж дрожь пробила. Димка мой сейчас меня разлюбит! Разочаруется во мне, бросит меня! Будет считать жестокосердной! Дрянью будет считать…
Не подумала я, что носит он в сердце священный образ своей мамаши. Жалеет ее, вспоминает. Оправдывает. Считает несчастной, ни в чем не повинной. Это у них, у детдомовских, часто бывает.
Вот тут я просчиталась: у всех интернатских мать – это святое. Даже самая жуткая и непотребная. Алкоголичка, бомжиха, воровка, наркоманка…
Дуется как мышь на крупу, в мою сторону не смотрит. Ох, я и запсиховала! Ох, испугалась! И давай к нему ластиться:
– Дим, ну? Ну что ты так? Я же не знала, что ты так воспримешь! Боялась, что скажешь «на черта она нам нужна, стерва такая?». А я бы – по-тихому, Дим! Моталась бы к ней, а ты бы и не знал!
– Да? – усмехнулся. – А что ж не смоталась? До сегодняшнего дня? Времени не было? Я осужу, говоришь? А за что? За то, что моя жена – человек? За то, что простила великодушно маму свою?..
Надел куртку и вышел из дому.
А я… Я села на табуретку и реву в три ручья:
– Димочка, Димка! Ты только вернись! Я все буду делать! Ты слышишь? И к этой… поеду! Горшки за ней буду таскать! Пеленки стирать! Только ты возвращайся! Димка, любимый! Ты только меня не бросай! А я – я исправлюсь! Я все сделаю, Димка! Чтобы ты мной гордился. Не разочарую тебя.
Все для этой стервы сделаю, все! Пусть от злобы давиться буду, а все сделаю.
Потому что жизни без тебя не мыслю. Потому что ты для меня – это все! Потому что кроме тебя, Дим…
Ну ты понимаешь…
Только я тебе этого никогда не скажу… Потому что стыдно. Стыдно так любить и так прогибаться. Стыдно так бояться и так мандражировать. Стыдно обнаружить свои слабости.
Я ведь сильная – да, Дим? Я ведь смелая, да?
А все то, чего я до смерти боюсь… никто не узнает. Даже ты, мой любимый.
И я потащилась в деревню. Димка предлагал поехать вместе. Я отказалась, подумала: вдруг не сдержусь и отношение свое к Полине Сергеевне продемонстрирую? А ведь точно не сдержусь и продемонстрирую – я себя знаю!
А при нем буду с ней терпима и ласкова. И Полина Сергеевна моя сначала обалдеет, а потом быстренько привыкнет. Знаю я ее наглую сущность.
В общем, поехала я одна. Еду, а на душе так погано, словно кошки нагадили.
Мысли всякие: а вдруг?.. Тогда Димка меня никогда не простит. Вот чего я боюсь, понятно?
Да нет, жива она, все понятно. Дурные вести быстро доходят – сообщили бы.
А если лежит и не встает? Попить поднести некому? Помирает от жажды и голода? «Ой, да ладно, Лида, – успокаиваю себя, – такие как эта… В общем, их так просто не изведешь».
Но на душе гадко, что и говорить. Тухло просто на сердце. И такая тоска… Словно я поняла тогда, в тот день, что сломает Полина Сергеевна мне в очередной раз мою жизнь. Перекорежит.
Вышла я из автобуса и плетусь по тропинке к нашему дому. Навстречу соседка, Таня Пронина. Неплохая баба, не самая зловредная.
Орет:
– Лидка, ты?
– А что, я так сильно изменилась за пару лет? Уже и не узнать?..
Танька хмыкает:
– Раздалась!
– На себя посмотри! – отвечаю я. – Башня водонапорная!
Танька всегда была высокой и толстой, ей не привыкать. А я всегда была тощей. Меня даже ребята дразнили «селедкой».
– А чего давно не была?
Я хожу быстро, Танька бежит сбоку, подстраиваясь под меня. Дышит тяжело, как паровоз.
Наконец я останавливаюсь – сама притомилась.
Танька облегченно вздыхает и плюхается на траву.
– Уморила ты меня, Лидка! А я ведь опять тяжелая! – радостно сообщает она и смеется, утирая с курносого носа пот.
Я качаю головой – осуждаю. Танькин муж, Витька Пронин, пьет как сапожник. И жену поколачивает. А эта дура рожает четвертого! Совсем сбрендила…
Ладно, не мое дело. А вот чего я долго не приезжала – не ее.
– Некогда было, – буркнула я, – да и незачем! Что мне тут? Какой интерес? Я в городе живу.
– Ага, городская! – хихикает Танька. – И как? Прижилась?
Я гордо фыркаю и иду дальше.
– К мамане приехала? – кричит мне вслед Танька. – Ну, наконец-то! А то мы думали, что ты совсем…
– Что? – Я останавливаюсь и тихо задаю свой вопрос: – Что думали, умники?
Танька краснеет и смущенно фыркает:
– Да так, ничего…
И отводит глаза. В поселке все знают нашу историю. Все осуждали Полину Сергеевну. Все жалели меня и бабу. А вот что будет сейчас – не знаю. Народ у нас переменчив на мнения и очень жалостлив. И еще – очень любит посудачить и осудить. Просто хлебом не корми, а дай осудить.
Но не на ту напали! И это все знают.
Иду по улице и краем глаза вижу, как наши все из окон повываливались. Наши все – это останки. Останки деревни, которой нет. Или почти нет. Молодежь вся свалила в города, старики понемножку умирали и площади освобождали. Часть домов стояли уже заколоченными – это если родня сделать успела. А у кого-то родни не было, и после похорон – за счет собеса и добрых соседей – дома остались доживать свою долгую жизнь: входные двери в сени были распахнуты, сараи завалены, огороды позаросли крапивой и борщевиком. Кое-где были выбиты окна, сползали толевые крыши. А крыши, покрытые шифером, были разграблены добрыми соседями: пластины шифера снимали, чтоб подлатать свои. Бесцеремонный у нас народ – берет, что плохо лежит.
В нескольких дворах жизнь еще теплилась – век свой доживали старухи и редкие старики, чьи-то дети или родня использовали опустевшие дома под дачи, а где-то еще оставалась и молодежь – например, такие, как Пронины.
Витька Пронин, Танькин муж, в город ехать отказывался. «Деревню люблю!» – объяснял он.
А на самом деле ехать в город Витька Пронин банально боялся – там надо было вкалывать, платить за общежитие, за детский сад. Покупать приличные вещи. В деревне детей не одевали: трусы и майки летом, осенью – резиновые галоши, перешитые куртки из взрослых ватников и старых пальто. Рукавицы, носки, шарфы и шапки – вязали сами. Шерсти было навалом – бабки чесали коз, овец и лохматых собак. В домах обязательно стояли прялки – черные от времени, блестящие от упорных и терпеливых женских рук. Стояли они прямо у окон – чтобы старые глаза хоть чего-то увидели.
Прялка была и у моей бабы. А после ее смерти я унесла ее на чердак. Помню, как Полина Сергеевна внимательно, словно видела в первый раз, рассматривала ее. Потрогала даже.
Я молча наблюдала за ней. Полина Сергеевна вздохнула и приподняла прялку правой рукой – попробовала на вес.
Но тяжело вздохнула и прялку отставила.
– На кой она тебе? – удивилась я.
Полина Сергеевна покраснела и смутилась:
– Да нет, не возьму! Тащить тяжело. А это модно сейчас, Лидка! В московской квартире поставить старую прялку. А еще лучше – на даче! Для интерьеру!
Я вздрогнула:
– Прялку я тебе не отдам! – крикнула я. – «Для интерьеру»!.. Чтобы вы там посмеивались и притворно умилялись: ах, красота! Ах, старина! И как это в прежние времена?
Это для них умиление! А для бабы была жизнь. Баба спрядет нитки, и в ноябре начинает меня обвязывать – новые носки, рукавицы, жилетки, кофточки.
Я сидела возле нее и смотрела, будто завороженная, как мелькают блестящие спицы в заскорузлых, кривых, раздутых, темных и любимых ладонях.
И мы с бабой тихо переговаривались. А потом она начинала гнать меня спать. А я все канючила: ну, баб! Еще полчасика!..
И через десять минут засыпала, прямо на табуретке, положив голову к бабе на колено.
А она, вздыхая, относила меня в кровать.
Все бабины «вязалки», любовно украшенные полосками разноцветных ниток, смешными и наивными узорами, плохо вывязанными (руки уже дрожали, и зрение падало) бантиками и божьими коровками, я снесла в чулан. Больно было смотреть. А когда решила их вытащить, то увидела, как сильно их погрызли и обгадили мыши. Как же тогда я ревела! Корила себя, что не сохранила, не сберегла память о бабе.
Впрочем, память о ней всегда жила в моем сердце. Единственный человек, который любил меня. Единственный человек, кому я была нужна и кто обо мне заботился.
Недалеко от своего дома я притормозила – села на скамеечку, на завалинку, где раньше собирались на вечерние посиделки старухи, и закурила.
Курить я начала в училище – все девчонки смолили на переменах и в общаге. А позже Димка курить мне запретил: «Кого ты мне родишь, Лида? Уродца с заячьей губой?»
При Димке я не курила. А вот оставшись одна – да, бывало. Стыдно было… Ведь слово ему давала. Ну да ладно. Что говорить… Когда в душе чернота… Это немножко спасало. Или мне так казалось – не знаю. Но пачку сигарет я носила в сумке всегда. То детишки мои, ученички, доконают. То начальство разнервирует. То какая-нибудь мамашка поскандалит и кровушки напьется.
Я закурила и огляделась по сторонам. Начало июня, жарко. У палисадников облака сирени – белой, розовой, темно-сиреневой. А пахнет как!.. Детством моим. Раньше я любила начало лета, когда все просыпается, все оживает. По пыльной дороге летит тополиный пух – вьется, кружится, клубится, где-то сбивается в кучки и издали походит на снег.
Жужжит толстый шмель, пристраиваясь на бледно-розовую, ломкую кисть иван-чая.
Тишина и благодать. Вспоминаю, как уходила в жару на сеновал – подремать. Как бы готовиться к школьным экзаменам. Наберу с собой учебников, сушек похрустеть и кружку домашнего кваса – белого, кислого, мутного. У бабы он получался отменно. У нее даже в схоронках хранился древний, засохший изюм – она бросала его в бидон с квасом. Сморщенный, почти черный и мелкий изюм в квасе разбухал, увеличивался в несколько раз, становился гладким и налитым. Я любила вылавливать его пальцами и сосать, как конфету.
На сеновале было душно. В узенькое оконце пробивались солнечные лучи, и многолетняя пыль кружилась на солнце, как крошечные, сказочные балерины в медленном танце.
Учить параграфы было неохота. Я потихоньку отхлебывала из алюминиевой помятой кружки квас и закрывала глаза.
О чем я мечтала? Об этом я не сказала бы никому. Даже бабе. Это было только мое, сокровенное. Самое главное и стыдное.
Я мечтала о… маме. Нет, не о Полине Сергеевне! Она и это чудесное слово никогда не вставали рядом. Я придумала себе ужасно дурацкую и нелепую историю. И в ней Полина Сергеевна не была моей матерью. Моей настоящей, кровной матерью была… Совсем другая женщина.
Двоюродная сестра Полины Сергеевны – Аня, Анюта.
Анино фото (в отличие от фотографии Полины Сергеевны) висело у нас на стене. Аня была дочерью бабиного брата Ивана, погибшего в сорок четвертом. Бабиного любимого младшего брата.
Анечка была красавицей – высокой, тоненькой, синеглазой. С длинной, до пояса, пшеничной косой. Аня была смешливой. Певуньей была. Аню обожали все деревенские – бабы, старики, дети.
Но была она сердечницей – баба рассказывала, что иногда Анечка бледнела, опухала и даже падала в обморок. Лечиться она не хотела. «Сколько дадено, столько и проживу!» – говорила она.
Замуж не собиралась – кому нужна больная жена? Потратит жених деньги на свадьбу и… Через полгода я окочурюсь? И детей мне рожать нельзя – все ж это знают!
Все знали, а все равно к Анечке сватались. А она всем отказывала.
Однажды баба сказала, что короткий роман у Анечки все-таки был. С каким-то партийным начальником. Приехал тот с проверкой или с комиссией и влюбился в нашу девочку не на шутку.
Любились они – так говорила баба – всего-то пару недель. Важный начальник задержался в инспекциях по близлежащим селам и каждый вечер возвращался к зазнобе. А потом уехал – звали дела и семья. Семье его, кстати, незамедлительно капнули, и оскорбленная женушка раздула страшный скандал, объявив, что шлюху эту со света сживет.
Начальник, в глубокой печали и тревоге за любимую, поехал к ней и посоветовал уехать подальше – хотя бы на время.
Анечка уезжать отказывалась, мотала головой и говорила, что ревнивой жены не боится.
И тогда, видя, что этим ее не проймешь, начальник соврал: дескать, а давай убежим вместе? Ну, сначала уедешь ты, а потом подъеду и я. Как в песне поется: «И чтоб никто не догадался…»
Наивная Аня поверила. От счастья заплакала хрустальными и чистыми слезами и дала возлюбленному согласие.
И еще – ну, раз уж так вышло! – призналась ему в своей беременности.
Тот совсем было пал духом, но Анечка не расстроилась – все складывалось на редкость удачно.
Быстро собравшись, через пару дней она уехала. Денег он ей дал и договорились, что как только сможет – главное, кстати, не семья, а парторганизация! – он сразу же телеграфирует ей на главпочтамт городка К., выбранного ими для счастливого проживания. Ну и наступит их счастье.
Дальше все было странно: начальник так и не развелся, никуда не уехал и жил себе прежней, знакомой и размеренной жизнью.
А девочка наша просто пропала: что с ней случилось – никто не узнал. Ни ответа, ни привета. Уехал человек и пропал навсегда. Вот как бывает…
И в розыск подавали, и к начальнику в город ездили. Но он ходоков не принял – дескать, дел много. А когда его подкараулили на улице, у блестящей черной машины, он отшатнулся как от прокаженного больного и прошептал белыми губами: какая Анна Ивановна? Не знаю такой!
Вот я и придумала себе историю: дескать, я – дочка Анечки и того партийного босса. Родила меня Анечка и тайком привезла в родную деревню. Почему? Да понятно: как поднять одной ребеночка? Да еще и в незнакомом месте! А ехать домой было стыдно – позор все-таки. Позор и обман.
Так вот, привезла меня мамочка бабе Мане и – в путь. Потому что там, в Сибири, у нее сложилась большая карьера – стала наша Анечка… Например, главврачом!