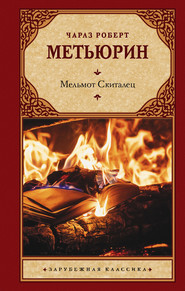
Полная версия:
Мельмот Скиталец
– Кто это среди нас? Кто? Я не в силах произнести слов благословения, пока он здесь. Я не чувствую благодати. Там, где он ступает, земля сожжена! Там, где он дышит, в воздухе вспыхивает огонь! Там, где он ест, яства становятся ядом! Там, куда устремляется его взгляд, сверкает молния!Кто это среди нас? Кто? – повторял священник, уже слабеющим голосом произнося последние слова заклинания; капюшон его откинулся назад, редкие волосы вокруг тонзуры пришли в движение от охватившего его ужаса, вытянутые руки, высунувшиеся из рукавов рясы, были простерты к незнакомцу и делали его похожим на охваченного страшным наитием прорицателя. Он все еще стоял, а англичанин спокойно стоял напротив него. Окружающие были потрясены, и их смятенные позы резко контрастировали с суровой неподвижностью этих двух людей, в молчании воззрившихся друг на друга.
– Кто знает этого человека? – воскликнул Олавида, словно пробуждаясь от забытья. – Кто его знает?Кто его сюда привел?
Раздались голоса, заверяющие, что тот или другой знать не знают англичанина, и каждый шепотом спрашивал соседа: «Кто же все-таки привел его в дом?» Тогда отец Олавида, поочередно указывая на каждого из гостей, стал расспрашивать каждого в отдельности: «Вы знаете его?»
– Нет! Нет! Нет! – послышались решительные ответы.
– Ну а я его знаю, – сказал Олавида, – я узнаю его по этим холодным каплям, – и он вытер лоб, – по этим скрюченным суставам, – и он снова сделал попытку перекреститься, но не мог. Он возвысил голос и с большим трудом проговорил:
– По этому хлебу и вину, которые для исполненного веры суть плоть и кровь Христовы, но которые его присутствие превращает в нечто столь же нечистое, как пена на губах порешившего с собою Иуды; по всем этим признакам я узнаю его и заклинаю его сгинуть! Это… это… – при этих словах он наклонился вперед и посмотрел на англичанина взглядом, который был ужасен, оттого что в нем смешались ярость, ненависть и страх. Все поднялись с мест, собравшиеся как бы разделились сейчас на две части: с одной стороны это были пришедшие в смятение гости и хозяева дома, которые все сбились вместе и спрашивали друг друга: «Кто же он, кто?», а с другой – стоявший неподвижно англичанин и Олавида, который упал и, мертвый уже, все еще продолжал указывать на врага…
* * *Тело священника вынесли в другую комнату; исчезновения англичанина никто даже не заметил до тех пор, пока все опять не вернулись в зал. Там все засиделись далеко за полночь, обсуждая необыкновенное происшествие, и в конце концов решили остаться до утра в доме, дабы злой дух (а они были убеждены, что англичанин не кто иной, как сам дьявол) не надругался над телом покойного, что было бы нестерпимо для ревностного католика, тем более что умер он без последнего напутствия. Едва только это похвальное решение было принято, как всех подняли на ноги крики ужаса и предсмертные хрипы, донесшиеся из спальни новобрачных.
Все кинулись к двери, и первым отец. Они распахнули ее, и глазам их предстала новобрачная, лежавшая бездыханной в объятиях своего юного супруга…
* * *Рассудок к нему больше уже не вернулся; семья покинула замок, в котором ее постигло столько горя. В одной из комнат до сих пор живет несчастный безумец; это он кричал, когда вы проходили по опустевшим покоям. Большую часть дня он пребывает в молчании, но в полночь всякий раз начинает кричать пронзительным, душераздирающим голосом: «Идут, идут!», после чего снова погружается в глубокое молчание.
Во время погребения отца Олавиды произошло нечто странное. Хоронили его в соседнем монастыре; доброе имя этого праведника и необычные обстоятельства, при которых он умер, привлекли на похороны много народа. Произнести надгробную проповедь поручили монаху, который славился своим красноречием. А для того чтобы придать больше убедительности его словам, покойника положили в боковом приделе на возвышении с непокрытым лицом. В основу проповеди своей монах положил слова одного из пророков: «Смерть вошла во дворцы наши». Он пространно говорил о смерти, чей приход, будь он стремителен или медлен, в равной мере ужасен для человека. Он вспоминал о превратностях судьбы – о крушении империй, и в словах его были и ученость и сила, однако незаметно было, чтобы все это произвело особенное впечатление на слушателей. Он цитировал различные места из житий святых, где описываются исполненное славы мученичество и героизм тех, кто проливал кровь и горел в огне за Христа и Пресвятую Матерь Божью, но собравшиеся, казалось, ждали, что он скажет еще нечто другое, что растрогает их больше. Когда он грозно обрушился на тиранов, оставивших по себе память кровавыми преследованиями этих святых, слушатели его на какое-то мгновение словно очнулись от забытья, ибо всегда бывает легче пробудить в человеке страсть, нежели нравственное чувство. Но когда он заговорил о покойном и выразительно простер руку, указуя на лежавшее перед ним холодное и недвижное тело, все взгляды обратились на него и все насторожились. Даже влюбленные, которые, делая вид, что окунают пальцы в святую воду, умудрялись передавать друг другу записки, прервали на какое-то время свое увлекательное занятие и прислушались к словам проповедника. Он с большим жаром говорил о добродетелях покойного, утверждая, что тот находился под особым покровительством Пресвятой Девы, и перечислил все, что с его кончиной теряло братство, к которому он принадлежал, все общество в целом и христианская вера. Он даже разразился по этому поводу инвективою, обращенной к Богу.
– Господи, как ты мог, – воскликнул он, – так поступить с нами? Зачем ты отнял у нас этого великого праведника, ведь добродетелей его, если должным образом употребить их, несомненно хватило бы, чтобы искупить отступничество святого Петра, противодействие апостола Павла (до его обращения) и даже предательство самого Иуды! Господи, почему ты отнял его у нас?
И вдруг из толпы глухой и низкий голос ответил:
– Потому что он этого заслужил.
Шепот одобрения, донесшийся со всех сторон, почти заглушил эти неожиданно прозвучавшие слова, и хотя среди тех, кто стоял ближе всех к человеку, который их произнес, и произошло некоторое замешательство, все остальные продолжали внимательно слушать.
– За что, – продолжал проповедник, указывая на мертвеца, – за что наказали тебя этой смертью, раб Божий?
– За гордость, невежество и страх, – ответил тот же голос, сделавшийся еще более страшным.
Смятение охватило теперь всех. Проповедник умолк, и в расступившейся толпе предстала фигура монаха того же монастыря…
* * *После того, как были испробованы все обычные способы – увещевания, внушения и взыскания, – и местный епископ, которому доложили об этом чрезвычайном происшествии, прибыв в монастырь, потребовал, чтобы строптивый монах объяснил ему свое поведение, но так ничего и не добился, было решено предать виновного суду Инквизиции. Когда несчастному сообщили об этом, ужас его был безграничен, и он готов был снова и снова повторять все то, что может рассказать о смерти отца Олавиды. Но все его самоуничижение и повторные просьбы исповедовать его пришли слишком поздно. Его передали в руки Инквизиции. Существо процессов, которые ведет этот суд, редко становится известным, но имеются некие тайные сведения (за достоверность которых я не могу ручаться) касательно того, что он говорил на суде и какие пытки ему пришлось вынести. На первом допросе он обещал рассказать все, чтоможет. Ему ответили, что этого недостаточно и что он обязан рассказать все, что знает…
* * *– Почему ты пришел в такой ужас, когда хоронили отца Олавиду?
– Не было человека, который не испытал бы ужаса и тоски при виде смерти этого чтимого всеми священника, который оставил после себя добрую славу. Поступи я иначе, это могло бы служить доказательством моей вины.
– Почему ты прервал надгробное слово такими странными возгласами?
На вопрос этот не последовало ответа.
– Почему ты продолжаешь упорствовать и навлекаешь на себя опасность своим молчанием? Взгляни, заклинаю тебя, брат мой, на распятие, что висит на стене, – с этими словами инквизитор указал на большой черный крест, висевший позади кресла, на котором он сидел, – одна капля пролитой им крови может смыть все грехи, какие ты когда-либо совершал; но вся эта кровь вместе с заступничеством царицы небесной и подвижничеством всех мучеников, больше того, даже отпущение, данное самим папой, не сможет избавить тебя от проклятия, которое тяготеет над нераскаявшимися грешниками.
– Но какой же я совершил грех?
– Самый тяжкий из всех возможных грехов: ты отказался отвечать на вопросы, заданные судом пресвятой и всемилостивой Инквизиции, ты не захотел рассказать нам, что тебе известно о смерти отца Олавиды.
– Я уже сказал вам, что, как я полагаю, гибель его есть следствие его невежества и самомнения.
– Чем ты можешь доказать это?
– Он пытался постичь то, что скрыто от человека.
– Что же это такое?
– Он считал себя способным обнаружить присутствие нечистой силы.
– А сам ты владеешь этой тайной?
Подсудимый весь затрясся в волнении, а потом совсем слабым голосом, но очень внятно сказал:
– Господин мой запрещает мне говорить об этом.
– Если бы господином твоим был Иисус Христос, он бы не мог запретить тебе слушаться приказаний Инквизиции или отвечать на ее вопросы.
– Я в этом не уверен.
В ответ на произнесенные монахом слова все разразились криками ужаса. После этого следствие продолжалось.
– Если ты считал, что Олавида виновен в том, что занимается тайными науками, осужденными матерью нашей церковью, то почему же ты не донес о нем Инквизиции?
– Потому что я не считал, что занятия эти могут принести ему какой-нибудь вред; он оказался слишком слаб духом, он изнемог в этой борьбе, – очень решительно сказал узник.
– Ты, значит, считаешь, что у человека должна быть сила духа, для того чтобы хранить эти постыдные тайны, когда он занят исследованием их природы и целей?
– Нет, он прежде всего должен быть крепок телом.
– Сейчас мы это испытаем, – сказал инквизитор, давая знак приступить к пытке…
* * *Узник выдержал первое и второе истязания мужественно и стойко, но когда была применена пытка водой, которую человек не в силах перенести и которая слишком ужасна, чтобы ее можно было даже описать, как только наступила передышка, он тут же закричал, что во всем признается. Тогда его отпустили, дали ему прийти в себя и немного окрепнуть, и день спустя он сделал следующее примечательное признание…
* * *Старуха-испанка открыла потом Стентону, что…
* * *…и что англичанина несомненно видели потом в округе и видели даже, как ей сказали, в ту же самую ночь.
– Боже праведный! – вскричал Стентон, вспомнив незнакомца, чей демонический смех так напугал его в ту минуту, когда он взирал на бездыханные тела двух влюбленных, убитых и испепеленных молнией.
После нескольких вымаранных и неразборчивых страниц рукопись сделалась более отчетливой, и Мельмот продолжал читать ее, сбитый с толку и неудовлетворенный, не понимая, какая же связь между этими происшедшими в Испании событиями и его предком: он все же узнал его в англичанине, о котором шла речь; Джона удивляло, как это Стентон мог найти нужным последовать за ним в Ирландию, исписать столько листов, рассказывая о том, что случилось в Испании, и оставить рукопись в руках семьи самого Мельмота, для того чтобы, по выражению Догберри, можно было «проверить недостоверное». Когда он вчитался в последующие строки, разобрать которые было нелегко, удивление его улеглось, но зато любопытство еще более возросло. Теперь Стентон находился уже, судя по всему, в Англии…
* * *Около 1677 года Стентон был в Лондоне; мысли его все еще были заняты таинственным соотечественником. Человек этот, на котором теперь сосредоточились все его интересы, оказал даже заметное влияние на его внешность; в походке Стентона появилось сходство с описанной Саллюстием походкою Катилины; у него были такие же foedi oculi[8], как у того. Каждую минуту он говорил себе: «Только бы напасть на след этого существа, человеком его назвать нельзя!» А минуту спустя он уже спрашивал себя: «А что бы я тогда сделал?» Довольно странно, что в таком состоянии он все же продолжал бывать в театрах и на балах, но так оно действительно было. Когда душа охвачена одной всепоглощающей страстью, мы особенно остро ощущаем нужду во внешнем возбуждении. И наша потребность в светских развлечениях возрастает тогда прямо пропорционально нашему презрению к свету и тому, чем он занят. Он часто посещал театры, которые были модны тогда, когда
Скучая, ждали зрители развязкиИ за вечер остепенялись маски.Лондонские театры того времени являли собою картину, при виде которой должны были бы навсегда умолкнуть безрассудные крики по поводу возрастающей порчи нравов, – безрассудные даже тогда, когда они выходили из-под пера Ювенала, а тем более когда они вылетали из уст современного пуританина. Порок во все времена находится на некоем среднем уровне: единственное различие, которое стоит проследить, это различие в манере, обычаях и нравах, и в этом отношении у нас есть явные преимущества перед нашими предками. Говорят, что лицемерие – это та дань уважения, которую порок платит добродетели, соблюдение же правил приличия есть та форма, в которую это уважение облекается; а если это так, то приходится признать, что порок за последнее время на редкость присмирел. Что же касается царствования Карла II, то в его пороках было какое-то великолепие и хвастливый размах. Об этом говорил уже самый вид театров тогда, когда Стентон усердно их посещал. У дверей их с одной стороны выстраивались лакеи какого-нибудь знатного дворянина (с оружием, которое они прятали под ливреями) и окружали портшез известной актрисы[9], которую они должны были увозить vi et armis[10], как только она садилась в него по окончании спектакля. По другую сторону ожидала карета со стеклами, приехавшая, чтобы после окончания пьесы увезти Кинестона (Адониса тех времен), переодетого в женское платье, куда-нибудь в парк и выставить его там на потеху во всем великолепии женственной красоты, которая его отличала и которую еще больше подчеркивал его театральный костюм.
Спектакли начинались тогда в четыре часа и оставляли людям много времени для вечерних прогулок и полуночных встреч в масках при свете факелов, – встреч, которые происходили обычно в Сент-Джеймском парке, отчего становится понятным название пьесы Уичерли «Любовь в лесу». В ложах, которые оглядывал Стентон, было много женщин; их обнаженные плечи и груди, которые верно запечатлели картины Лели и мемуары Граммона, могли бы удержать наших современных пуритан от многих назидательных стенаний и хвалебных гимнов былым временам. Все они, прежде чем посмотреть ту или иную пьесу, посылали на первое представление сначала кого-нибудь из родственников-мужчин, дабы тот мог сообщить им, пристало ли смотреть ее женщинам «порядочным и всеми уважаемым»; однако, несмотря на эту предосторожность, при некоторых репликах, – а надо сказать, что из них чаще всего состояла добрая половина пьесы, – им ничего не оставалось, как раскрывать веера или играть тогда еще бывшими в моде длинными локонами, развенчать которые оказалось не под силу даже самому Принну.
Сидевших в ложах мужчин можно было разделить на две категории. К первой относились «веселящиеся городские остряки», которых отличали галстуки из фламандских кружев, перепачканные нюхательным табаком, перстни с алмазами, выдававшиеся за подарки королевских любовниц (будь то герцогиня Портсмутская или Нелл Гуинн), нечесаные парики с кудрями, ниспадавшими на грудь, развязность, с которой они во всеуслышание поносили Драйдена, Ли и Отвея и цитировали Седли и Рочестера.
Другую категорию составляли изящные любовники, «дамские кавалеры», их можно было отличить по белым, украшенным бахромой перчаткам, по церемонным поклонам и по тому, что каждое свое обращение к даме они начинали неуместным восклицанием: «Господи Иисусе!»[11], или более мягким, но столь же бессмысленным: «Умоляю вас, сударыня», или: «Сударыня, я весь в огне»[12]. Своеобразие нравов того времени сказывалось в одном очень необычном для нас обстоятельстве: женщины не заняли еще тогда надлежащего положения в жизни; их то чтили, как богинь, то честили, как потаскух; мужчина мог говорить со своей возлюбленной языком Орондата, боготворящего Кассандру, а минуту спустя осыпать ее потоком самых отборных ругательств, которые вогнали бы в краску даже видавшую виды площадь Ковент-Гарден[13].
Партер представлял собою зрелище более разнообразное. Там можно было увидеть критиков, вооруженных с ног до головы всей премудростью от Аристотеля до Боссю; люди эти обедали в двенадцать часов, диктовали в кофейне до четырех, потом мальчишка чистил им башмаки, и они отправлялись в театр, где до поднятия занавеса сидели в мрачном бездействии и в ожидании вечерней добычи. Были там и адвокаты, щеголеватые, развязные и болтливые; кое-где можно было увидеть и какого-нибудь степенного горожанина; он сидел, сняв свою остроконечную шляпу и пряча скромно завязанный галстук в складках пуританского плаща, а в это время глаза его, глядевшие искоса, но с явным волнением на какую-нибудь женщину в маске, укрытую капюшоном и кутавшуюся в шарф, не оставляли сомнения насчет того, что завлекло его в «шатры Кидарские». Сидели там и женщины, но на лицах у всех были маски, и хотя маски эти успели уже обветшать, как у тетушки Дины в «Тристраме Шенди», они все же скрывали красавиц от молодых вертопрахов, которых те хотели завлечь, да и от всех остальных, за исключением продавщиц апельсинов, которые громко их окликали у входа[14]. На галереях теснились счастливцы, ожидавшие исполнения обещания, которое давал Драйден в одном из своих прологов[15]; им было все равно, являлся ли на сцену призрак матери Альмансора в промокшем насквозь плаще или дух Лайя, который, в соответствии с указаниями, написанными для сцены, выезжает вооруженный на колеснице, а за спиной у него призраки трех убитых слуг, – шутка, которую не оставил без внимания аббат Леблан[16] в своем руководстве к писанию английской трагедии. Иные из зрителей требовали, правда, время от времени «сожжения папы», но, хотя пьеса,
Всех океанов одолев преграду,Начавшись в Мексике, вела в Элладу, —не всегда оказывалось возможным доставить им столь милое развлечение, ибо действие широко известных пьес чаще всего происходило в Африке или в Испании; сэр Роберт Хауерд, Элкене Сетл и Джон Драйден – все единодушно остановили свой выбор на испанских и мавританских сюжетах. В этой веселой компании было несколько светских дам в масках; они втайне наслаждались свободой, которой не решались пользоваться открыто, и подтверждали характерные слова Гея, хоть и написанные много лет назад, что
На галерее Лора смело можетСмеяться шутке, что смущает ложи.Стентон взирал на все это как человек, «в котором ничто не может вызвать улыбки». Он посмотрел на сцену: давали «Александра», пьесу, в которой участвовал сам автор ее, Ли, а главную роль исполнял Харт, с такой божественной страстностью игравший любовные сцены, что зрители готовы были поверить, что перед ними настоящий «сын Аммона».
В пьесе этой было достаточно всяческих нелепостей, которые могли вызвать возмущение – и не только зрителя с классическим образованием, но и вообще всякого здравомыслящего человека. Греческие герои появлялись там в башмаках, украшенных розами, в шляпах с перьями и в париках, доходивших до плеч; персидские принцессы – в тугих корсетах и с напудренными волосами. Однако иллюзию было чем подкрепить, ибо героини оказались соперницами не только на сцене, но и в жизни. Это был тот памятный вечер, когда, если верить рассказу ветерана Беттертона[17], миссис Барри, исполнявшая роль Роксаны, поссорилась с миссис Баутел, исполнительницей роли Статиры, из-за вуали, которую костюмер, человек пристрастный, присудил последней. Роксана подавляла свой гнев вплоть до пятого акта, когда же по ходу действия ей надлежало заколоть Статиру, отплатила сопернице ударом такой силы, что острие кинжала пробило той корсет и нанесло ей рану, хоть и не опасную, но глубокую. Миссис Баутел лишилась чувств, представление было прервано, большинство зрителей, в том числе и Стентон, взволнованные всем происшедшим, повставали с мест. И вот как раз в эту минуту в кресле напротив он неожиданно обнаружил того, кого искал столько лет, – англичанина, некогда встреченного им на равнинах Валенсии, который, по его убеждению, был главным действующим лицом рассказанных ему необыкновенных историй.
Как и все остальные, он поднялся с места. В наружности его не было ничего примечательного, но выражение его глаз не оставляло никаких сомнений, что это именно он, – забыть его было нельзя. Сердце Стентона сильно забилось, в глазах у него потемнело, – безымянный и страшный недуг, сопровождающийся зудом во всем теле, на котором проступили капли холодного пота, возвестил, что…
* * *Прежде чем он успел окончательно прийти в себя, послышались звуки музыки, тихой, торжественной и пленительно нежной; они доносились откуда-то из-под земли и, распространяясь вокруг, постепенно нарастали, становились сладостней и, казалось, заполонили собою все здание. В порыве восторга и удивления он спросил кого-то из присутствующих, откуда доносятся эти звуки. Однако отвечали ему все так, что было совершенно очевидно, что его считают рехнувшимся, да и в самом деле, произошедшая в его лице перемена могла только подтвердить это подозрение. Ему припомнился рассказ о том, как в роковую ночь в Испании такие же сладостные и таинственные звуки послышались жениху и невесте и как молодая девушка погибла в ту же самую ночь.
«Неужели следующей жертвой должен стать я? – подумал Стентон. – И неужели назначение этой божественной мелодии, которая словно создана для того, чтобы подготовить нас к переходу в иной мир, только в том, чтобы возвестить этими «райскими песнями» присутствие дьявола во плоти, который насмехается над людьми благочестивыми, готовясь излить на них «дыхание ада»?» Очень странно, что именно в эту минуту, когда воображение разыгралось до крайнего предела, когда существо, которое он так долго и так бесплодно преследовал, за одно мгновение сделалось, можно сказать, ощутимым и доступным и для тела и для души, когда злому духу, с которым он боролся во тьме, пришлось бы наконец себя обнаружить, Стентон испытал какое-то разочарование, перестал верить в смысл того, чего так упорно добивался; нечто подобное испытал, вероятно, Брюс, открывши истоки Нила, или Гиббон, завершив свою «Историю». Чувство, которое столько времени владело им, что сделалось для него своего рода долгом, в сущности было самым обыкновенным любопытством; но есть ли страсть более ненасытная или более способная окутать ореолом романтического величия все совершающиеся во имя ее странности и чудачества? В известном отношении любопытство походит на любовь, оно всегда сводит воедино предмет и чувство, которое он вызывает; и если чувство это достаточно сильно, то предмет может быть и ничтожен, и это не будет иметь никакого значения. Ребенок, пожалуй бы, улыбнулся при виде необычайного волнения Стентона от неожиданной встречи с незнакомцем, но любой мужчина в расцвете сил содрогнулся бы от ужаса, обнаружив, что ему грозит катастрофа и конец близок.
После окончания спектакля Стентон простоял еще несколько минут на пустынной улице. Ярко светила луна, и неподалеку от себя он увидел фигуру, тень от которой, достигавшая середины улицы (в те времена еще не было вымощенных плитами тротуаров, единственною защитой пешеходов были стоявшие по обе стороны каменные тумбы и протянутые между ними цепи), показалась ему невероятно длинной. Он так давно уже привык бороться с порожденными воображением призраками, что победа над ними всякий раз наполняла его какой-то упрямой радостью. Он подошел к поразившей его фигуре и увидел, что гигантских размеров достигала только тень, тогда как стоявший перед ним был не выше среднего человеческого роста; подойдя еще ближе, он убедился, что перед ним именно тот, кого он все это время искал, – тот, кто на какое-то мгновение появился перед ним в Валенсии и кого после четырехлетних поисков он только что узнал в театре…
* * *– Вы искали меня?
– Да.
– Вы хотите что-нибудь у меня узнать?
– Многое.
– Тогда говорите.
– Здесь не место.
– Не место! Несчастный! Ни пространство, ни время не имеют для меня никакого значения. Говорите, если хотите что-то спросить меня или что-то узнать.
– Мне много о чем надо вас спросить, но, надеюсь, мне нечего от вас узнавать.
– Ошибаетесь, но вы все поймете, когда мы встретимся с вами в следующий раз.
– А когда это будет? – спросил Стентон, хватая его за руку. – Назовите время и место.
– Это будет днем, в двенадцать часов, – ответил незнакомец с отвратительной и загадочной улыбкой, – а местом будут голые стены сумасшедшего дома; вы подыметесь с пола, грохоча цепями и шелестя соломой, а меж тем над вами будет тяготеть проклятье здоровья и твердой памяти. Голос мой будет до тех пор звучать у вас в ушах и каждый предмет, живой или неживой, будет до тех пор отражать блеск этих глаз, пока вы не увидите их снова.

