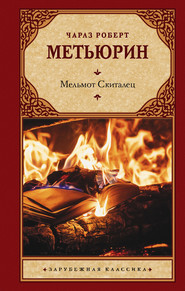
Полная версия:
Мельмот Скиталец
Это был канун дня святого Иоанна Богослова, и мне было приказано провести то, что в монастырях называют «часом размышления о грехах», в церкви. Я повиновался этому приказанию и лежал простертый, припав лицом и телом к мраморным ступенькам алтаря и уже ничего почти не ощущая от усталости, когда вдруг услышал, что часы бьют двенадцать. Тут я увидел, что назначенный час истек, а я так ни о чем и не поразмыслил. «И так вот всегда, – подумал я, поднимаясь с колен, – сами они сначала лишают меня возможности думать, а потом требуют, чтобы я размышлял о своих грехах».
Идя по коридору, я услышал страшные крики и содрогнулся. Вдруг навстречу мне метнулось какое-то привидение. «Satana vade retro, apage Satana!»[29] – вскричал я, бросившись на колени. Голый, истекавший кровью человек пронесся мимо меня, неистово крича от ярости и боли. За ним гнались четверо монахов со свечами в руках. Я запер дверь в конце коридора, сообразив, что они должны будут еще вернуться и снова пробежать мимо меня: я все еще стоял на коленях и дрожал от головы до ног. Несчастный добежал до двери, увидел, что она заперта, и, собравшись с силами, остановился. Я обернулся: глазам моим предстала группа, достойная того, чтобы ее изобразил Мурильо. Несчастный юноша отличался на редкость красивым телосложением. Поза его выражала отчаяние, потоки крови струились по его телу. Монахи, в своих черных рясах, со свечами в руках, держали наготове бичи и походили то ли на скопище дьяволов, которым удалось захватить заблудшего ангела, то ли на фурий, которые преследуют обезумевшего Ореста. И в самом деле, даже среди творений древних скульпторов нельзя было найти фигуры, которая изяществом своим и совершенством форм могла бы сравниться с той, которую они сейчас так варварски истязали. Как ни был мой дух угнетен тем, что все способности столько времени во мне подавлялись, зрелище это было так жестоко, что мгновенно его пробудило. Я кинулся защищать несчастного, ввязался в борьбу с монахами, и при этом у меня вырвались какие-то слова; сам я начисто их забыл, но зато они потом припомнили их во всех подробностях, какие способна воскресить в человеческой памяти злоба, и преувеличили все, как только могли.
Не помню уж, что было потом, но в конце концов меня на целую неделю заперли в келью за то, что я столь дерзко нарушил монастырскую дисциплину. А на несчастного послушника, воспротивившегося этой дисциплине, было наложено дополнительное покаяние, такое суровое, что от стыда и всех мук он потерял рассудок. Он стал отказываться от пищи, не мог уснуть и умер через неделю после ночи истязаний, свидетелем которых я стал. Это был юноша на редкость мягкий и обходительный; он увлекался литературой, и даже монашеское обличие не могло скрыть изысканную прелесть всего его существа и манеры себя держать. Как бы украсили его эти качества, живи он в свете! Пусть даже свет мог употребить их во зло и извратить их, но разве привело бы все это к такому страшному и трагическому исходу? Могло ли быть, чтобы мирская жизнь довела его сначала до безумия, а потом обрекла на гибель? Похоронили его в монастырской церкви, и надгробное слово произнес сам настоятель. Да, настоятель! Тот, кто приказал или разрешил и уж во всяком случае допустил, чтобы он был доведен до безумия, добиваясь, чтобы он признался в низменных побуждениях, которых на самом деле у него никогда не было.
Во время всей этой ханжеской церемонии отвращение мое возросло до крайних пределов. Если раньше я испытывал неприязнь к монастырской жизни, то теперь я ее презирал; каждому, кто знает человеческую натуру, известно, что искоренить это чувство гораздо труднее, нежели обычную неприязнь. Недолго мне пришлось ждать, чтобы оба эти чувства проявились еще раз. Стояло очень жаркое лето, и началась эпидемия, которая проникла в стены монастыря: каждый день двоих или троих отправляли в больницу, а ухаживать за больными поручалось поочередно тем, кто должен был искупать покаянием разные мелкие провинности. Мне очень хотелось попасть в их число; я даже решил, что непременно совершу какой-нибудь легкий проступок, дабы навлечь на себя это наказание, которое в моих глазах было самой высокой наградой. Признаться ли вам, сэр, почему именно я этого добивался? Мне хотелось знать, какими становятся эти люди, когда в силу обстоятельств им приходится скинуть личину, которую они носят в монастыре, когда вызванные недугом страдания и приближение смерти вырывают у них полные откровенности признания. Я втайне предвкушал, что в предсмертной исповеди своей каждый из них признается в том, что обманным путем хотел завлечь меня, будет раскаиваться в причиненном мне зле и что немеющие уже губы будут молить меня о прощении… и мольба их не окажется тщетной.
Желанию этому, хоть и вызванному жаждой возмездия, можно было все же найти оправдание; однако вскоре я был избавлен от необходимости что-то делать, чтобы оно осуществилось. В тот же самый вечер настоятель прислал за мной и распорядился, чтобы я ухаживал за больными, освободив меня от обязанности посещать вечернюю службу. На первой кровати, к которой я подошел, оказался брат Павел. Он так и не поправился от последствий недуга, сразившего его в то время, как он нес свое покаяние; кончина молодого послушника, которого так безжалостно и незаслуженно истязали, окончательно его сразила.
Я пытался заставить его принять лекарства, удобнее уложить его в постели. Никто за ним не ухаживал. Он отказался и от того, и от другого и слабым движением руки отстранил меня, сказав:
– Дайте мне хотя бы умереть спокойно.
Немного погодя он открыл глаза и узнал меня. По лицу его пробежала едва заметная улыбка: он ведь помнил, с каким участием я относился к его несчастному другу.
– Так это ты? – спросил он едва слышным голосом.
– Да, брат мой, это я. Скажи мне, могу ли я хоть чем-нибудь облегчить твою участь?
Он долго молчал, а потом вдруг ответил:
– Да, можешь.
– Так скажи мне, как.
Голос его, и до этого едва слышный, почти совершенно замер, и он прошептал:
– Не подпускай никого из них ко мне, когда я буду умирать, тебе не придется долго со мной возиться, час этот близок.
Я крепко сжал его руку в знак того, что обещаю ему это сделать. Но я почувствовал, что в этой просьбе умирающего таится что-то ужасное и вместе с тем неподобающее.
– Милый брат мой, ты, значит, чувствуешь, что скоро умрешь? Так неужели же ты не хочешь, чтобы вся община за тебя помолилась? Неужели ты отказываешься от благодати – от последнего причащения?
В ответ он только покачал головой, и боюсь, что я слишком хорошо его понял.
Я не стал больше докучать ему, а спустя несколько минут он уже совсем невнятно пробормотал:
– Не дай им… дай мне умереть. Они не оставили мне сил для других желаний.
Глаза его закрылись; я сидел у изголовья и держал его руку в своей. Сначала я еще ощущал, что он пытается пожать ее; потом движения его сделались все слабее, пальцы разжались. Брат Павел испустил дух.
Я продолжал сидеть возле него, все еще держа его похолодевшую руку, как вдруг стон, донесшийся с соседней кровати, вывел меня из забытья. Там лежал старый монах, тот самый, с кем я вел долгий разговор в ночь накануне чуда, в которое я все еще твердо верил.
Я успел заметить, что у человека этого очень мягкий характер, что он приветлив и обходителен с другими. Очевидно, качества эти у мужчин всегда сочетаются с крайней вялостью ума и холодностью души. (У женщин все это бывает иначе, но весь мой жизненный опыт неизменно убеждал меня, что когда в характере мужчины обнаруживаются черты женской мягкости и уступчивости, то за этим следуют предательство, вероломство и бессердечие). И во всяком случае, если такие качества налицо, то монастырская жизнь особенно способствует тому, чтобы человек еще более ослабел душевно при том, что видом своим и манерами он будет располагать к себе окружающих. Когда человек делает вид, что он хочет помочь другим, а в действительности у него нет для этого ни сил, ни даже настоящего желания, то он тешит этим и свои собственные слабости, и еще большие слабости тех, на кого он направляет свое внимание. Монах, о котором идет речь, всегда считался человеком очень слабохарактерным, и вместе с тем в нем было какое-то особое обаяние. Его постоянно использовали для того, чтобы завлекать в монастырь новых послушников. Теперь он умирал; подавленный тяжелым состоянием, в котором он находился, я ни о чем не думал, кроме тех мер, которые надлежало немедленно принять, и я спросил его, чем я могу ему помочь, готовый сделать все, что было в моих силах.
– Мне ничего не надо, я хочу только умереть, – ответил он.
Лицо его оставалось совершенно спокойным, но в этом спокойствии было не столько смирения, сколько безразличия.
– Значит, вы совершенно уверены, что вы уже на пути к вечному блаженству?
– Я ничего об этом не знаю.
– Как же это, брат мой? Может ли быть, чтобы умирающий произносил такие слова?
– Да, если он говорит правду.
– Но если он монах… если он католик?
– Все это пустые слова. Сейчас я, во всяком случае, ощущаю в себе эту правду.
– Вы меня поражаете.
– Мне уже все равно… Я стою на краю пропасти… должен кинуться вниз, и совершенно неважно, подымут ли при этом крик люди, которые это увидят.
– Но ведь вы же выразили желание умереть?
– Желание! Скажите лучше, нетерпение! Я только маятник, который шестьдесят лет кряду отбивал одни и те же часы и минуты. Не пора ли этому механизму захотеть, чтобы его завели? Жизнь моя до того однообразна, что всякий переход, даже к страданию, может быть только благом. Словом, я устал и мне хочется перемены.
– Но ведь и я, и вся монастырская община уверены, что вы сделались монахом по призванию.
– Все, что вам казалось, было обманом… Я жил обманом… Я весь был обман. В мой смертный час я прошу прощения за то, что говорю правду… Думаю, что теперь никто не может мне отказать в этом праве или опровергнуть мои слова… Монашество было мне ненавистно. Заставьте человека страдать – и силы его проснутся, обреките его на безумие – и он впадет в оцепенение, подобно тем живым существам, которых мы находим теперь в дереве или камне застывшими и успокоенными; но осудите его одновременно и на страдание, и на бездействие, как то бывает в монастырях, – и он испытает и муки преисподней, и муки распада перед небытием. В течение шестидесяти лет я непрестанно проклинал свою жизнь. Ни разу не был я окрылен надеждой: мне ничего не оставалось делать и нечего было ждать. Ни разу не ложился я спать умиротворенный, ибо в конце каждого дня наместо благочестивых молитв я мог только перебирать в памяти намеренно учиненные за этот день святотатства. С тех пор как жизнь твоя перестает подчиняться твоей собственной воле и подпадает под влияние некой механической силы, она становится для мыслящего существа нестерпимою мукой.
Я никогда ничего не ел с аппетитом, ибо знал, что, хочу я есть или нет, я все равно обязан являться в трапезную, как только зазвонит колокол. Я никогда не мог лечь спать спокойно, ибо знал, что тот же колокол призовет меня снова, не посчитавшись с тем, нуждается ли мой организм в продлении или сокращении отдыха. Я никогда по-настоящему не молился, ибо молиться стало моей обязанностью. Я отвык надеяться, ибо возлагать надежды мне всегда приходилось не на Господнюю правду, а на обещания людей и жить в вечном страхе перед ними. Спасение мое зависело от жизни такого же слабого существа, каким я был сам, и мне, однако, приходилось вынашивать в себе эту слабость и добиваться, чтобы луч благодати Господней хоть на миг блеснул мне сквозь жуткую тьму человеческих пороков. Я так и не узрел его – я умираю без света, без надежды, без веры, без утешения.
Слова эти он произнес совершенно равнодушно, и равнодушие его было страшнее, чем самые дикие корчи, в которые повергает человека отчаяние.
– Но послушайте, брат мой, – сказал я, едва переводя дыхание, – вы же всегда были очень точны в исполнении монастырских правил.
– Это было всего-навсего привычкой – поверь словам умирающего.
– Но, помните, вы же ведь очень долго убеждали меня стать монахом; настойчивость ваша была, очевидно, искренней, это ведь было уже после того, как я принял обет.
– Вполне естественно, что человеку несчастному хочется иметь товарищей по несчастью. Ты скажешь, что это крайний эгоизм, что это мизантропия, но вместе с тем это очень естественно. Тебе ведь приходилось видеть в кельях клетки с птицами. Пользуются же люди прирученными птицами для того, чтобы заманивать диких? Мы были птицами в клетках, вправе ли ты осуждать нас за этот обман?
Я не мог не услышать в словах этих той циничной откровенности глубоко порочных людей[30], того страшного паралича души, который лишает ее возможности что-либо воспринять или на кого-либо воздействовать; душа тогда как бы говорит своему обвинителю: «Подойди, сопротивляйся, спорь – я вызываю тебя. Совесть моя мертва, она не способна ни выслушать, ни высказать, ни повторить упрека».
Все это поразило меня, я пытался себя переубедить.
– Ну а как же тогда объяснить, – сказал я, – что вы так неукоснительно исполняли все монастырские правила?
– А ты что, разве никогда не слышал, как звонит колокол?
– Но ведь ваш голос всегда был самым громким, самым отчетливым в хоре.
– А ты разве никогда не слыхал, как играет орган?..
* * *Я вздрогнул, однако продолжал расспрашивать его, я считал, что, сколько бы я от него ни узнал, этого все равно будет мало.
– Но скажите, брат мой, ведь молитвы которым вы непрестанно предавались, должны же были привести вас к тому, что вы незаметно прониклись их духом, не правда ли? Через внешние формы вы должны были в конце концов приобщиться и к самой сути вероучения? Не так ли, брат мой? Скажите мне перед смертью всю правду. Как бы я хотел обрести эту надежду! Я готов претерпеть все что угодно, лишь бы она пришла ко мне.
– Такой надежды нет и не будет, – сказал умирающий, – не обольщайся. Если человек непрестанно исполняет все религиозные обряды, а сам не проникнут духом пресвятой веры, сердце его безнадежно черствеет. Нет людей более чуждых религии, нежели те, кто постоянно занят соблюдением ее форм. Я твердо убежден, что добрая половина нашей братии сущие атеисты. Мне довелось кое-что слышать о тех, кого принято называть еретиками, и читать то, что они пишут. Среди прихожан наших есть люди, которые ведают местами в церквах (ты скажешь, что это страшное святотатство – торговать местами в храме Господнем, и ты будешь прав), у них есть люди, которые звонят в колокол, когда надо бывает хоронить их покойников, и единственное, чем эти несчастные проявляют свою веру, – они следят, пока идет месса (принимать в ней участие они не могут), за взиманием платы и, падая на колени, возглашают имена Христа и господа бога и одновременно прислушиваются к тому, как хлопают двери, ведущие к привилегированным местам, ибо не могут отрешиться от суетных мыслей, и всякий раз вскакивают с колен, чтобы и им досталась хоть малая толика того серебра, за которое Иуда предал Спасителя и себя самого. Ну а их звонари – можно подумать, что соприкосновение со смертью делает их человечнее. Как бы не так! Могильщики, например, получают тем большую плату, чем глубже вырытая могила. И вот звонарь-могильщик и все остальные затевают иногда настоящую драку над бездыханным телом, которое самой недвижностью и немотой своей являет им грозный упрек за эту калечащую человека корысть.
Я ничего этого не знал, но последние его слова смутили меня.
– Так, выходит, вы умираете без надежды и веры?
Ответом мне было молчание.
– Но ведь вы же сумели убедить меня своим красноречием, которое казалось ниспосланным свыше, чудом, которое я увидел собственными глазами.
Он рассмеялся. В смехе умирающего есть всегда что-то очень страшное: находясь на грани земного и загробного мира, он как будто лжет и тому, и другому и утверждает, что и радости, которые несет нам первый, и надежды, которые сулит второй, не более чем обман.
– Чудо это сотворил я, – ответил он с невозмутимым спокойствием и, увы, даже с тем торжеством, которое бывает у заядлых мошенников. – Я знал, из какого водоема туда поступает вода; с согласия настоятеля мы за ночь выкачали его весь. Пришлось как следует поработать, и чем больше мы трудились, тем больше потешались над твоим легковерием.
– Но ведь дерево…
– Я знал кое-какие секреты из области химии, сейчас у меня уже нет времени их тебе раскрывать – ночью я обрызгал листья тополя определенным составом, и наутро у них был такой вид, будто они увяли. Сходи посмотри на это дерево недели через две, и ты увидишь, что оно опять такое же зеленое, каким было.
– И это ваши предсмертные слова?
– Да.
– А зачем же вы меня так обманули?
Он на какое-то мгновение задумался, а потом, собрав все силы и приподнявшись на кровати, воскликнул:
– Потому что я был монахом. Мне нужен был этот обман, чтобы завлекать новые жертвы и удовлетворить мою гордость! Нужны были мне и товарищи по несчастью, чтобы облегчить его тяжесть!
Говоря это, он весь содрогался, вместо привычной кротости и спокойствия на лице его появилось выражение, которое я даже не могу описать, – что-то насмешливое, торжествующее и – дьявольское. В эту страшную минуту я все ему простил. Я схватил распятие, лежавшее у его изголовья, и поднес его к губам умирающего. Он оттолкнул его.
– Если бы я захотел, чтобы со мной разыграли этот фарс, я выбрал бы для него другого актера. Знаешь, стоило мне только захотеть, и сам настоятель и половина всего монастыря явились бы сейчас к моему изголовью со своими свечами, со святой водой, с мирницей для последнего помазания и всем предсмертным маскарадом, которым они пытаются обмануть даже умирающего и оскорбить Господа даже у врат его вечного царства. Я потому и согласился, чтобы ты ухаживал за мной, что знал, какое отвращение ты питаешь к монастырской жизни, и думал, что тебе, может быть, захочется узнать о том, сколько в ней обмана и до какого отчаяния она может довести человека.
Какой эта жизнь ни казалась мне постыдной, ужасы, о которых я услыхал сейчас из уст умирающего монаха, превзошли все то, что рисовало мне мое воображение. Я представлял себе, что она начисто исключает земные радости и даже лишает надежд на них; но теперь речь шла о другой чаше весов, об ином мире – и там тоже была пустота. Можно было подумать, что иезуиты держат в руках обоюдоострый меч и, став между временным и вечным, направляют его против того и другого. На одном лезвии, обращенном в сторону мира бренного, было, как видно, начертано слово «страдай», а на другом, обращенном к вечности, – «не надейся». Потеряв в душе всякую надежду, я все еще продолжал допытываться у него, как мне ее обрести, – у него! А ведь он лишал меня даже тени надежды каждым произнесенным словом.
– Так неужели же все должно погрузиться в эту бездну мрака? Неужели для того, кто страдает, нет ни света, ни надежды, ни утешения? Неужели кому-то из нас не дано примириться с нашей долей, – сначала стерпеть ее, а потом ее полюбить? И наконец, если уж отвращение наше так неодолимо, то не можем ли мы поставить ее себе в заслугу перед богом и принести ему в жертву все наши земные желания и надежды, уповая на то, что он воздаст нам за все сторицей? Даже если мы не можем принести эту жертву с тем благоговением, которое явилось бы залогом того, что Господь ее примет, то неужели нам не дано надеяться, что он все же начисто ее не отвергнет? Неужели мы не можем быть если не счастливы, то хотя бы спокойны; не можем если не удовлетвориться ею, то хотя бы смириться? Говорите же, скажите, возможно ли это?
– Ты хочешь, чтобы уста умирающего исторгли слова обмана, – этого ты не добьешься. Узнай же, что тебя ждет. Люди, обладающие тем, что можно назвать склонностью к религии, иными словами, визионеры, аскеты, люди слабые и угрюмые, творя молитвы, могут возвысить себя до своего рода опьянения. Когда они обнимают мраморные изваяния, им может показаться, что холодный камень затрепетал от прикосновения их руки, что в недвижных фигурах пробуждается жизнь, что они внимают их мольбам, что они оборачиваются к молящимся и в их безжизненных глазах светится милосердие. Когда они целуют распятие, им могут послышаться небесные голоса, изрекающие слова прощения; им может почудиться, что Спаситель принимает их в свои объятия и зовет их вкусить вечное блаженство; что небеса разверзаются у них на глазах и что звучат райские гармонии, прославляющие их торжество. Но это не что иное, как самое обыкновенное опьянение, и самый заурядный врач знает, какими снадобьями можно вызвать это состояние у пациента. Секрет этого самозабвенного экстаза узнается в аптеке, и его можно приобрести по более сходной цене. Жители Северной Европы вызывают в себе такой экстаз, прибегая к спирту, турки – к опиуму, дервиши – к пляске, а христианские монахи – к исступленности духа, действующей на изможденную плоть. Все это – опьянение, разница заключается только в том, что в мирянах подобное опьянение всегда вызывает довольство собой, тогда как монахи – люди другого мира, – испытывая подобное же удовольствие, считают, что оно исходит от бога. Вот почему в последнем случае опьянение бывает более глубоким, обманным и опасным. Однако природа, которую такого рода излишества неизбежно насилуют, взымает поистине ростовщические проценты за все, что у нее незаконно отняли. Она заставляет расплачиваться за минуты восторга часами отчаяния. Переход от экстаза к ужасу совершается почти внезапно. За какие-нибудь несколько мгновений избранники небес превращаются в изгоев. Они начинают сомневаться в истинности испытанных ими восторгов – в истинности своего призвания. Они сомневаются во всем: в искренности своих молитв, в действенности искупления грехов, которое дарует Спаситель, и в заступничестве Пресвятой Девы. Из рая они низвергаются в ад. Они начинают кричать, испускать дикие вопли, богохульствовать. Со дна преисподней, куда, как им кажется, их столкнули, они разражаются бранью, поносят Творца, ревут, что их прокляли навеки за их грехи, в то время как единственный их грех – это неспособность вынести чрезмерное возбуждение. Как только припадок этот кончается, они снова мнят себя избранниками Господними. Людям же, которые начинают расспрашивать их по поводу недавно пережитого ими отчаяния, они отвечают, что попали под власть Сатаны, что Господь оставил их, и т. п. Все святые, начиная с Магомета и кончая Франциском Ксаверием, были всего-навсего сплавом безумия, гордости и самообмана; последний не имел бы, может быть, таких тягостных последствий, но людям свойственно мстить за то, что они обманывали себя, тем, что они с особенным рвением начинают обманывать других.
Что может быть ужаснее того состояния души, когда сознание собственной греховности вынуждает нас хотеть, чтобы каждое слово оказалось ложью, и вместе с тем мы знаем, что каждое слово – сущая правда? Именно в таком состоянии я пребывал тогда, но я пытался смягчить его, говоря себе: «Положим, я никогда не стремился сделаться святым, но неужели же участь всех так плачевна?»
Монах, который, казалось, радовался случаю излить всю свою злобу, скопившуюся за шестьдесят лет страдания и лицемерия, напрягал как только мог свой уже слабеющий голос для того, чтобы мне ответить. Можно было подумать, что все то зло, которое он будет в силах излить на другого, никогда не сравняется с тем, которое пришлось вытерпеть ему самому.
– Люди очень чувствительные и восприимчивые, – говорил он, – но лишенные веры – несчастнейшие из всех, но их страдания раньше всего приходят к концу. Их изводит повседневное принуждение, угнетает однообразие молитв; их ввергают в отчаяние тупая наглость и чванливое самодовольство. Они борются, они противятся злу. На них накладывают покаяния, их наказывают. Их собственная строптивость служит оправданием жестокого обращения с ними. Впрочем, даже если бы не было этого оправдания, с ними все равно обращались бы жестоко, ибо ничто не дает такой услады людям, гордящимся своей властью над другими, как победа над теми, кто по праву может гордиться умом. Остальное ты легко можешь себе представить, ибо сам был многому очевидцем. Ты видел несчастного юношу, который заступился за брата Павла. Его так избили, что он сошел с ума. Доведенный сначала до безумия, потом до полного отупения, он умер! Я был тайным советчиком в этом деле, причем все было обставлено так, что меня ни в чем нельзя было заподозрить.
– Чудовище! – вскричал я.
Истина теперь сравняла нас, и, больше того, она даже лишила меня возможности говорить с ним с той мягкостью, какую человеческие чувства предписывают нам по отношению к умирающему.
– Почему? – спросил он с тем спокойствием, которое в свое время расположило меня к нему, а теперь возмущало, но без которого нельзя было представить себе его лица, – это ведь сократило его страдания, так неужели ты станешь осуждать меня за то, что я не продлил их?



