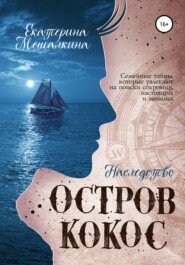
Полная версия:
Остров Кокос. Наследство
Я посмотрел на Джека. А он пожал плечами.
– А вы думали, откуда в трюме столько мертвецов?
– Там внутри мертвые люди? – ахнула Эмили.
– Просто старые кости.
– Но как этот галеон сюда попал?
– Я думаю, чума, или еще какая хворь, скосила весь экипаж. А галеон, будучи неуправляемым, носился по морю, пока его штормом не выбросило сюда.
Мария попятилась.
– Несчастные люди, – сказала Эмили. – Их вырвали из родных мест обитания, чтобы они умерли такой страшной смертью.
– Их жизнь была бы немногим лучше.
– Работорговля – это просто отвратительно, – сказал я. – Охотиться на людей как на зверей, а затем продавать их на рынках, будто овец, оправдывая это тем, что у них более темная кожа. Просто поразительно, как все просвещенное общество считает это приемлемым.
– Да, – усмехнулся Джек, – кости-то у них такие же белые как у нас, можете убедиться в этом.
Эмили бросила на него гневный взгляд, а Джек как ни в чем ни бывало продолжал:
– Да и немало наших белых собратьев трудится на плантациях, словно негры.
– Вы говорите о преступниках и должниках, отправленных на плантации, чтобы трудом искупить свою вину или отработать долг?
– О да, мадам. Ведь и они тоже люди. Но считаются с ними не более, чем с теми овцами, с которыми сравнил рабов ваш муж. К тому же срок их работы конечен, а значит, хозяин из него выжмет все, что сможет. Да, эти люди оступились, но и те, что в трюме, не все поголовно агнцы божии.
По лицу Эмили, я понял, что она не согласна с Джеком, но не стала далее спорить с ним. Она повернулась ко мне.
– Не могли бы мы предать земле по христианскому обычаю останки этих людей?
– Эти люди не следовали христианским обычаям, мадам, – снова вмешался Джек. – Я думаю, им бы не понравились ваши похороны. Не стоит тратить на это силы и время, они нам могут пригодиться для другого.
– Джек прав, Эмили.
– Зачем же вы привели нас сюда?
– Я звал сюда лишь вашего мужа. Но… здесь не так уж много развлечений, думал, вам будет интересно.
Она наградила его еще одним гневным взглядом.
– Вы были необыкновенно любезны, когда поначалу решили не разговаривать с нами. Почему вы изменили этому решению?
Он философски пожал плечами и повторил:
– Здесь не так уж много развлечений… это ведь ваши слова.
Эмили возмущенно посмотрела на меня, но меня их перепалка только позабавила.
– Эмили, дорогая, мистер Джек просто шутит. Нас ведь здесь всего четверо, будет правильно, если мы станем держаться вместе.
– При этом нам вовсе необязательно вести светские беседы, – бросила она и, развернувшись, зашагала обратно. Мария засеменила следом.
– Ваша гордая женушка не покалечится одна на тех камнях?
Я покачал головой.
– Мария ей поможет.
– Да. Мария – умница. Надеюсь, она поможет и мне. И хорошо бы, прямо сегодня.
А ведь Эмили права. Я с тоской вспоминал те времена, когда Джек не разговаривал с нами.
VI
Хотя я и выразил мнение, что всем нам надо держаться вместе, а остальные с этим согласились, в тот вечер я остался один. Эмили пребывала в дурном расположении духа. Возможно, обижена тем, что я не поддержал ее в споре с Джеком. А сам Джек куда-то пропал вместе с Марией. Так и не сумев разговорить жену – на вопросы она отвечала односложно и не делала никаких попыток поддержать беседу – я решил оставить ее и в одиночестве бродил по берегу.
Буря давно умчалась куда-то на юг, и море успокоилось и размеренно накатывалось на берег. Джунгли дышали мне в спину накопленным за день теплом, от воды веяло прохладой. Отовсюду доносились запахи цветов и щебетание птиц. Просто райское место, но я бы все отдал, чтобы оказаться в многолюдном сером городе на берегу зловонной реки.
Я никогда не был в Лондоне и вообще в Англии. Мои отец и мать были родом оттуда, но сам я родился и всю жизнь прожил в Вест-Индии. Теперь же волею судьбы я стал наследником людей, которых никогда не видел, и получил в собственность место, в котором никогда не бывал. И я должен был всеми силами стремиться туда. Ради Эмили.
Я резко остановился, когда понял, что не один на берегу. Кажется, я нашел Марию и Джека. Более того, застал их в разгар одного из тех самых «свиданий», о которых говорил Джек. «Нежная и ласковая, но не дается», – вспомнил я его слова. Что, если у нее на это есть причины? Что, если она и не собирается «даваться» ему? Что, если Джек попытается силой получить свое, хотя и уверял меня в обратном?
Какое-то время я колебался. Должен ли я буду вступиться за нее, как порядочный человек? Что это? Помощь даме в трудную минуту или вмешательство в ее личные дела? Особенно если учесть, что между ними уже было. Кажется, Мария не возражала против того обращения, что оказывал ей Джек.
Я решил уйти, пока меня не заметили, но сделав лишь несколько шагов, услышал невнятные глухие крики Джека, потом звук пощечины, а затем уже вполне отчетливые грязные ругательства.
Я бросился обратно и остановился ошеломленный. Мария лежала на песке, прижав ладонь к щеке, и испуганно смотрела на Джека. Тот был в бешенстве. Он замахнулся кулаком и бросился к Марии, но я уже сбросил оцепенение и оттолкнул его.
– Какого черта ты творишь, Джек? Ты собираешься ударить женщину? Немую? Держи себя в руках! Что бы между вами не произошло, ты не имеешь права…
– Женщину. Немую, – эхом повторил Джек. Он побелел от ярости. – Да ты хоть понимаешь?..
Я выглянул из-за его плеча и увидел, что Мария уже поднялась на ноги и стоит, съежившись и охватив себя руками, за спиной своего обидчика и, не отрываясь, с ужасом смотрит на меня.
– Что произошло?
– Ничего! – Джек сплюнул мне под ноги. – Я вылил ром! Черт, я вылил весь ром!
Он яростно пнул песок, и тот, подхваченный ветром, разлетелся по берегу.
– Ты вылил ром?
– Ты туго соображаешь, да? – гаркнул Джек. Мария за его спиной вздрогнула всем телом. – Я решил завязать со всем этим! Домик, лодка, не помнишь?.. – он махнул рукой с отчаянием. – Дрянь!
И бросился назад к хижине. Я смотрел ему вслед, ничего не понимая. Что могло его так разозлить?
– Мария, что случилось?
Ее брови задрались, лицо скуксилось, казалось еще чуть-чуть, и она заплачет, но я так и не услышал ни звука.
«Ах, ну да, – с досадой сказал я себе. – О чем же я?»
Солнце садилось. Ветер дул с моря, и мне показалось, что до меня донесся какой-то звук.
– Идем в дом, – сказал я немой.
Мария чуть помедлила, но все же повиновалась. По дороге я обогнал ее и заглянул в хижину. Джек был там. Он лежал на своей постели, повернувшись к стене и обхватив голову руками. Я не знал, что мне делать с этим, и тихонько вышел наружу. Эмили сидела на «скамеечке у дома». Я опустился рядом и обнял ее за плечи.
– Что случилось? – спросила она, и я понял, что она больше не злится на меня. – Джек прибежал, будто за ним гнался рой диких ос.
Если бы я знал. Мне казалось, что мы вернулись в исходную точку, и Джек опять перестанет разговаривать с нами. Только теперь он не станет говорить еще и с Марией. От нее мы тоже ничего не добьемся. Едва протянувшаяся нить человеческих взаимоотношений между нами скоропостижно прервалась. Мы договорились держаться вместе, но сейчас у меня то и дело закрадывалась мысль, что не лучше ли Джеку переселиться из нашего Цветочного Горшка куда-нибудь дальше по берегу, а лучше на другую сторону острова. Это было жестоко по отношению к нему, но я должен думать о жене. И о Марии тоже. К тому же наше общество, очевидно, не доставляет ему удовольствия, так почему бы ему не покинуть нас.
Я решил, что поговорю с ним завтра, и, если он не будет вести себя подобающим образом, настою на том, чтобы разделиться. Это было сложное решение для меня. Так я думал тогда. На самом деле все было куда сложнее, просто я не знал всех обстоятельств, но пребывать в блаженном неведении мне оставались считанные минуты.
Мария подошла к нам медленно и нерешительно и остановилась напротив. Нас разделял маленький костер, которым мы по вечерам освещали наш двор и сад, и пытались хоть как-то защититься от назойливых насекомых.
– Нам нужно поговорить, – услышал я не понятно откуда хриплый низкий голос.
Эмили оказалась сообразительнее меня.
– Мария, ты говоришь? – воскликнула она, поднимаясь.
Но тут я тоже кое-что сообразил.
– Никакая это не Мария, Эмили!
Я схватил жену за плечи и попытался задвинуть за себя. Но она не унималась, рвалась к заговорившей вдруг «немой». Пока «Мария» не подняла руку и не стянула с головы повязку. Выражение ее лица так изменилось в этот момент, что это развеяло все оставшиеся сомнения. Эмили сразу замерла, успокоилась и сама отступила назад, ко мне.
– Я должен, прежде всего, просить прощения за этот маскарад, – сказала «Мария» сиплым от долгого молчания мужским голосом.
Мы молчали. Руками, все еще держащими Эмили за плечи, я чувствовал ее напряжение.
– Меня зовут Игнасио Мария Хосе Мартинес. Я могу говорить, у меня имеются оба глаза.… И я не женщина. И уж точно не камеристка.
– Я успел заметить это, – сказал я спокойно. Я еще не понял, как мне относиться ко всему этому. А вот Эмили уже составила свое мнение.
– Ты мужчина! – холодным, дрожащим от сдерживаемой ярости голосом сказала она. – Ты помогал мне одеваться. Ты…
Она замолчала, и я почувствовал мелкую дрожь, сотрясающую ее тело.
– Простите меня, – сказал Мартинес. – Я старался не смотреть на вас. К тому же, – он замялся, опустил глаза, а потом уставился на меня спокойно, и как будто бы даже с вызовом, – женское тело меня не привлекает.
От его спокойствия во мне вдруг вскипело бешенство. Я подскочил к Мартинесу и ударил его кулаком в челюсть. Удар вышел неловким. Мартинес отступил на несколько шагов, голова мотнулась назад, но он устоял.
– Томас, пожалуйста, перестань! – сказала Эмили со слезами в голосе.
– Что ж, наверное, я это заслужил, – сказал Игнасио, потирая челюсть.
– Наверное? – взвился я.
– Перестань, – повторила Эмили. – Это все неважно. Все, что я сказала, неважно. Ты пожалеешь, если поддашься гневу.
Она выразительно посмотрела на меня, и руки мои сами собой опустились. Мартинес смотрел на нас выжидающе. А мне хотелось лишь подойти и ударить его еще раз, а потом еще и еще, пока лицо его не превратится в кровавое месиво. Наверное, мое лицо выдавало все овладевшие мною чувства, потому что Игнасио нахмурился, отступил, оглядел нас в последний раз и решительно направился прочь из Горшка. Я хмуро проводил его взглядом.
Сумерки упали на остров, будто кто-то набросил покрывало на солнце, и оно сразу потухло.
Я и Эмили стояли друг напротив друга в густеющей тьме и молчали, а потом я глубоко вздохнул и услышал, как отбили шесть склянок.
VII
Судно мы увидели на рассвете. Это была двухмачтовая марсельная шхуна.
Джек, казалось, и думать забыл о своем горе, едва услышал рынду. Он всю ночь просидел с нами на берегу, также как и мы, бессмысленно таращась в темноту. Он деловито суетился, собирая вновь наш разбросанный штормом сигнальный костер, зажигая его и следя затем, чтобы он не погас, а поутру притащил из хижины подзорную трубу.
– На палубе суета, – сказал он. – Кажется, собираются высаживаться на берег.
Он помолчал.
– Где Мартинес?
Я украдкой глянул на него. Несомненно, он слышал все, что происходило вчера возле хижины. Слышал, но не вмешивался. Наверное, так было лучше.
– Он не возвращался.
– Мы ведь можем уплыть и оставить его здесь, – хмыкнул Джек.
– Мы не станем этого делать, – твердо сказал я.
– Это шутка.
Я взглянул на него с неприязнью и отправился по следам бывшей камеристки. Мартинес нашелся на соседнем пляже: сидел на камне и смотрел на разбитый галеон. Он подобрался, когда увидел меня, но не встал и не сделал попытки уйти, а просто сидел и таращился на меня, будто ждал, что я брошусь его бить, и готовился убежать при первых признаках опасности.
Теперь я увидел, что глаза у бывшей Марии разные: один карий, а второй, ранее скрытый повязкой – голубой. Выглядело это довольно странно. Мартинес досадливо поморщился, заметив мое внимание к своим глазам. На нем по-прежнему было выглядящее теперь еще более нелепым светло-голубое платье.
Боже мой! Как я вообще мог принять его за женщину? Какова сила предубеждения, что я был настолько слеп? Мне сказали, что это женщина, я был уверен, что это женщина, и не замечал очевидного. Его руки, его плечи… он наконец снял свой шейный платок, который всегда меня раздражал. Видно и ему он тоже надоел.
– Там, в бухте, судно, – сказал я. – Может быть, мы сможем вернуться домой. Идем назад. Я не трону тебя. И Джек.
Я развернулся и пошел обратно. На полпути не удержался и оглянулся: Игнасио понуро следовал за мной.
Джек и Эмили встретили его одинаковыми взглядами, какими смотрят на змею, заползшую в постель.
Мартинес не стал подходить к ним слишком близко. Особенно он опасался Джека.
– Нам надо поговорить, – сказал он. – Я хотел бы все объяснить.
Эмили отвернулась. Во мне нарастало глухое раздражение, и я боялся, что вновь поддамся гневу.
– Зачем? – спросил я. – Какая теперь разница? Там судно. Я надеюсь, оно заберет нас отсюда, мы доберемся до большой земли и больше никогда не увидимся.
– Пожалуйста, мистер Томас, – взмолился Мартинес. Он посмотрел на Джека и похоже хотел обратиться и к нему, но встретив мрачный взгляд из-под нахмуренных бровей, передумал. – Позвольте мне объяснить.
– Тебе не кажется, что ты должен сначала объясниться со мной Игнасио Мария Хосе и дальше как тебя там?
Игнасио опустил голову.
– Ты все поймешь, когда я расскажу.
– Черта с два я стану тебя слушать!
Игнасио вздрогнул.
– Меня не волнует, зачем ты устроил этот маскарад. Мне интересно, какого дьявола ты пудрила мне мозги, Мария? Ты хоть понимаешь, что наделал, ублюдок?!
– Я люблю тебя, – сказал вдруг Игнасио, поднимая голову.
Кровь бросилась Джеку в лицо, глаза налились бешенством.
– Заткнись! – рявкнул он. Игнасио, открывший было рот, тут же захлопнул его.
Я посмотрел в трубу – на шхуне спускали шлюпки – и повернулся к Мартинесу.
– У тебя есть время, пока они не добрались до берега.
Игнасио кивнул.
– Большего мне и не нужно.
Сначала он долго молчал, будто собираясь с силами, и нервно теребил края рукавов платья, которые и без того уже давно превратились в бахрому, и быстро переводил взгляд с Джека на меня и обратно. Потом он шумно сглотнул, кадык на тощей шее заметно дернулся – я с отвращением поморщился – сухо кашлянул и сказал глухим монотонным голосом:
– Я родился и вырос в городе, трижды проклятом Богом…
VIII
Порт-Ройал был проклят Богом. Так всегда говорила тетя Джейн. Работорговля, пиратство, безбожие, пьянство и разврат – вот лишь небольшой список грехов, которые она вменяла в вину всему городу, будто он был одним человеком. Она ненавидела Порт-Ройал, остров и всю Вест-Индию, но у нее и в мыслях не было уехать оттуда. И, надо сказать, ей жилось весьма неплохо в доме своего деверя.
Мой отец, испанец, женившийся на англичанке, и поселившийся в английской колонии, разбогател на том, что вы назвали бы отвратительным. Мы были одной из тех внешне респектабельных семей, благополучие которых достигнуто отнюдь не респектабельными делами. Мы жили в большом доме, выезжали на карете четверней, а меня воспитывал английский гувернер. Я имел все, что только могу пожелать, и вел себя высокомерно и важно, когда бегал по улице с другими мальчишками – детьми рыбаков или шлюх.
Мой отец, женившись, для публики стал совершенно англичанином, однако дома со мной он говорил исключительно на испанском, гувернер называл меня не иначе, как сеньором Мартинесом, а мать – Начо, и мы даже сначала посещали католическую церковь, хотя и деда, отца моей матери, и тетю Джейн, ее сестру, протестантку до мозга костей, ужасала одна эта мысль.
Как бы там ни было, как ни старался мой отец, англичане считали нас за испанцев, соседи смотрели косо.
Но то были мелочи, не стоящие моего внимания. Я видел себя, по меньшей мере, сыном герцога и радовался жизни.
Пока 7 июня 1692 года в городе не разверзлись врата ада. И ад в числе сотен грешников не пожрал моего отца.
Незадолго до этого мне исполнилось восемь лет. Утром от берегов Африки прибыл корабль отца, и он тут же умчался по делам. Мы же с матерью, тетей Джейн и мистером Робинсоном, моим гувернером, прогуливались по набережной. Было необычайно знойно и душно, даже для этих мест. В какой-то момент я почувствовал, как на город опустилась мертвая тишина. Ни единое дуновение ветра не касалось моей кожи, не единой птицы не показалось в небе, цикады замолчали в траве, а море стало гладким, как зеркало. На мгновение я почувствовал себя оглохшим. И, несмотря на зной и духоту, мурашки побежали по моему телу. Что-то назревало, невидимая угроза висела в воздухе, уже готовая обрушиться на нас.
Сначала мы услышали глухой рокот далеко, в горах. Он нарастал и катился к нам, обретая неведомую мощь. Он стал оглушающим грохотом, и я почувствовал, как земля движется и качается под моими ногами. Небо покраснело, как раскаленная печь, а море вспенилось и выплеснулось на берег. Часть города сползла в море и исчезла, как будто ее никогда и не было. Та же участь постигла Форт Джеймс и Форт Карлайл. Земля вспучивалась, трескалась, и эти трещины проглатывали людей и целые дома. Другие дома рассыпались и превращались в кучи обломков. Мгновение назад стояла зловещая тишина, и вдруг я оказался среди грохота, треска, шипения, летящих камней и кипящей воды. Я увидел, как мистер Робинсон до подмышек провалился в разверзшуюся под его ногами трещину. Он цеплялся за камни мостовой и пытался выбраться, но в следующее мгновение вновь сомкнувшаяся земля раздавила нижнюю часть его тела.
Кто-то схватил меня за шиворот и потянул. Мы бежали прочь от берега, я видел только землю под ногами и что-то розовое, мелькающее справа. То были юбки моей матери. Я запыхался, падал, разбил оба колена, но чья-то рука поднимала и тащила меня дальше, и я, не в силах сопротивляться этой руке, бежал, хотя и не понимал, куда и зачем мы бежим. Разве можно сбежать от Гнева Божьего и ада разверзшегося под ногами и жаждущего принять тебя в свое чрево?
Потом на город обрушилось море и накрыло его. А когда оно ушло, все закончилось.
Это были ужасающе долгие минуты. Минуты, которые изменили все в моей жизни. Отец мой погиб, имущество поглотила земля и вода, корабль выбросило на берег, а дом пребывал на дне морском. Мы стали нищими в мгновенье ока.
Многие горожане ушли на другую сторону гавани и поселились в Кингстоне. Но мы остались в Порт-Ройале, в доме моего деда. У него была кузница, и нам удавалось свести концы с концами. Конечно, такая жизнь не шла ни в какое сравнение с прежней, но все-таки мы остались в живых и продолжали жить. Пока не пришла чума.
Улицы пестрели от крестов на дверях. Люди вымирали целыми семьями, родители хоронили детей, а дети плакали у мертвых тел своих родителей в осиротевших домах, и некому было прийти и вытереть их слезы.
Моя мать и ее мать заболели и умерли. Вместе с дедом и тетей Джейн я просидел в запертом доме сорок дней и тридцать девять из них я призывал чуму и смерть, чтобы они забрали и меня. Но мои мольбы остались неуслышанными. Смерть уже получила свое с моей семьи и больше не тронула никого.
Так мы остались втроем: тетя Джейн, я и дед. Он хотел обучить меня кузнечному ремеслу, но я учился неохотно и, как мог, отлынивал от работы. Потом он решил женить меня, но и к этому я, как вы понимаете, рвения не проявил. И вскоре он оставил меня в покое.
Я стал шляться по притонам, пил, играл, путался с женщинами. Каждая ночь оставляла меня пустым и раздавленным. Я не понимал, что мне нужно. Пил и играл еще больше, еще больше путался с женщинами и все сильнее чувствовал опустошение. Дед был прав. Каждому необходимо какое-то дело, но сожалеть о кузнице было поздно.
Тетя Джейн вступила в кружок из десятка дам. «Курятник», как называл их дед. Про меня она, казалось, совсем забыла, а деду было плевать на меня. Он ненавидел испанцев, терпеть не мог моего отца и ко мне проявлял лишь обязательное участие. А после смерти матери оборвалась последняя нить, связывающая нас. Он терпеливо сносил все мои похождения и с философской стойкостью ждал, когда же я, наконец, получу свое: попаду на виселицу или мне всадят нож под ребра в случайной пьяной потасовке.
Так продолжалось, пока я не связался с парнем из рыбацкой семьи. Однажды пьяным шатался по берегу и уснул в чьей-то лодке, а хозяин, шутки ради, не стал меня будить. Я проснулся посреди океана с незнакомым рыжим парнем в утлой лодчонке. Он скалился, глядя, как меня мутит от качки и вчерашней выпивки, как я ору и требую вернуть меня на берег, а потом огрел меня веслом, когда я слишком уж разошелся. Так мы и познакомились. Мне нравилась его семья, большая и шумная, хоть они и смотрели на меня косо. И бедный дом, в котором они жили, собирались за ужином, ссорились, рожали детей. И сам он тоже нравился. Но я старался не думать об этом, а просто делал все, чтобы быть рядом. И мы целыми днями пропадали в море. Я бросил пить и играть и понял, наконец, что мне нужно, пусть получить я этого и не мог… Он все время смеялся надо мной, над моей наивностью, неумелостью. Он вообще все время смеялся. И мне казался воплощением всего, что окружало меня с детства: рыжие волосы и веснушки и зеленые глаза – море и солнце…
Но, в конце концов, мой рыбак решил жениться, и я снова остался один.
В 1703 на Порт-Ройал обрушилась новая напасть – адское пламя, как утверждала моя набожная тетя Джейн. Мы в это время были в море и оттуда наблюдали за клубами черного дыма, который вздымался вверх, будто моля небеса пощадить этот проклятый город. Напрасно. Все сгорело. И кузница моего деда, и он сам. Тетя Джейн уцелела – в тот день она уехала в Кингстон со своим «курятником» совершать благие дела во славу божию – помогать сироткам, обчищающим карманы прохожих, наставлять шлюх на путь истинный….
После этого мы все-таки перебрались в Кингстон, а мой друг обзавелся женой и ребенком и больше мы не встречались.
На новом месте я вел вполне благопристойную жизнь и даже посещал собрания церковной общины вместе с тетей Джейн, которая окончательно помешалась и постоянно твердила о карах небесных, поразивших мою семью и весь город, погрязший в грехе, и все время молилась и меня призывала к тому же. Она вдруг стала паписткой, такой же ярой, как была до того протестанткой. Она была старой девой, прямой, как палка, и сухой, совсем не похожей на старшую сестру, мою мать, никогда не улыбалась, не сквернословила, смеяться было грешно, наслаждаться пищей, выпивкой, женщинами, мужчинами – тоже. Я тогда считал ее совершенно сумасшедшей, но больше у меня никого не было.
Моя жизнь в Кингстоне была отвратительно скучной и пресной. Я казался себе похожим на медузу – отвратительный безмозглый комок слизи, бездумно качающийся на волнах. Я видел их множество, когда мы выходили в море на рыбацкой лодке. Меня ничего не радовало, и тетя Джейн могла гордиться мной. Ничто не доставляло мне удовольствия.
Каждое воскресенье мы ходили в церковь. Обычно я не слушал проповеди, а просто сидел и думал о своем, уставившись в одну точку и не видя при этом ничего. В этот день я сосредоточил свой взгляд на белом воротнике священника. Но вдруг со мной что-то произошло, перед глазами прояснилось, будто кто-то провел влажной тряпкой по пыльному стеклу, и я, вдруг прозрев, увидел его.
Он был молод, непозволительно молод для священника и столь же непозволительно хорош собой. Я смотрел на него, будто увидев в первый раз, и не мог понять, как раньше этого не замечал. Наши взгляды встретились, и на мгновение он смешался, наверное, вид у меня был как у одержимого. Потом он продолжил говорить, лишь изредка посматривая на меня, слегка хмурился при этом, но речь его продолжала течь ровно и без запинок. Когда проповедь закончилась, я встал и, расталкивая прихожан, наступая всем на ноги и не дожидаясь тетю Джейн, выскочил на улицу.
Что со мной произошло? Я будто очнулся от долгого сна, и моя душа, стряхнув толстый слой пыли, возжелала вдруг былых страстей. Опасных, губительных страстей. К вечеру я одумался и попытался вернуть себя в прежнее состояние, но сердце вдруг начинало заполошно стучать, щеки горели огнем, и я не находил себе места. Я решил, что не пойду в церковь в следующее воскресенье, но был там одним из первых. И все последующие воскресенья тоже. Я никогда не слушал, что он говорит, но его глубокий голос заполнял меня всего и звучал, казалось, из моей утробы. В то, второе, воскресенье я окончательно пропал. Дело было даже не в том, что он казался мне поразительно красивым. Он был… правильным, не таким, как я. И потому недосягаемым. И я влюбился в эту правильность. Он стал моим наваждением, недостижимым, непорочным идеалом. По ночам я видел страшные, греховные сны, а наяву боялся даже прикоснуться к нему. Я готов был молиться ему, как Богу. Я разрывался между желаниями тела и восхищением своим идеалом.

