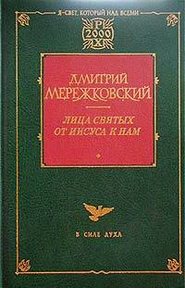 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Павел. Августин
Врач, смертельно заболевший и с неумолимою точностью наблюдающий за ходом болезни на собственном теле, чтобы сделать открытие, которое может спасти других от той же болезни, – вот кто такой Августин в этом страшном опыте зла.
Чтó, казалось бы, чище, белее души новорожденного младенца? Но и на этой белизне ангельской есть черная чумная точка – «первородный грех».
«Кто напомнит мне грехи младенчества моего?.. Чем я мог грешить тогда? Тем, что уже плакал (от жадности, „похоти чрева“), когда сосал грудь матери, и, если чего-нибудь хотел и мне не давали, – тоже плакал и сердился так, что готов был прибить отца и мать… Видел я однажды сам младенца… который, глядя на своего молочного брата, сосавшего грудь той же кормилицы, бледнел от зависти и ревности… Но если так, – если во грехе зачала меня матерь моя, то когда же, Господи, и где я был невинен?»[246]
Вот какие атомы, «бесконечно малые величины», души человеческой взвешивает Августин, первый из людей, на весах Господних, как химик на точнейшем приборе, чтобы найти «простое химическое тело» Зла – «первородный грех».
LXIX
«Похоть чрева» – у двухмесячного Адама, а у семидесятилетнего – «похоть сладострастия», libido.
«В памяти моей живут и доныне образы того, о чем я говорил так много (о сладострастной похоти): их запечатлела в памяти привычка, и хотя, наяву, они уже бессильны, но все еще во сне влекут меня к наслажденью и даже к согласью на него в действии, точно таком же, как наяву… И так силен их обман в теле моем и в душе, что он соблазняет меня к тому, к чему и сама действительность не могла бы соблазнить».[247]
Это – на пороге старости – святости, а судя по тому, что, переступив и за порог, не смеет он остаться наедине с родной сестрой-монахиней, вся его жизнь, от колыбели до могилы, – «сплошная похоть», libido sine ullo interstitio.
Первый, еще бессознательный опыт Зла – у грудного младенца, а второй, сознательный, – у шестнадцатилетнего мальчика, уже томящегося «похотью», около тех самых дней (совпадение времен не «случайное»), когда он смеется над крещением.[248]
«В городе Тагасте, по соседству с нашим виноградником, росло грушевое дерево, с плодами, не слишком приятными на вид и на вкус». Этот плодовый сад – Рай; это грушевое дерево – Древо познания добра и зла; этот шестнадцатилетний мальчик, Августин, – Адам.
«Помню, однажды, в глухую ночь, мы, шайка негодных мальчишек, продолжив игры наши нарочно до такого позднего времени, отправились в сад к этому дереву, чтобы потихоньку нарвать с него груш (украсть). И, сделав это, унесли их великое множество, но не для лакомства… потому что, едва отведав, бросили их свиньям, а для чего-то иного… Вот сердце мое, Господи, вот сердце мое… пусть скажет оно Тебе, чего искало в этом бескорыстном зле – зле ради зла». – «Гнусно было зло, но я его хотел; я любил себя губить, amavi perire; любил мой грех, – не то, ради чего я грешил, а самый грех. Гнусная душа моя низвергалась с неба Твоего, Господи, во тьму кромешную. Я хотел не чего-либо «стыдного, а самого стыда».[249]
Вот оно, «простое химическое тело» Зла – в чистейшем виде, «Первородный Грех» – восстание человека на Бога, «воля к превратности», perversitas, – «Зло ради зла».
«Ибо душа моя прелюбодействует, fornicatur, когда, отвращаясь от Тебя, Господи, ищет… того, что может найти только в Тебе. Но, как бы далеко ни уходила она от Тебя, – хочет она Тебе уподобиться… потому что некуда ей бежать от Тебя… Что же я тогда любил в воровстве моем?.. чем хотел уподобиться Тебе, хотя бы и превратно? Не тем ли, что мне было сладко преступать закон… и, будучи рабом, – казаться свободным… в темном подобии Всемогущества Божия, tenebrosa omnipotentiae similitudine?»[250]
Кажется, в религиозном опыте всего христианского человечества не будет ничего подобного этому, вплоть до «Демона превратности» Эдгара Поэ и «Записок из подполья» Достоевского.
И кто из людей, от первого человека, Адама, до последнего человека на земле, не узнает себя в этом?
LXX
С этим-то огненным оружием опыта и вступает Августин в борьбу с Пелагием, безопытным, безогненным, и одним прикосновением уничтожает его, испепеляет, как солому.
О, если бы увидели все, что Августин уничтожил Пелагия действительно. Но этого почти никто не увидел тогда и долго еще не увидят все, – может быть, до того дня, когда сказано будет жнецам Господином жатвы:
«Соберите плевелы (солому)… чтобы сжечь, а пшеницу уберите в житницу Мою» (Мт. 13, 30).
Кончен был спор Августина с Пелагием, но с самим собою не кончен, – бесконечен, opus imperfectum.
«В какие извилины мысли, circuitos… впутывает нас твой ответ!» – мог бы теперь сказать Августин самому себе, так же как говорил другому, тридцать лет назад, в споре о том же – о существе Зла. Сколько в самом деле новых «извилин», «лабиринтных ходов» мысли откроется перед ним в этом страшном опыте зла! «Я все искал, искал и не находил исхода».[251]
Здесь-то и начинается трагедия св. Августина, святого человека и грешного человечества, и только с тремя действующими лицами – Богом, Человеком и диаволом. Борется за Бога человек, защищает Бога от диавола. Нет ничего жалостней, чем эта борьба слабого за Сильного, мертвого за Живого, временного за Вечного, но и величественней нет ничего. Были и будут, вероятно, в воле и чувстве поединки и больше, чем этот; но в мысли, кажется, не было и не может быть большего.
LXXI
«Снова я спрашивал, rursum dicebam»… «Снова», – как тридцать, сорок, пятьдесят лет назад, и если бы прожил еще тридцать, сорок, пятьдесят лет, то спрашивал бы «снова» и «снова». В этих-то «вечных возвращениях», «повторениях», – главная мука – безысходность, бесконечность вопроса, как бы предвкушение вечных мук во времени. Каждое из этих бесчисленных «снова» – новый поворот, новая, все в том же Лабиринте, «извилина», circuitus: «я все искал, искал и не было исхода».
«Снова я спрашивал: не всеблаг ли Бог? Как же я могу желать зла и не желать добра?.. Не весь ли я создан Господом моим, сладчайшим; кто же насадил во мне это горькое семя? Если диавол, то откуда и он? Если злая воля сделала его из Ангела диаволом, то откуда она и в нем, создании Всеблагого?» Где же корень Зла? «В изволении или допущении Божием, Deo jubente aut sinente?»[252]
Или «зло не есть бытие, а лишь отрицание бытия», «постепенное лишение, убыль добра»? Если «творить» – значит «вызывать из небытия – из ничего», а зло и есть «небытие», то Бог не мог бы создать мира из ничего без зла?».[253] Не этим ли Бог и оправдан? Нет, еще не оправдан: если чего-то «не мог», то не всемогущ. Это во-первых, а во-вторых: не лучше ли было бы не создавать мира вовсе, чем создавать его таким, как этот мир, «лежащий во зле»? И, наконец, в-третьих: зло, хотя бы и «несущее», есть причина всех страданий, – всех смертей, не только всей твари, но и самого Сына Божия, Несотворенного. Можно ли ответить на кровавый пот Гефсимании, на стук молотка по крестным гвоздям: «этого нет; это из ничего почти ничто; это есть, как бы не есть, est non est?».
«Ясно для веры – темно для ума», – заключает Августин.[254] Нет, наоборот: для ума ясно – для веры темно.
LXXII
И кружится-кружится, путается «снова», в лабиринтных «извилинах» мысли, как сорок лет назад, когда боролся еще с манихейскою ложью.
Тот же Лабиринт, как тогда, но теперь как бы уже в мире ином. Стены того сплочены были из черной тьмы кромешной, а стены этого – из света ярчайшего, как бы из облачно-белой, невидимым солнцем пронизанной, мглы; но хуже той, черной, слепит эта белая тьма. Тогда заблудился во лжи, а теперь – в Истине, или во многих противоречивых истинах. В нищенских лохмотьях был тогда, как тот, встреченный на глухой улочке, «пьяный бродяга», а теперь – в святительских ризах. Шел тогда с пустыми руками, а теперь несет такое сокровище, которого весь мир не стоит, – чашу с Телом и Кровью: что, если споткнется в слепой белой тьме и Чашу уронит?
Да, много различий с тем, что было тогда, но есть и сходства: так же и теперь один, или еще больше; так же от людей далек, или еще дальше, – как мертвый от живых; так же страшно ему, или еще страшнее, потому что не знает – не хочет, не смеет узнать, где Лабиринт, – в глубине ли преисподней или в Небе небес, в Славе-Сиянии Неизреченном, где противоположно-согласные Истины – Лики Единого в Трех, как молнийные светы, встречаются. Сердце Божие блаженствует в них, а сердце человеческое раздирается ими, как противоречиями лжи.
Бог всемогущ: «Авва Отче! все возможно Тебе». Бог всеблаг: «чашу сию пронеси мимо Меня». Но вот, не пронес. Почему? Потому ли, что всеблаг, но не всемогущ, или потому, что всемогущ, но не всеблаг? Истина против Истины – стена против стены одного «лабиринтного хода».
Сущее Зло, изначальное, – диавол Манеса, «Противобог»; зло «не суще» – «первородная невинность» Пелагия: ни Грехопадения, ни Искупления: «Христос напрасно умер». Истина опять против Истины – стена против стены.
И так – без конца.
LXXIII
Главная точка пересечения всех молнийных светов – противоположных Истин, – главное, в сердце Августина, жало всех мук, – опыт-догмат о Промысле.
«Это мне сам Бог открыл», – скажет он в книге о «Предопределении Святых», в самый канун смерти, вспоминая, должно быть, всю свою жизнь и делая последний вывод из всего, что было в жизни: нет Случая – есть Промысел.[255]
Тайна Предопределения – Промысла связана для Августина так же неразрывно, как для Павла, с тайной Первородного греха, губящего, и Благодати спасающей: «Все согрешили (погибли)… получая оправдание (спасение) даром, gratis, по Благодати, gratia, искуплением Иисуса Христа» (Рим. 3, 23–24).
Этот опыт Павла, «Свет, озаривший его на пути в Дамаск», есть и опыт Августина: «Свет пролился в сердце мое, и мрак озарился», после «гласа Божия», услышанного в «детской песенке».
Но, чтобы увидеть всю белизну Света, спасающую силу Благодати – Жизни, надо увидеть и всю черноту Мрака, губящую силу Грехопадения – Смерти.
«Смертью заражена вся толща, всё тесто (massa, по слову Павла), вся громада человечества; ядом первородного греха отравлена вся». – «Весь человеческий род – одно сплошное тесто смерти… сплошная толща проклятия… глыба, громада погибели, massa mortalium, massa damnata, massa perditionis, – повторяет он ненасытимо как будто, а на самом деле, может быть, с тайным ужасом, – одна громада погибели, осужденная праведным судом Божьим». Есть у человека свободная воля: он может хотеть, но делать то, чего хочет, не может, вследствие первородного греха (воли к «злу ради зла», как у того шестнадцатилетнего Августина-Адама, воровавшего плоды в Тагастском раю). Только Благодать спасет человека от этого жалкого «рабства в свободе». – «Малым будет число спасшихся, по сравнению с числом погибших». – «Но если бы даже никто не спасся, то люди и тогда не могли бы обвинить Бога в несправедливости». Ибо никто не спасается иначе, как «по незаслуженному (как бы несправедливому), до создания мира предопределенному дару». – «Милует Бог, кого хочет, а кого хочет, ожесточает» (опять слово Павла), «действуя в этом по непостижимой для нас и с нашим человеческим судом несоизмеримой справедливости.[256]
Вот где главное место борьбы человека с диаволом за Бога – точка пересечения всех молнийных светов – «противоположных истин» в Боге; здесь же и вонзающееся в сердце человека жало противоречия: всех спасти мог бы Всемогущий, – Всеблагой должен был бы спасти всех; почему же спасает лишь избранных, немногих? Вот вопрос, на который надо человеку ответить, чтобы оправдать Бога во зле.
Как же отвечает на него Августин?
LXXIV
«Если бы меня спросили: „Почему Бог, дав некоторым людям волю к праведной жизни, не дал им нужного для нее постоянства perseverantia?“ – то я ответил бы: не знаю, nescio». – «И если бы еще спросили меня: „Почему один из одинаково верующих получает дар Благодати, а другой не получает?“ или: „Почему (в Предопределении) гнев Божий равен милосердию Божию?“ – то и в этом всем для меня суды Божии неведомы». – «Бездны их пытай, кто может, но страшись». – «Мы только знаем, что они есть, а по каким законам действуют, не знаем».[257] – «Бог справедлив даже тогда, когда… человек не мог бы сделать без несправедливости того, что делает Бог».[258]
Дальше, кажется, нельзя человеку идти: всею правдой своей и неправдой, разумом всем и безумием – защищает он как бы всем телом своим, покрывает Бога от диавола.
И все же остается голое место в Боге, – незаглушимый в сердце человека вопрос: «Зачем созданы те, о которых Бог знал несомненно, что они согрешат и погибнут? Пусть даже не создавал он греха; но кто же, как не Он, создал этих грешных и осужденных Им заранее людей?» Только один ответ и на это: «Не знаю», nescio.[259]
Бьется муха о стекло, может быть, приоткрытого окна, но, где приоткрыто, не знает.
«Всю правоту Божьих судов мы узнáем только на последнем Страшном Суде; тогда узнáем и то, почему угодно было Богу, чтобы столько праведных судов Его, – можно бы даже сказать, все они, – оставались для нас тайною». Эта-то вечная «тайна» и есть то стекло, о которое бьется мысль Августина, как муха.[260]
«Надо уметь останавливаться», – учит он других, но сам до последнего вздоха не остановится.[261] Так же в этом «прямолинеен», как мать его, св. Моника. Сложен-сложен, «извилист» и вдруг в какой-то одной крайней точке ужасающе прост, прям.
Крайняя точка – догмат о «вечных муках детей».
LXXV
Если все человечество, «тесто погибели», заражено первородным грехом, то и в лице новорожденного младенца мы узнаем «павшего Адама». Вот почему все «умирающие без крещения младенцы, parvuli, не участвуя в Искуплении через Второго Адама, Христа, осуждены на вечные муки в аду».[262]
Сначала предполагал он для них какое-то «среднее место», medietas; но потом решил, что между адом и раем ничего не может быть среднего, а так как некрещеные младенцы исключены из рая, то должны быть в аду. «Муки их, хотя и легчайшие, mitissima, все же велики и вечны». – «Ибо если не исторгнут младенец из ада (крещением), то что же ты дивишься, что он горит в вечном огне с диаволом?»[263]
Надо только «со свежей головой проснуться», опомниться, чтобы вдруг почувствовать, какой тихий, как бы сонный ужас в этом тихом, как бы сонном: «Что же ты дивишься? quod mireris?»
«Да не смеет же никто шептать вам на ухо иного учения, ибо это всегда было в Церкви… это мы и от Отцов приняли; это и останется на веки веков».[264]
Слушая такую проповедь, что должны были чувствовать матери некрещеных и даже крещеных младенцев? Если не сам Августин, то кто-нибудь из слушателей мог вспомнить о младенцах, приносимых некогда в жертву Молоху Ваал-Гамману Карфагенскому: те же вопли детей – в раскаленном чреве Молоха и в вечных муках ада.
LXXVI
Как бы смрадом жженого детского мяса запахло в мире снова, и ужаснулся мир. Восемнадцать Италийских епископов отказались подписаться под церковным осуждением Пелагия, «защитника естества», defensor naturae, заступника некрещеных младенцев от Августина.[265]
Ропщут на него люди, и его же собственное сердце ропщет. «О, верьте мне, братья, когда я думаю не только о вечных, но и о временных муках детей, то смущаюсь и не знаю, что сказать».[266] – «Не знаю, nescio», – один ответ на все.[267] Если бы довести до конца это «смущение», не получилось ли бы то возмущение – бунт, который подымется, через тысячу лет, в сердце ученика Августинова, Лютера: «Когда я даю волю этим мыслям (о Предопределении), то, забывая все – Христа и Бога, – дохожу, наконец, до того, что Бог кажется мне ненавистным, и хвала моя становится хулою».[268]
Более, чем вероятно, что до такого бунта не доходил Августин; но так же вероятно, что бывали у него такие минуты, когда, распятый на кресте мысли, он готов был возопить: «Боже мой! Боже мой! для чего Ты меня оставил?» То же мог бы он сказать и теперь, в конце жизни, что говорил в начале: «О, какие это были муки моего рождающего сердца, какие вопли, Боже мой! Этого никто не знает, кроме Тебя одного!»[269] Муки ли это рождающего сердца или умирающего – мы не знаем; он, может быть, и сам не знает.
Бедный, бедный! скорбный – Блаженный, грешный – Святой! Люди не знают и никогда не узнают, что значит «венец святости», – каким раскаленным добела, железным обручем сжимает он голову святых.
LXXVII
Спором Августина с Пелагием о существе зла потрясен был весь христианский Запад. Чтó скажет Церковь, – ждали все, но не дождались: Церковь молчала или, хуже того, говорила надвое.
Папа Иннокентий I отлучил Пелагия, а папа Зосима оправдал его, но после Карфагенского собора (418 г.) снова отлучил, признав и «вечные муки некрещеных детей».[270]
«Roma locuta est, causa finita, Римом сказано – дело кончено», – радуется Августин в знаменитом изречении, вошедшем в язык Римской Церкви.[271] Но радость его оказалась преждевременной: дело было не кончено и даже не начато.
«Слишком трудных и глубоких вопросов… лучше не касаться вовсе, дабы не давать повода к новым ересям… Ибо мы полагаем достаточным… установленного Церковью раз навсегда», – скажут Римские Капитулы, писанные, вероятно, будущим папою, св. Львом. К этим «слишком трудным и глубоким вопросам», о которых Церковь решает молчать, относится и догмат Августина-Павла о Предопределении, Praedestinato.[272] Это и значит: ничего не сказано – все умолчано Церковью.
Но ровно через тысячу лет по смерти Августина (530 г.), будет сказано Лютером, учеником Августина, в «Аугсбургском Исповедании» (1530 г.): «Мы не толкуем Павла по-новому (против истинно вселенской, кафолической Церкви), что легко доказать… на основании книги Августина „О букве и духе, De littera et spiritu“.[273]
И в лице Лютера будет отлучен Римскою Церковью (о, конечно, невольно, нечаянно!) св. Августин.
Если бы он только знал, какой будет у него ученик – вылупившийся вдруг из яйца голубиного, змей – монах Августинец, Лютер, то как бы он удивился, ужаснулся: «Откуда это чудовище, – unde hoc monstrum?» Мы теперь знаем откуда: из движения Духа в веках и народах, от Иисуса, через Павла-Августина, к нам.
LXXVIII
Больше хотеть быть в Церкви нельзя, чем хотел в ней быть Августин. «Я не поверил бы и самому Евангелию (значит, и самому Христу), если бы меня не побуждала к тому власть (Римской) Церкви».[274]
Павел хотел «быть отлученным от Христа за братьев своих, Израильтян» (Рим. 9, 3), а св. Августин – за братьев своих в Римской Церкви. «Слишком любил» он ее, «перелюбил», hyperegápasen, по чудно-глубокому слову Варнавы о любви Человека Иисуса к Израилю.[275]
И вот все-таки если провел Августин «последние дни жизни своей в несказанной скорби и горечи», то, может быть, потому, что в главной и вечной муке всей жизни своей – в тайне Зла, – так же как Павел, в тайне Свободы, – покинут был Церковью. Оба они, каждый в своем, – страшно сказать, – как будто вне Церкви и даже против Церкви.
Но знает, может быть, св. Августин теперь, в вечности, то, чего еще не знал тогда, во времени, – что и в этой последней муке его, так же как во всех остальных, совершалась над ним божественная тайна Промысла: вышел из Церкви Западной, Римской, бывшей, чтобы войти в будущую, Вселенскую Церковь.
Павел вошел в нее первый; второй – Августин.
LXXIX
Мудрый совет Лютера: «Надо умереть для разума, чтоб это (Предопределение) постигнуть» – не пошел бы впрок Августину.[276] «Я мог бы скорее усомниться в том, что есмь, нежели в том, что истина (Бог) постигаема разумом»; «разум крепко люби»; «это мне сам Бог открыл», – мог бы возразить Августин Лютеру.
Только в «восхищении», «экстазе», может человек свято «умереть для разума». Но Августину Бог не дал экстаза, и, не давая, знал, что делает: надо ему было дострадать, долюбить, додумать Христа до конца; в мысли надо было «сораспяться Христу», как никто этого не делал после Павла, и до Паскаля никто не сделает.
LXXX
«Нужно, конечно, креститься, чтобы спастись. Но, связывая людей законом, Бог ничем не связан: есть у Него особые, неведомые пути (спасения). А маленьких детей Он любит, и все Его мысли о них – любовь; слышит Он и молитвы и воздыхания матерей», – скажет Лютер, в «Утешении матерей скорбящих», о некрещеных младенцах.[277]
Если и глупые дети, и грешные люди больше, чем верят, – знают сейчас, что это действительно так и что вечные муки детей невозможны, то, может быть, потому, что старый, мудрый, святой Августин этого не знал и, не зная, прошел весь крестный путь мысли до конца – дострадал, долюбил, додумал Христа до конца: только так и могло совершиться движение Духа во времени, ибо даже в таком человечестве, каким оно было за две тысячи лет христианства, и даже в таком, каково оно сейчас, —
«Дух дышит, где хочет, и голос Его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит» (Ио. 3, 8).
Вот радость наша, которой «никто не отнимет у нас».
LXXXI
Бог будет все во всем,Theos panta en pasin,«во всем» – во всех (I Кор. 15, 28): все спасутся, – этот несомненнейший, хотя и отвергнутый Церковью опыт-догмат Павла-Оригена о «Восстановлении всего», apokatástasis, приняли такие великие святые, как Григорий Нисский и Амвросий Медиоланский. Почему же св. Августин не принял его? Потому ли, что менее свят? Нет, но потому, что свят иначе: только для себя одного принять, как приняли те, – не хочет, не может, не должен; потому что в одной из величайших мук человеческих – мысли, – сказал тогда и теперь все еще говорит людям так, как никто из святых, кроме Павла:
Братья мои, я не хочу спастись без вас.[278]LXXXII
«Наше спасение остается до конца жизни неверным, потому что можно говорить о постоянстве до конца, perseverantia usque ad finem, только в том случае, если конец уже наступил, а до того, – не получившему такого дара, чтобы претерпеть до конца, – все, что он имеет, не послужит ни к чему», – скажет Августин, – только ли о других или также о себе? «Я ужасаю других, потому что сам ужасаюсь, territus, terreo».[279]
«Тайный ужас внушала ему вся его музыка», – скажет кто-то об умирающем Бетховене.[280] Можно бы сказать то же об Августине: в сущности, все его последние мысли – уже не «мысли», а «музыка» оного дня, Dies illae, dies irae.
Если и праведник едва спасется, то нечестивый… где будет? (I Птр. 4, 18).
Люди, прирожденные «пелагиане», – так страшно-бесстрашны, безумно-беспечны, что ужас этот для них, может быть, спасителен.
«Я ужасаю других, потому что сам ужасаюсь». Ужас двойной – двойная пытка: то разовьется вдруг весь «лабиринт» в одну «прямую линию», – тогда он идет по ней, «ужасая других»; то прямая линия совьется вдруг опять в лабиринт, – тогда идет внутри его, «сам ужасаясь». Чаша с Дарами – в руках его, а на голове – раскаленная докрасна железная, у самого «Инквизитора», «инквизиционная» митра епископа или сжимающий голову, раскаленный добела железный обруч – венец святости. Некогда «Любезный», а теперь «Ужасный».
Все идет, да идет, и главная мука его – усталость бесконечная. «Я очень устал… Боже мой, единственная надежда моя, услышь меня, не дай мне изнемочь… от усталости и отчаяния!»[281]
Подожди немного:Отдохнешь и ты.Warte nur: baldeRuhest du auch.Кажется, уже тишина последнего отдыха сходит на него в этой простейшей и тишайшей молитве:



