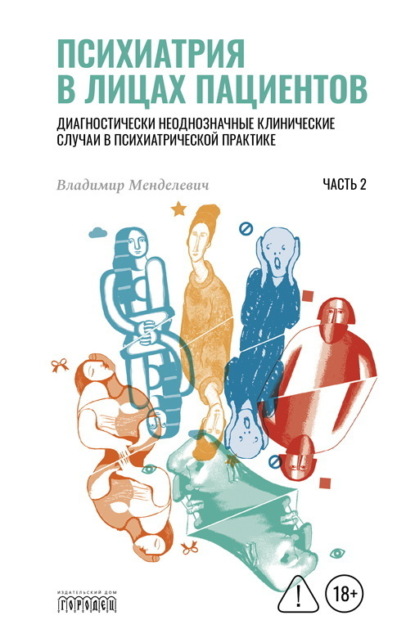
Полная версия:
Психиатрия в лицах пациентов. Диагностически неоднозначные клинические случаи в психиатрической практике. Часть 2
В трактовках проективных картин РАТ аффективно фиксирована на «негативных» трактовках человеческих образов как источниках агрессии, предательства, чувства обиды. Так, о любых трех фигурах говорит «типичная дружба втроем», а о человеке, догоняющем другого, немедленно говорит «побить хочет» (также: «два идиота решили разбить себе голову»). По Методу Цветовых Выборов – реакция эмоциональной напряженности и неустойчивости фона настроения с вовлечением физиологических потребностей (как акцентированного стремления к отдыху и расслаблению), противоречие между тенденциями к спонтанности и самоконтролю, нетерпеливость, раздражительность, подавленное противодействие обстоятельствам, ощущение дискомфорта и приниженности вместе с оптимизмом, поисками социальной активности и признания без тягостной ответственности, упорство и требовательность в достижении своих целей, с уступчивостью ради сохранения связей, неудовлетворенное желание доброжелательных отношений и ощущение непонятости значимыми окружающими.
Внимание по пробе Шульте ближе к легкому снижению по концентрации и распределению: 58”, 59”, 1’16”, 1’13”; реакция на нагрузку в виде неустойчивости волевого усилия (в основном переход к «заторможенной» пассивности). Непосредственное запоминание по пробе «10 слов» в норме после короткого врабатывания, с небольшой неустойчивостью ретенции (5–9–8–10 слов из 10, отсроченно 8). Проба на опосредованное запоминание показывает адекватный или (чаще) акцентирующий субъективные переживания/протестность/сенситивность, эгоцентрический подбор образов (к понятию «болезнь» рисует указатель в две стороны: «туда – болезнь, свобода, а туда – мучение, школа», рисунок к понятию «богатство» – разбитое сердце: «Если что-то будет богатое, то оно еще больше будет агрессивное для меня… Богатое, оно наглое».) «Пиктограммы» неряшливо-схематические в отличие от выверенного индивидуально-значимого рисунка, с чередованием импульсивной гиперстении и тревожности (дублирование линий). Воспроизведение на уровне «низкой нормы» за счет многочисленных неточностей. Мышление в невысоком или замедленном темпе (общая когнитивная инертность), в вербально-логическом и конструктивном компонентах преимущественно типичные недочеты абстрагирования и пространственного синтеза (по «органическому» типу), продуктивность под постоянным и существенным влиянием эмоционально обостренных отказных реакций (вследствие пресыщения нагрузкой и тесным взаимодействием по поводу нее, либо фиксации на субъективно (аффективно) значимом). В классификации предметов показывает способность к объединению по существенному признаку, составляет группу «измерение», однако, иногда малокритично переходит к ситуативным («при болезни используются») или второстепенным конкретным (из-за чего слабо справляется с объединением групп – соединяет их как «стекляшки», «мучения»: связанные со школой), презрительно переворачивает карточки с людьми – «терпеть не могу», неоднократно подчеркнуто называет эту группу «идиоты». Скрытый смысл прочитанного рассказа («Галка и голуби») улавливает верно, но передает с утрированной эгоцентрической окраской («Не очень хорошо поступила – осталась без ничего»), дает демонстративно разрозненные оценки, подчеркивая собственные сиюминутные идеи – «Не надо наказывать бедную птицу!», «Не надо завидовать голубям!», на внешнюю стимуляцию к упорядочиванию ответа реагирует негативно («Мне лично пофиг»). В пробе «Простые аналогии» нуждается в корректирующих подсказках, так как не улавливает наиболее глубокие из заданных обобщающие межпонятийные связи. На Кубиках Коса конструирует с преодолеваемыми затруднениями синтетического восприятия усложненных образцов. Счетные навыки не нарушены: правильно решает в уме несложные арифметические примеры с неизвестными. Интеллект сохранный. В обследовании когнитивной сферы определяется негрубое неравномерное снижение когнитивных возможностей по «органическому» типу (в картине которого преобладают недостаточность функции внимания и снижение уровня обобщения и пространственного синтеза), при выраженной субъективно-эмоциональной обусловленности стиля и содержания когнитивной деятельности, возникающей в силу ситуативно интактных – дистимии, эмоционально-волевой неустойчивости, раздражительности, пресыщаемости, обостренной сенситивности, демонстративных тенденций, а также признаки эмоционально-мотивационной и волевой незрелости, что в совокупности может представлять собой предпосылки патохарактерологического направления развития.
Терапия. За время наблюдения психиатрами получала следующую психофармакотерпию: сертралин (до 100 мг в сутки), ламотриджин (до 50 мг в сутки), арипипразол (до 10 мг в сутки). Проходила психотерапию. Со слов мамы, эффективность незначительная и краткосрочная – оценивалась по частоте самоповреждений. По мнению Марины, она не нуждается ни в каком лечении и принимает лекарства исключительно для спокойствия мамы. При этом отмечает, что настроение на фоне лечения становится лучше, смягчается социофобия, становится более общительной, готовой выходить из дома.
Обсуждение
Представленный случай одиннадцатилетней Марины привлек наше внимание неоднозначностью психопатологической интерпретации наблюдавшегося феномена квадробинга и его трансформации в иную форму «игровой идентичности». Психиатрами, осматривавшими пациентку, в ее игровых перевоплощениях усматривалось патологическое (бредоподобное) фантазирование в рамках расстройств шизофренического спектра, а для купирования состояния назначались атипичные антипсихотики. Анализ случая позволяет по-иному квалифицировать поведенческие расстройства девочки. Дискуссионным является вопрос о том, имеются ли научные основания причислять ее игровую деятельность (квадробинг, косплеинг) к психопатологическому кругу явлений? Учитывая тот факт, что психосоциальная дезадаптация Марины была связана не только и не столько с квадробингом, значимым представляется также анализ связи игровой деятельности с психопатологическими симптомами. В клинической картине заболевания доминировали аффективные расстройства (эмоциональная лабильность, депрессивный фон настроения) в сочетании с суицидальными мыслями и намерениями, поведенческие нарушения в виде самоповреждений и импульсивности, а также личностные особенности (социофобия, мизонтропия). Помимо этого, в клинической картине обнаруживался редкий феномен флюктуирующей идентичности, синдром игрового перевоплощения и квадробинг.
Как показал анализ случая Марины, ее психическое состояние можно было охарактеризовать как соответствующее «формирующемуся пограничному расстройству личности (ПРЛ)». За этот диагноз говорили такие симптомы, как выраженная дисгармония в личностных позициях и поведении, включая возбудимость, сниженный контроль побуждений, склонность прилагать чрезмерные усилия с целью избежать реальной или воображаемой «участи быть покинутым», склонность вовлекаться в интенсивные, напряженные и нестабильные взаимоотношения, чередование крайностей (идеализации и обесценивания), импульсивность, рецидивирующее суицидальное поведение, угрозы самоубийства, акты самоповреждения, чувство опустошенности, выраженный гнев и трудности его контролировать, преходящие параноидные идеи или диссоциативные симптомы, а также нарушения идентичности: неустойчивость образа или чувства Я [10]. Из перечисленных критериев у Марины наблюдались практически все, что подтверждало диагноз формирующегося ПРЛ. Никаких признаков расстройств шизофренического спектра обнаружено не было.
Особое внимание в конкретном клиническом случае следует обратить на критерий «диффузной идентичности», признанный одним из основополагающих для пациентов с ПРЛ. Под феноменом диффузной идентичности (ДИ) понимается неустойчивость и неопределенность самооценки, восприятия человеком самого себя, которые переживаются как недостаток аутентичности и цельности истории собственной жизни, вызывающие существенные сложности адаптации человека в обществе [1, 8, 11, 12, 17, 19–21]. По мнению S. Akhtar [9], синдром диффузной идентичности включает в себя шесть клинических признаков: 1) противоречивые черты характера, 2) временная неоднородность личности, 3) отсутствие аутентичности, 4) чувство пустоты, 5) гендерная дисфория и 6) чрезмерный этнический и моральный релятивизм. Этот синдром чаще встречается в молодом возрасте, предполагает наличие тяжелой патологии характера и отличается от подросткового кризиса идентичности.
Квадробинг, вызвавший диагностические споры в случае Марины, относится к субкультуральным подростковым увлечениям, в рамках которых происходит специфическая социализация, социальная идентификация, актуализация для изменения себя, других и действительности, выход «за пределы себя» [4]. Нет никаких оснований причислять квадробинг к психопатологическим симптомам, поскольку, во-первых, он носит массовый (групповой) характер – психические расстройства, как правило, не появляются синхронно у десятков и сотен пациентов; во-вторых, за поведением квадроберов не просматривается ни бреда, ни галлюцинаций, ни обсессий, ни иных клинических симптомов. Квадроберы не утверждают, что превратились в животных, а лишь имитируют и подражают повадкам животных. Они, как в случае с зооантропией, не используют систему доказательств для того, чтобы убедить окружающих в том, что они не люди, а животные [13], и не отказываются жить в обществе.
Внешне сходное с квадробингом поведение описывается в психиатрии при бредовых формах фантазирования детей и подростков в рамках шизофрении, биполярного расстройства и др. [3, 5, 6, 13]. У обследованной нами девочки никаких признаков бредовых идей не наблюдалось, что позволяло утверждать, что квадробинг у нее не носил психопатологического характера.
Главной особенностью представленного клинического случая являлось то, что фабула увлечений не исчерпывалась квадробингом – он трансформировался у девочки в косплеинг героя корейского аниме. Обычно увлечение квадробингом является стойким и не обнаруживает тенденции переходить в другие формы имитационного игрового поведения. Можно предполагать, что это произошло у Марины по причине наличия ПРЛ и феномена диффузной идентичности. Выбор конкретного персонажа для подражания определялся доминирующим суицидальным мировоззрением и мизонтропией. Роль «суицидального мальчика» Ли Хуна позволила Марине отыграть в условиях косплеинга собственные эмоциональные и коммуникативные проблемы, дала возможность «найти родственную душу» в мультяшном герое. Косплеинг, как и квадробинг, нет оснований признавать психопатологией. Некоторые авторы утверждают, что «взгляд через призму теории личностных конструктов приводит к пониманию временности в построении идентичности и плюривокальности самонарративов» [14]. Считается, что игровая идентичность имеет положительное значение для людей, поскольку она представляет собой здоровое развитие большинства навыков и отношений, определяющих качество жизни, таких как разработка решений проблем, с которыми люди сталкиваются на протяжении всей своей жизни, установление социальных отношений и достижение идентичности [12, 16].
Таким образом, анализ клинического случая одиннадцатилетней Марины позволяет утверждать, что игровые перевоплощения в виде квадробинга и косплеинга, основанные на феномене диффузной идентичности, следует рассматривать не как проявления психопатологических симптомов в рамках каких-либо психических или поведенческих расстройств, а как психологический способ совладания (cooping) с трудностями социализации.
Литература1. Банников Г. С., Кошкин К. С. Антивитальные переживания и аутоагрессивные формы поведения подростка с «диффузной идентичностью».//Психологическая наука и образование. 2013. Т. 5. № 1. https://psyjournals.ru/journals/psyedu/archive/2013_n1/59073
2. Дамулин И. В., Сиволап Ю. П. Ликантропия: психоневрологические и соматические аспекты.//Российский медицинский журнал. 2018. T. 24. № 1. C. 41, 44. DOIhttp://dx.doi.org/10.18821/0869–2106–2018–24–1-41–44
3. Иовчук Н. М., Северный А. А., Морозова Н. Б. Детская социальная психиатрия для непсихиатров. М.: Питер, 2006. 416 c.
4. Клейберг Ю. А. Квадроберы: ювенально-девиантологический дискурс.//Вопросы девиантологии. 2024. № 4 (28). С. 27–34.
5. Кравченко И. В., Макаров И. В. Патологическое фантазирование (аналитический обзор)//Вопросы психического здоровья детей и подростков. 2017. T. 17. № 1. С. 109–115.
6. Макаров И. В., Кравченко И. В. Клиническая типология синдрома фантазирования у детей и подростков.//Обозрение психиатрии и медицинской психологии. 2013. № 1. С. 56–62.
7. Менделевич В. Д. Терминологические основы феноменологической диагностики в психиатрии. М.: Городец, 2016. 128 с.
8. Менделевич В. Д., Каток А. А., Митрофанов И. А. Диффузная идентичность как психологический и психопатологический феномен. Случай небинарной религиозной персоны.//Неврологический вестник. 2024. Т. 56. № 4. С. 341–354. DOI: https://doi.org/10.17816/nb640889
9. Akhtar S. The syndrome of identity diffusion.//Am J Psychiatry. 1984. Vol. 141 (11): Pp. 1381–1385. DOI: 10.1176/ajp.141.11.1381
10. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing; 2013. DOI:10.1176/appi.books.9780890425596
11. Basten Ch., Touyz S. W. Sense of Self: Its Place in Personality Disturbance, Psychopathology, and Normal Experience.//Review of General Psychology. 2019. Vol. 24 (2):108926801988088. DOI: 10.1177/1089268019880884
12. Breakwell G. M. Identity resilience: its origins in identity processes and its role in coping with threat.//Contemporary Social Science, 2021. Vol. 16 (5). Pp. 573–588. DOI: 10.1080/21582041.2021.199948
13. Garlipp P., Gödecke-Koch T., Dietrich D. E., Haltenhof H. Lycanthropy – psychopathological and psychodynamical aspects.//Acta Psychiatrica Scandinavica. 2004. Vol. 109 (1). Pp. 19–22. DOI:10.1046/j.1600–0447.2003.00243.x
14. Ghaempanah B., Khapova S. N. Identity play and the stories we live by.//Journal of Organizational Change Management. 2020. Vol. 33 (5). Pp. 683–695. DOI:10.1108/JOCM-07–2019–0238
15. Guessoum S. B., Benoit L., Minassian S., Mallet J., Moro M. R. Clinical Lycanthropy, Neurobiology, Culture: A Systematic Review.//Front Psychiatry. 2021. Vol. 11 (12):718101. DOI:10.3389/fpsyt.2021.718101
16. Gunes G. Personal play identity and the fundamental elements in its development process.//Curr Psychol. 2023. Vol. 42 (9). Pp. 7038–7048. DOI:10.1007/s12144–021–02058-y
17. Jorgensen C. R., Boye R. How Does It Feel to Have a Disturbed Identity? The Phenomenology of Identity Diffusion in Patients With Borderline Personality Disorder: A Qualitative Study.//J Pers Disord. 2022. Vol. 36 (1). Pp. 40–69. DOI:10.1521/pedi_2021_35_526
18. Puchyn V. Quadrobics: a new trend or a psychological problem? https://medplus.media/en/advices/childrens-health/quadrobics-a-new-trend-or-a-psychological-problem
19. Rivnyak A., Poharnok M., Peley B., Lang A. Identity Diffusion as the Organizing Principle of Borderline Personality Traits in Adolescents – A Non-clinical Study.//Front. Psychiatry. 2021. Vol. 12: 683288. DOI:10.3389/fpsyt.2021.683288
20. Sollberger D., Gremaud-Heitz D., Riemenschneider A. et al. Change in Identity Diffusion and Psychopathology in a Specialized Inpatient Treatment for Borderline Personality Disorder.//Clin Psychol Psychother. 2015. Vol. 22 (6). Pp. 559–69. DOI:10.1002/cpp.1915
21. Verschueren M., Claes L., Gandhi A., Luyckx K. Identity and psychopathology: Bridging developmental and clinical research.//Emerging Adulthood. 2020. Vol. 8 (5): Pp. 319–332. DOI: https://doi.org/10.1177/2167696819870021
Почти мунк[3]
Клинический случай Алсу Б., 21 года, привлек наше внимание тем, что за время наблюдения в ведущих российских и зарубежных клиниках девочке психиатрами выставлялось множество различных диагнозов – от соматоформного, ипохондрического и обсессивно-компульсивного расстройства до шизофреноформного, биполярного аффективного расстройства и параноидной шизофрении с эмоционально-волевым дефектом. На протяжении последних лет Алсу находится на первой группе инвалидности по психическому расстройству (шизофрении). Однако, патологической динамики ее психического состояния, как это бывает при шизофрении, не наблюдается, а оценка доминирующего психопатологического синдрома требует переосмысления.
Алсу Б., 21 год. При нынешнем обращении к врачам высказала просьбу назначить ей альфа-адреноблокаторы, «поскольку [ее] надпочечники вырабатывают много адреналина», и от этого у нее «не прекращаются приступы психического расстройства». Терапевт перенаправил пациентку к психиатру.
Анамнез жизни и болезни. Наследственность психическими расстройствами и генетическими заболеваниями не отягощена. Родилась в срок, единственный ребенок в семье. Папа и мама филологи, но мама в настоящее время не работает, поскольку ей приходится «ухаживать за больной дочерью», которая требует постоянно быть с ней рядом и неукоснительно выполнять выработанные ею ритуалы. Отношения в семье формально хорошие. Беременность у матери первая, желанная, протекала нормально (до беременности была резекция яичника). Роды естественные на сроке 39 недель. Оценка по шкале Апгар 7/8 баллов, при родах отмечалось обвитие пуповины вокруг ножки, после рождения была приложена к аппарату ИВЛ – во время прохождения родовых путей было затруднено дыхание. Масса тела при рождении 3200 г, рост 52 см. Из родильного дома были выписаны на пятый день. Первые три месяца Алсу была беспокойным ребенком, долго и пронзительно кричала. Первые слова появились в 18 месяцев. Детские дошкольные учреждения посещала с трех лет, недолго, так как часто болела простудными заболеваниями. Воспитанием занимались мама и бабушка. С пятилетнего возраста посещала музыкальную школу по классу фортепьяно. В свободное время любила снимать себя на камеру, перевоплощаться в корреспондента, пародировать популярных певиц, росла в атмосфере доброжелательности, любви, потакания ее капризам и потребностям. Во время прогулок на улице подружилась со своими сверстниками, охотно с ними общалась. «У меня не было хорошего отношения, любви к матери. Мне было, например, противно с ней обниматься с детства». С семи лет пошла в специализированную (английскую) школу. Адаптировалась не сразу. Со слов мамы, часто приходила домой испуганной, после того как учитель повышал голос. В начальной школе училась на «отлично», получала похвалы от учителей, делала успехи в освоении языков. Свободное от учебы время проводила под присмотром матери, была освобождена от выполнения простых повседневных обязанностей (мытье посуды, уборка постели). «Мама меня сильно опекала, до 7-го класса провожала в школу, так как во дворе бегали собаки и могли на меня напасть. Она мне всю жизнь посвятила, а от болезни не сберегла». В общении со сверстниками Алсу проявляла угодливость и любезность, с мамой вела себя бесцеремонно, упрекала и предъявляла разнообразные претензии. Помимо хорошей успеваемости в школе, награждалась дипломами на конкурсах, к примеру, за лучшие стихи. По оценкам учителей и членов конкурсных комиссий, стихи отличались глубиной и осмысленностью. Писала стихи на разных языках (русском, татарском, английском). Также участвовала в олимпиадах по литературе, занимала первые места («я тогда радовалась, я их «сделала», чувствовала себя лучше остальных». В музыкальной школе занимала первые места на конкурсах, считала, что не имела права быть хуже других, повышала планку – «мне это многого стоило, концерты – это стресс, боялась подвести и опозориться». Помимо фортепьяно, занималась пением, «но меня всегда ставили взад», «с 3-го класса обучения в музыкальной школе началась конкуренция, кого-то выделяли, меня обделяли, когда нужно было петь сложный дуэт, учитель говорила, что это не мой, я до сих пор этого не пережила, а в 8-м классе высказала все обиды в сообщении учителю, хотела вызвать чувство вины, учитель попросила прощения».
По характеру мама называла ее «перфекционисткой, яркой и энергичной». В детском возрасте отмечались некоторые незначительные навязчивости: хотелось крутиться по часовой стрелке, а потом против, поскольку было ощущение «как будто нитка вокруг запуталась». В шестилетнем возрасте навязчиво хотелось потрогать утюг: «а вдруг он горячий», «хотелось убедиться, что он остыл, чтобы мозги успокоились». Как-то потрогала оставшийся горячим утюг – появился волдырь на ладони. В 10-летнем возрасте стали появляться навязчивые мысли о том, что «когда смывается унитаз и слышен звук воды, этого нельзя слушать, чтобы не стошнило, в связи с этим при смывании закрывала руками уши». Кроме того, навязчиво считала буквы в названиях, эмблемах («пока мимо едем, если не успею посчитать, то что-то случится, могло вырвать, ощущала тошноту»). Появилось «паническое чувство тошноты по ночам, когда мама выключала свет». Вела себя «странно» – наклоняла голову вперед, моргала, открывала рот. С этого времени начала испытывать ненависть к маме и «ко всему миру», начала конфликтовать с мамой, был конфликт с отцом (побил в ответ на то, что Алсу обижала маму), после этого грубое поведение прошло. Посетила психолога, который не обнаружил у девочки никакой психической патологии. С 5-го класса школы появилась подруга, и на душе «стало легче», поскольку «раньше не хватало времени на друзей». Но отмечала, что внутренне ей с каждым годом становилось все хуже и хуже. Окончила музыкальную школу с красным дипломом. Появились «приступы чистоплотности» – хотелось, чтобы все лежало на своем месте, «если было грязно, доводила все до идеала, стол вытирала влажной салфеткой». Стала ощущать потребность в порядке («все должно было лежать ровно, бесили складки на штанах, все время поправляла хвостик (прическу)». По многу раз могла включать и выключать звук на телевизоре, необходимо было услышать слова «00 минут».
Во время поездки в Германию отравилась чаем, поднялась температура, появилась рвота, подумала, что чай кем-то был отравлен. На отдыхе в Турции перенесла ротавирусную инфекцию, был жидкий стул, субфебрилитет, испытывала выраженную тревогу, слабость, «было страшно болеть». Именно в Турции поняла, что необходимо плакать, чтобы снять напряжение, хоть недолго, но вместе с мамой. После выздоровления было тяжело посещать школу, в течение всего шестого класса пропускала школу «хотела спать, не было аппетита, сил, болело горло – часто ангиной с высокой температурой, жаловалась, что ей плохо: «папа был недоволен, так как учитель не верила, что я болею, но училась я хорошо из последних сил». Была осмотрена кардиологом, неврологом, эндокринологом, но соматические заболевания не выявлялись. Была назначена аминофенилмасляная кислота, после приема которой самочувствие улучшилось. С двенадцатилетнего возраста стала раздражительной, жаловалась на упадок сил, на болезненные ощущения в проекции грудины, была переведена на домашнее обучение. С этого времени появились приступы неадекватного поведения в виде пронзительного, громкого, длительного крика в моменты, когда ей что-то было необходимо от мамы. Сначала это происходило исключительно в ночное время. После крика ей нужно было обязательно проплакаться, и чтобы мама держала ее за руку. Стала реже выходить из дома, целые дени проводила за просмотром телевизора, высказывала многочисленные жалобы на свое «тяжелое состояние», «как будто ранена душа», открыто заявляла о нежелании жить. Еще большее ухудшение состояния наступило через год после выпускного вечера в музыкальной школе. «Было постоянно обидно, все плохо, сил не было, страх, боязнь смерти, а что будет, если я умру, казалось, что у меня рак, а вдруг рак, аппендицит или проблемы с желчным пузырем».
Впервые детским психиатром была осмотрена в возрасте 13 лет. Предъявляла жалобы на плохой сон, непреодолимое желание кричать по ночам, что сама называла «устроить ор», повышенной конфликтностью с родными и, особенно, с матерью. На приеме просила врача подсказать лучший способ суицида. По неотложным показаниям была госпитализирована в детское отделение психиатрической больницы, где находилась вместе с матерью в течение трех дней. При поступлении говорила о «желании громко плакать». Просила разрешения выйти из комнаты и покричать, поплакать, «потому что у меня вот здесь разрывается», – показывала на область грудной клетки. Была фиксирована на этом желании. В отделении была внешне опрятной, суетливой, совершала стереотипные движения руками, подкашливала, периодически заламывала руки, поднимала глаза вверх. От предложенных лекарственных назначений мама отказалась. Девочка умоляла ее выписать, говорила, что ей «безумно плохо… даже не представляете как! Вот тут в душе ужасно тяжело», «тут все у вас не так, домой мне надо, что вы меня мучаете». При этом могла резко повысить голос, сорваться на крик, крайне грубо вести себя с мамой, чего никогда не наблюдалось в отношении персонала. «Уже год как мне плохо, не знаю даже, вот тут в груди, что-то душу давит, и ночью кричу, потому что мне так плохо». В течение дня не отпускала маму от себя. За время госпитализации принимала бензодиазепины, антипсихотики. Была выписана с диагнозом: психастенический невроз со смешанной соматоформной (в виде дисфункции вегетативной нервной системы) и ипохондрической симптоматикой в рамках патохарактерологического развития личности с истероидными чертами. После этого амбулаторно посещала психиатра, принимала сульпирид и милнаципран.



