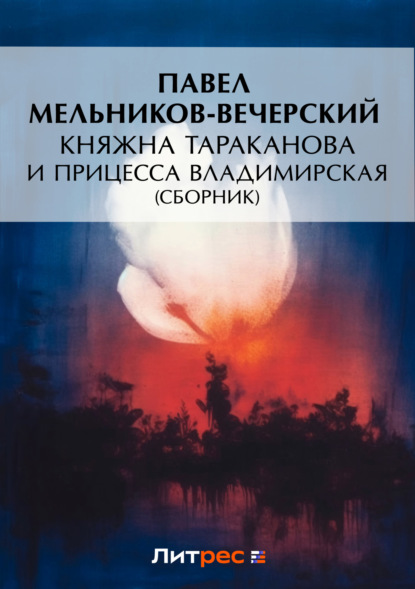 Полная версия
Полная версияКняжна Тараканова и принцесса Владимирская (сборник)
– Почему же вы прежде хотели иметь духовником священника греко-восточного исповедания?
– В моем отчаянном положении я часто не имею полного сознания о том, что говорю.
Добрейший князь Александр Михайлович был рассержен неудачей своих расспросов. Он строго сказал пленнице:
– Так я вам не пришлю ни греческого, ни католического духовника. Слышите вы это?
– Не пришлете, так и не нужно, – равнодушно отвечала больная.
Фельдмаршал замолчал и через несколько времени спросил пленницу:
– Зачем же вы прежде не сказали мне, что вы супруга князя Лимбургского?
Она не отвечала на это ни слова. Голицын опять спросил:
– Вы с князем Лимбургом венчались по церковному обряду?
– Мы священника не призывали, – отвечала пленница, – но князь Лимбургский дал мне торжественное обещание жениться на мне и в виде залога совершил в мою пользу запись на пожизненное владение принадлежащим ему графством Оберштейн.
– Знает ли князь о вашем происхождении?
– Столько же, как и я сама.
– Кто же знает?
– Помню, что старая моя няня Катерина в детстве моем говорила, что мой учитель арифметики Шмидт да еще маршал лорд Кейт знают, кто мои родители.
– Какой маршал Кейт? – спросил Голицын.
– Брат того Кейта, который служил в русской армии во время войны против турок.
– Вы знали лично генерала Кейта?
– Нет, я его не знала, но брата его, лорда Кейта, видела один раз и то мельком, проездом через Швейцарию, куда меня маленькую возили из Киля. От Кейта я получила и паспорт на обратный путь. Помню, что у него жила турчанка, присланная ему братом его из Очакова или с Кавказа. Она воспитывала несколько маленьких девочек, вместе с нею взятых в плен; они жили при ней и после. Я видела ее и с девочками после смерти лорда Кейта, проездом через Берлин. Турчанка жила тогда в Берлине. Хоть я и знаю, что я не из числа воспитывавшихся у ней девочек, но очень может быть, что я черкешенка. Наверное же ничего не знаю о моих родителях, но позвольте мне написать письмо к друзьям моим, они постараются собрать сведения о моем рождении. Они сделают это.
– Это совершенно бесполезно, – заметил князь Голицын. – Лучше вас самих никто не знает о вашем происхождении, только вы говорить не хотите. Но я знаю, кто вы, я имею явные на то доказательства.
– Кто же я? – приподнявшись и устремя испытующий взор на фельдмаршала, сказала пленница.
– Дочь пражского трактирщика.
Больная вскочила с постели и с сильнейшим негодованием вскричала:
– Кто это сказал? Глаза выцарапаю тому, кто осмелился сказать, что я низкого происхождения!
– Признайтесь однако, что вы провели детство в Праге? – сказал князь Голицын.
– Никогда я там не бывала, – ответила пленница.
Силы оставили ее, она упала на постель.
Когда пленница несколько успокоилась, князь завел речь о Доманском. Она слушала равнодушно, но когда Голицын сказал, что Доманский неотступно просит руки ее и что, если она хочет, может выйти за него замуж хоть в тот же самый день, пленница засмеялась.
– Этот жалкий человек! – сказала она насмешливым тоном. – Да ведь он совершенно необразован! Ведь он порядочно не знает ни одного языка! Помилуйте! Возможно ли это?
Принцесса забыла «Мосбахского незнакомца», забыла и то, что в Рагузе подавала Доманскому большие надежды на свою руку.
Попавший в сваты фельдмаршал уговаривал пленницу не пренебрегать предложением Доманского, которое при настоящем ее положении должно считаться очень выгодным.
– Я бы вам дозволил видеться с ним без свидетелей и переговорить обо всем, что считаете нужным, – сказал он ей.
Пленница отвечала решительным отказом. Она не хотела видеть Доманского и сказала, что и в таком случае не могла бы выйти за него замуж, если б этот поляк по своему образованию и развитию более подходил к ней, потому что дала клятву князю Филиппу Лимбургскому и считает себя уже неразрывно с ним связанною.
Тогда князь Голицын, во исполнение воли императрицы, обещал пленнице от своего лица исходатайствовать свободу и дозволение отправиться к князю Лимбургу в Оберштейн, но только в таком случае, если она откроет ему свое происхождение.
Луч надежды на свободу, казалось, животворно подействовал на больную женщину. С неподдельным чувством благодарила она фельдмаршала, но затем сказала, что, к сожалению, ничего не может прибавить к сказанному прежде о своем происхождении. Не верила ли она обещанию князя Голицына, не решалась ли возвратиться к друзьям после окончательно скомпрометировавшей ее истории, после беременности, которая не могла остаться в тайне, опасалась ли, что они отвернутся от сидевшей в крепости самозванки, близость ли смерти, которую она уже чувствовала, удерживали ее воспользоваться предлагаемою свободой?.. Она, впрочем, попросила перо и при князе Голицыне написала дополнение к своему сознанию, но написанные ею сведения были совершенно ничтожны. Она написала, что на шестом году от рождения ее посылали из Киля в Сион (в Швейцарии), потом снова возвратили в Киль через область, управляемую Кейтом[159], что о тайне рождения ее знал некто Шмидт, дававший ей уроки, и что в детстве помнит она еще какого-то барона фон-Штерна и его жену, и данцигского купца Шумана, который платил в Киле за ее содержание. «Меня постоянно держали в неизвестности о том, кто были мои родители, – заключила она. – Впрочем, я тогда мало заботилась об этом, не ожидая от того никакой пользы».
Князь Голицын, прочтя это признание и не найдя в нем того, что надеялся видеть, ушел от пленницы, объявив, что она, как нераскаявшаяся государственная преступница, осуждается на вечное заключение в крепости.
Больше он уже не видал этой несчастной женщины.
Августа 12 он доносил императрице о «бесстыдном упорстве арестантки во всем». «Это упорство, – писал фельдмаршал, – показала она в последнее со мною свидание, когда ни Доманский, ни она не прибавили ни слова к данным прежде показаниям, несмотря на то, что обоим обещаны были, казалось бы, высшие из земных благ, каких они желают: ему – обладание прекрасною женщиной, в которую он влюблен до безумия, ей – свобода и возвращение в свое графство Оберштейн. Все старания арестантки, – продолжал князь Голицын, – истолковать в свою пользу дело о найденных у нее духовных завещаниях, возмутительном манифесте и прочих бумагах вполне опровергаются тем, что они писаны ею собственноручно. Из показаний ее ясно только одно, что она бесстыдна, бессовестна, лжива и зла до крайности. Все мои старания узнать от нее истину об ее сообщниках остались совершенно напрасными. Ничто не подействовало на нее: ни увещания, ни строгость, ни ограничение в пище, одежде и вообще в потребностях жизни, ни разлучение со служанкой, ни постоянное, наконец, присутствие караульных солдат в ее комнате. Впрочем, – заключил фельдмаршал, – может быть, эти меры и будут со временем в состоянии довести ее до полного признания, так как совершенное лишение надежды на свободу, по всей вероятности, не останется без влияния на арестантку».
XXXVIII
Больная оставалась в самом строгом заключении. Хотя ее держали в верхнем этаже Алексеевского равелина, в помещении сухом, светлом, состоявшем из нескольких комнат, хотя ей давали хорошую пищу, которую готовили на комендантской кухне особо от назначенной для других арестантов, но лишение свободы разрушительно на нее подействовало. Она никого не видала, кроме прислуживающих ей караульных солдат да глуповатой Франциски. Доктор продолжал навещать ее и следил, как чахотка с каждым днем усиливается и приближает смертный конец пленницы. Так прошли август, сентябрь и первая половина октября. В октябре больная совершение ослабела. Она уже не вставала с постели, болезненные припадки возвращались к ней чаще и чаще. Доктор несколько раз уведомлял князя Голицына, что смерть быстро приближается к пленнице.
Прошел ноябрь. Пленница разрешилась от бремени. Граф Алексей Григорьевич Орлов, обольстивший из усердия к службе несчастную женщину, сделался отцом. Как обыкновенно случается с женщинами, которые страдают чахоткой во время беременности, болезнь сильнее овладела пленницей после разрешения. Смерть была близка. Что чувствовала мать при взгляде на рожденного младенца?
Гельбиг, живший в Петербурге в составе саксонской миссии при нашем дворе и хорошо знавший придворные тайны, говорит, что привезенная Грейгом принцесса, находясь в Петропавловской крепости, родила графу Орлову сына, которого крестили генерал-прокурор князь Вяземский и жена коменданта крепости Андрея Григорьевича Чернышева и который получил фамилию Чесменского. Александр Алексеевич Чесменский, побочный сын графа Орлова, действительно служил впоследствии в конной гвардии и умер в молодых летах. Что он был побочный сын графа Алексея Григорьевича, это не подлежит никакому сомнению, но действительно ли мать его была не кто другая, как «всклепавшая на себя имя» принцесса Владимирская, – утвердительно сказать нельзя, пока не будет извлечено из архивов все относящееся как до истинной дочери императрицы Елизаветы Петровны, так и до самозванки, судьбу которой мы описываем. Сообщенные графом В. Н. Потемкиным в императорское Московское общество истории и древностей извлечения из дела о самозванке – далеко не полны. Кроме того, в московском архиве иностранных дел, именно в польских бумагах, есть, говорят, немало сведений о самозванке[160].
Ноября 30 больная находилась уже в таком положении, что каждую минуту ожидали ее последнего вздоха. Она едва могла сказать доктору, что желает видеть священника и приготовиться к смерти. Доктор передал желание умирающей фельдмаршалу.
Руководствуясь прежним повелением государыни, он призвал священника Казанского собора Петра Андреева, умевшего говорить по-немецки. Под страхом смертной казни и «взяв с священника клятвенное обещание», что он вечно будет молчать обо всем, что увидит и о чем услышит, князь Голицын рассказал ему о пленнице и поручил постараться довести ее на исповеди до раскаяния и полного признания в том, кто она такая в действительности, кто подал ей мысль назваться дочерью императрицы Елизаветы Петровны и кто были сообщники в ее замыслах.
Больная с радостью приняла священника. Началась исповедь, и пленница сказала духовнику: «Я крещена по обряду греко-восточной церкви. Об этом я слыхала в Киле от воспитывавших меня до девятого года моего возраста. С тех пор я жила в разных государствах, между прочим, в Англии и Франции, потом получила в собственность графство Оберштейн в Германии и жила там. Позже провела несколько месяцев в Рагузе, оттуда поехала в Рим, затем в Пизу, приглашена графом Алексеем Орловым в Ливорно, посажена на русский корабль, привезена в Петербург и посажена в крепость».
– Где же вы родились и кто ваши родители? – опросил священник.
– Бог свидетель – не знаю, – отвечала умирающая.
Затем говорила она духовнику, что хотя крещена по греко-восточному обряду и потому считает себя принадлежащею к православной церкви, но до сих пор еще ни разу не исповедывалась и не причащалась. Греко-восточного катехизиса не учила и о христианском законе узнала только то, что вычитала в Библии и некоторых французских книгах духовного содержания. Но она верует в бога, во св. троицу и нимало не сомневается в непреложных истинах Символа веры.
Духовник стал увещевать пленницу с полным раскаянием сознаться во всех злых намерениях против государыни и в том, что она выдавала себя за дочь покойной императрицы Елизаветы Петровны.
– Свидетельствуюсь богом, что никогда я не имела намерений, которые мне приписывают, никогда сама не распространяла о себе слухов, что я дочь императрицы Елизаветы Петровны.
Духовник спросил о сообщниках, о том, откуда у нее появились духовные завещания Петра I, Екатерины I и Елизаветы Петровны, возмутительный манифест к русской эскадре, письма к султану и другие документы, о которых священник предварительно узнал от князя Голицына.
– Все это получено мной от неизвестного лица при анонимном письме.
– Вы стоите на краю могилы, – сказал священник, – вспомните о вечной жизни и скажите истину.
– Стоя на краю гроба и ожидая суда пред самим всевышним богом, – сказала она, – уверяю, что все, что ни говорила я князю Голицыну, что ни писала к нему и к императрице, – правда. Прибавить к сказанному ничего не могу, потому что ничего больше не знаю.
– Но кто были у вас соучастники?
– Никаких соучастников… не было… потому что… и преступных замыслов… мне приписываемых… не было.
Она не могла больше говорить. Случился сильный припадок. Когда он миновал, пленница едва слышным голосом сказала священнику, что она чувствует себя чрезвычайно слабою для продолжения исповеди, просит помолиться за нее и посетить на другой день.
Священник был у нее и на другой день (2 декабря). Исповедь началась снова. Пленница глубоко раскаивалась, что огорчала бога греховною своею жизнию, что с ранней юности постоянно жила в телесной нечистоте, часто отдавалась то одному мужчине, то другому, что чувствует себя великою грешницей, жившею противно заповедям господним. По разрешении сих грехов, духовник возобновил вчерашние увещания, чтоб умирающая сказала всю истину об ее происхождении и замыслах против императрицы и указала бы на тех, кто внушил ей мысль назваться русскою великою княжной и кто был соучастником в ее замыслах. Больная опять сказала, что сама не знает о своем происхождении и, не имев никаких преступных замыслов против России и императрицы Екатерины, не имела и сообщников. Она говорила все слабее и слабее; священник, наконец, не мог понимать слов умирающей. Началась агония.
Он оставил ее, не удостоив святого причастия.
На другой день (3 декабря) князь Голицын доносил императрице, что и посредством самой исповеди не удалось исторгнуть полного признания от умирающей самозванки. Донесение священника было также отправлено к императрице. Фельдмаршал писал также государыне, что по отзывам доктора и священника смерть самозванки должна последовать через несколько часов, почему он и дал приказание зарыть ее в самом равелине, чтобы ни поляки, с нею посаженные, ни камердинеры, ни Франциска фон-Мешеде не могли узнать, что сталось с нею.
Агония продолжалась долго, более двух суток. В семь часов пополудни 4 декабря 1775 года пленница испустила последний вздох, унеся в могилу тайну своего рождения, если только знала ее.
На следующий день солдаты, бессменно стоявшие при ней на часах, выкопали в Алексеевском равелине глубокую яму и тайно зарыли в нее труп пленницы. Никаких погребальных обрядов совершено не было.
Декабря 7 князь Голицын донес императрице о смерти «всклепавшей на себя имя».
XXXIX
К новому 1776 году императрица возвратилась из Москвы в Петербург. Возвратились двор и высшие правительственные лица, в числе их и генерал-прокурор князь Вяземский. Ему, вместе с фельдмаршалом князем Голицыным, поручено было кончить в тайной экспедиции дело о «всклепавшей на себя имя» или, точнее сказать, дело о сопровождавших ее арестантах.
Смертию загадочной женщины, тайну рождения которой, несмотря на все старания князя Голицына, открыть не могли, дело собственно и оканчивалось. Князь Радзивил, в это время уже находившийся в ладах с королем Понятовским и тем возвративший себе благоволение Екатерины, спокойно жил в своем Несвиже[161], невозбранно пользуясь громадными доходами с своих литовских маетностей. Он, по обыкновению, окружал себя огромною свитой прихлебателей, хвастался и безнаказанно лгал перед ними, охотился с магнатами, а иногда и с ксендзами, на медведей, бражничал с боготворившею его шляхтой, перебранивался с виленским римско-католическим епископом, от времени до времени делал свойственные ему одному эксцентрические выходки[162], задавал баснословно роскошные праздники и совершенно бросил политические замыслы, которые обошлись ему не дешево. Конечно, новая жизнь его в Несвиже была не такова, как до Барской конфедерации, когда «пане коханку» с полным сознанием собственного достоинства говаривал: «Krol sobie kiylem w Krakowie, a ja w Neswizu». Вооруженные укрепления его города были уничтожены русскими еще в 1768 году, и Радзивил не смел возобновлять их, но все же богатства его были огромны, и он мог доживать свой век спокойно и с полною возможностью тешить своеобычный нрав свой[163]. Михаил Огинский также прекратил тайную вражду с королем, пользовался благоволением императрицы Екатерины, строил знаменитый, названный именем его канал, соединяющий Неман с Припятью, и нередко бывал в Петербурге. Польские магнаты, иезуиты и другие люди, невидимо заправлявшие хитро придуманною интригой и выведшие на политическую арену несчастную женщину, конечно, и не вспоминали о ней. Ничего не знали, что случилось с принцессой Владимирскою, ее друзья в Париже, в Трире, в Оберштейне. Дело о ней хранилось в строжайшей тайне, особенно от иностранных дипломатов. Так, например, барон Сакен, польский резидент при дворе Екатерины, только 8 июня 1775 года, то есть почти через месяц, доносил в Париж, что адмирал Грейг привез в Кронштадт женщину, называвшую себя русскою великою княжной, и не ранее половины февраля 1776 года, то есть через два с половиной месяца после смерти пленницы, писал, что сумасшедшая, так называемая принцесса Елизавета, вскоре после того, как привезена в Петербург, отправлена будто бы в Шлиссельбургскую крепость и там умерла 14 февраля от болезни.
Долго ли тосковал по очаровательной Алине искренно любивший ее князь Филипп Лимбург, вспоминали ли о ней другие ее обожатели – не знаем. Но кредиторы денег не получили.
О спутниках принцессы 13 января 1776 года в тайной экспедиции фельдмаршалом князем Голицыным и генерал-прокурором князем Вяземским постановлен был следующий приговор: «Принимая во уважение, что нельзя доказать участие Чарномского и Доманского в преступных замыслах самозванки, ни в чем не сознавшейся, что они оставались при ней скорее по легкомыслию и не зная намерений обманщицы, к тому же Доманский был увлечен и страстью к ней, положено следствие об обоих прекратить. Хотя они уже за то, что следовали за преступницей, вполне заслуживали бы быть сосланными в вечное заточение, но им вменяется в достаточное наказание долговременное заключение, и они отпускаются в свое отечество с выдачею им вспомоществования по сту рублей каждому и под клятвою вечного молчания о преступнице и своем заключении».
Таким образом и теперь, при решении участи Чарномского, не было обращено должного внимания на принадлежавшие ему бумаги польской генеральной конфедерации. А в числе их были очень важные, например, манифесты конфедерации против раздела Польши 1772 года, подлинные письма конфедерации к султану и визирю, турецкие паспорты ее агентам, многие польские письма. И граф Орлов, и фельдмаршал князь Голицын, и все другие полагали, как видно, что они принадлежат самой пленнице, и напрасно добивались от нее признания относительно их. Она не выдала Чарномского. А вероятнее всего то, что следователи не хотели поднимать затухшего, как казалось тогда, польского дела и тревожить покой ясновельможных панов, вроде «пане коханку». И странно кажется теперь, что тайная экспедиция, имея под руками все бумаги, вполне положилась на показания Чарномского и Доманского. Их показания о причинах, побуждавших их следовать за принцессой из Рагузы в Италию, за исключением разве страстной любви Доманского, с первого взгляда представляются не заслуживающими вероятия. Трудно допустить, чтобы столь заметный в польской конфедерации деятель, как Чарномский, поехал с принцессой в Рим и забыл возложенные на него конфедерацией поручения единственно из дружбы к приятелю и из желания посмотреть на Рим, где на этот раз и папы нельзя было видеть. Сам же он говорил, что в последнее время пребывания их в Рагузе французский консул предостерегал его относительно принцессы, говоря, что ей не следует верить. И что же? Он, как сам говорит, перестал верить, что она русская великая княжна, а между тем, имея при себе официальные письма конфедерации, имея на руках важные дела, которые безотлагательно должен был исполнить, ни с того ни с сего поехал вслед за женщиной, которую считал искательницей приключений, и остался при ней до самого арестования. Если принцесса и выманила у него через Доманского деньги, без которых он не мог ехать в Константинополь, отчего же не отправился он в Верону к графу Потоцкому с повинною головой? Не он был первый и не он последний из поляков, проматывавших общественные деньги конфедерации и в более значительных суммах. Если бы Чарномский явился к графу Потоцкому, этот пожурил бы его, быть может, раскричался, быть может, досталось бы и шляхетной спине Чарномского (примеры тому бывали), но ни в каком случае не выдал бы агента конфедерации на жертву случайностей, которым тот неминуемо подвергался в обществе искательницы приключений, игравшей в столь опасную игру.
Столь же невероятно и показание Доманского, что желание увидеть Рим побудило его сопровождать самозванку. Не обращено было при следствии внимания и на противоречие его: то он говорил, что поехал из Рагузы вслед за графиней Пиннеберг с целию получить с нее 800 червонцев, которые она заняла у него, то утверждал, что, получив ее приказание ехать в Италию, рад был воспользоваться случаем посетить на ее счет Рим. Но как бы то ни было, и Чарномский, и Доманский, по решению тайной экспедиции, были отправлены в Польшу. За всех пострадала одна «всклепавшая на себя имя», хотя на краю гроба, на тайне исповеди, будучи уже едва в состоянии говорить, она настоятельно, именем самого бога, уверяла, что сама никогда не разглашала о царственном своем происхождении.
Не знаем, что сталось с Чарномским и Доманским по их освобождении. В марте 1776 года они были выпровождены из Петербурга за границу вместе с камердинерами Рихтером и Лабенским. Более года пробыли они под арестом на корабле и в Петропавловской крепости.
О камермедхен принцессы тайная экспедиция того же 13 января 1776 года постановила: «умственная слабость Франциски фон-Мешеде не допускает никакого подозрения в ее сообщничестве с умершею, посему отвезти ее за границу, и так как она не получала никакого жалованья от обманщицы, находится в бедности, а между тем дворянского происхождения, то отдать ей старые вещи покойницы и полтораста рублей на дорогу». Тотчас же она была отвезена в Ригу, откуда отправлена в Пруссию, ее отечество.
Камердинеров Рихтера и Лабенского, находившихся при Доманском и Чарномском, а также служителей самой принцессы, Кальтфингера, Маркезини и Анчиотти, тайная экспедиция определила выслать за границу, дав каждому по пятидести рублей, но с тем чтоб они дали клятву до смерти своей не сказывать никому, что с ними происходило и за что они содержались в Петропавловской крепости. Кальтфингер и оба итальянца были отправлены из Петербурга в Ригу, а оттуда за границу, в январе 1776 года вместе с Франциской фон-Мешеде.
XL
Тем дело и кончилось. Осталась одна безвестная могила в Алексеевском равелине, в которую солдаты тайно опустили труп загадочной женщины и закидали его мерзлою землей.
В 1826 году, когда в Петропавловской крепости содержались участники происшествия 14 декабря 1825 года, близ Алексеевскою равелина, на небольшой площадке, обращенной в садик, находилась насыпь. Старожилы крепости сказывали, что это могила княжны Таракановой[164], то есть, как теперь оказывается, самозванки Таракановой.
С каким секретом ни содержали захваченную графом Орловым женщину, какою таинственностию ни окружили смерть ее и погребение, несмотря на то, еще в царствование Екатерины разнеслись по Петербургу и оттуда пошли по другим местам слухи, будто в Петропавловской крепости уморили «дочь императрицы Елизаветы Петровны». Правду сказал барон Сакен, донося польскому правительству: «мне из верных источников известно, и я положительно знаю, что смерть сумасшедшей, так называемой принцессы Елизаветы, последовала совершенно естественно, но, вероятно, это не помешает распространению разных слухов». Гельбиг, живший в то время при саксонском посольстве в Петербурге, также говорит, что смерть пленницы последовала после кратковременной болезни в 1776 году и возбудила разные подозрения.
Прошло два года по смерти так называемой принцессы Елизаветы. В 1777 году случилось сильное наводнение в Петербурге, большее, чем в 1824 году. Казематы Петропавловской крепости были залиты. После этого стали рассказывать, будто заточенную «княжну Тараканову» не вывели из каземата, или не хотели вывести, и она утонула. Со временем этот слух вполне утвердился, хотя, как оказывается, бедная пленница содержалась в верхних отделениях Алексеевскою равелина, куда во время наводнения вода едва ли могла достигнуть, и умерла двумя годами раньше наводнения…
Прошел еще год или два. В Алексеевский равелин посажен был один авантюрист, по фамилии Винский.
Это был небогатый дворянин, учившийся в Киевской духовной академии, а потом служивший сержантом лейб-гвардии в Измайловском полку. Вовлеченный в одно политическое дело, был он арестован с несколькими другими гвардейскими офицерами. Сначала его содержали в Петропавловской крепости, а потом сослали на житье в Оренбург, где он и прожил больше тридцати лет и прощен уже императором Александром Павловичем. Винский вел записки обо всем виденном им и слышанном. Эти любопытные записки находились в руках покойного Александра Ивановича Тургенева и несколько раз читались в небольшом обществе.



