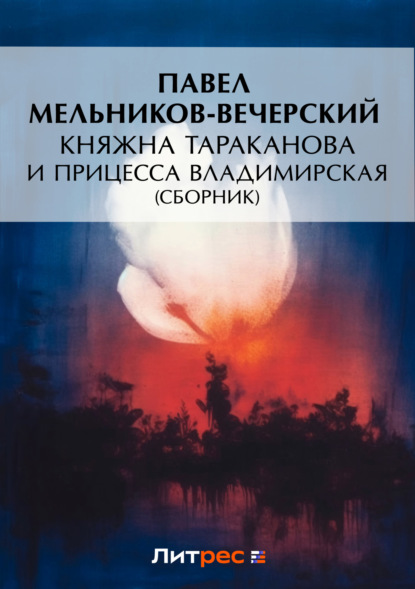 Полная версия
Полная версияКняжна Тараканова и принцесса Владимирская (сборник)
Между тем газеты известили о действиях Пугачева, об осаде им Оренбурга и о распространении мятежа по Уралу. Родственница Радзивила, княгиня Сангушко, получала сведения о ходе дел в России, об успехах Пугачева. Сведения эти доставлялись в Оберштейн к самозванке, причем княгиня Сангушко сообщала ей списки мест, занятых пугачевскими шайками. В это время сам Радзивил счел наконец нужным лично повидаться с мнимою великою княжной и хотел для того приехать к ней в Оберштейн. Князь Лимбург был против этого, но только потому, что боялся новой измены своей невесты. Радзивил писал, что горит нетерпением представиться принцессе, но затрудняется приехать к ней, потому что, одетый в польский кунтуш, может обратить внимание любопытных и тем повредить делу, которое должно вести пока в тайне. Равным образом и ее посещение Радзивила в занимаемом им доме может иметь такие же последствия. Чтоб иметь свидание, Радзивил нанял в Цвейбрюккене особый дом, остававшийся никем не занятым, и в этом доме предложил самозванке иметь с ним свидания. Она согласилась. Свидание состоялось в Цвейбрюккене (Deux Ponts) около нового 1774 года, и после того между князем Карлом Радзивилом и прекрасною принцессой завязалась деятельная переписка. Радзивил возлагал на нее великие надежды. Предположено было: пользуясь замешательством, произведенным Пугачевым, произвести новое восстание в Польше и в белорусских воеводствах, отошедших по первому разделу во владение России, самой же принцессе, вместе с Радзивилом, ехать в Константинополь и оттуда послать в русскую армию, находившуюся в Турции, воззвание, в котором предъявить свои права на престол, занимаемый Екатериной. Этим способом надеялись они свергнуть Екатерину и доставить самозванке императорскую корону. С своей стороны самозванка обещала Радзивилу возвратить Польше отторгнутые от нее области, свергнуть Понятовского с престола и восстановить Польшу в том виде, в каком она находилась при королях саксонской династии. В одном из своих писем князь Радзивил говорит самозванке: «Я смотрю на предприятие вашего высочества, как на чудо провидения, которое бдит над нашею несчастною страной. Оно послало ей на помощь вас, такую великую героиню».
Через несколько времени принцесса уведомила князя Лимбурга о полученном ею от княгини Сангушко известии, что король Людовик XV одобрил намерение ее ехать с князем Радзивилом в Венецию и Константинополь и оттуда предъявить права свои на русский престол.
Михаил Казимир Огинский, как официальный посланник польского короля, до сего времени шага не делал к участию в замыслах бывшей своей любовницы. Кроме того, что служебное положение стесняло свободу его действий, он и по природе своей был человек крайне осторожный и притом ленивый; он боялся скомпрометировать и себя и польское дело, в случае, если замысел «принцессы Владимирской» не удастся. Она приглашала его для переговоров в Оберштейн, на что соглашался и ревнивый Лимбург, хотя не без колебания, ибо он, кажется, больше всего к Огинскому ревновал свою невесту. Чтобы не помешать своим присутствием их переговорам, он даже уехал из Оберштейна в Бартенштейн, где жила его сестра. Там он хотел приготовить родных своих к предстоящему браку его с принцессой Елизаветой. Но Огинский не приехал в Оберштейн; Людовик XV в это время находился при смерти. Отлучиться от двора умирающего короля он не мог, ибо, в случае его смерти, должен был выждать, какое направление примет политика его преемника. Зато не раз посылал он в Оберпггейн своего агента, аббата Бернарди, бывшего наставником детей его зятя, литовского великого кухмистра (т. е. обер-гофмаршала), графа Михаила Виельгорского[120]. Принцесса через этого аббата всячески уговаривала Огинского присоединиться к ней и даже вместе с Радзивилом ехать в Венецию, а оттуда в Константинополь. Теперь это было возможно для Огинского, ибо он не был более посланником; пост его занял граф Виельгорский. Но Огинский медлил.
Между тем князь Лимбург продолжал переписку с своею возлюбленною. По-видимому, эта переписка была между ними предварительно условлена, чтобы показывать ее родственникам князя и другим лицам, в случае каких-либо сомнений с их стороны или недобрых толков о принцессе и ее поездке с Радзивилом, когда она огласится. В одном из таких писем, посланном к князю в Бартенштейн, принцесса, успокоивая в нем чувства тревоги, снова возникшей по поводу таинственных посещений ее каким-то молодым поляком (то был если не Доманский, то князь Иероним Радзивил, брат князя Карла), извещала его, что готова принести в жертву милому князю свою блестящую карьеру, но должна предпринять небольшое путешествие, для устранения последних препятствий к их браку. К этому она прибавляла, что, по зрелом обсуждении, она решилась познакомиться с его родными не прежде, как сделается его женой и уплатит издержанные им на нее деньги. В ответ на это Лимбург написал, что, не имея возможности вознаградить часть рода человеческого (то есть Россию) за потерю такой прекраснейшей принцессы, он не может принять от нее такой жертвы. Письма свои князь Лимбург уже адресовал: ее императорскому высочеству принцессе Елизавете Всероссийской.
XIII
Князь Лимбург на последние остававшиеся у него денежные средства устроил отъезд своей возлюбленной, достав ей, хотя с большим трудом, на дорогу денег, кроме того, открыл ей кредит у находившегося в Аугсбурге трирского министра Горнштейна и даже отдал ей деньги, приготовленные на собственную поездку в Вену к императору, по делам притязаний на Шлезвиг – Голштейн. Зато принцесса обещала сама впоследствии съездить к императору и выхлопотать это дело.
Князь Лимбург дал ей письменное на то полномочие.
Из Оберштейна принцесса выехала 13 мая 1774 года вместе с князем Лимбургом. Он провожал ее до Цвейбрюккена. Здесь они расстались; на прощанье князь дал ей торжественное обещание быть ее супругом. В письмах, после того писанных, они называли друг друга супругами. Она и в Петропавловской крепости называла князя Лимбурга своим супругом, хотя и объясняла, что по церковному чиноположению они не венчаны. Из Цвейбрюккена принцесса поехала в Аугсбург для свидания с Горнштейном, а печальный, расстроенный разлукой с своею очаровательною «супругой» князь возвратился в Оберштейн, теперь сделавшийся ему столь дорогим по воспоминанию о пребывании в нем прекрасной Алины. По приискании денег на путевые издержки, князь обещался ей немедленно приехать в Венецию, а оттуда сопровождать принцессу в Турцию.
В Оберштейне князь застал Бернарди, посланного от Огинского к принцессе с просьбой, чтоб она разъяснила ему свои намерения и таинственные намеки, сделанные ею в письме относительно будущности Польши. Князь убедил Бернарди в действительности царственного происхождения своей возлюбленной и рассказал ему о сношениях ее с княгиней Сангушко. Этого было достаточно для убеждения французского аббата. Бернарди был ревностный поклонник прусского короля Фридриха II, человек, вполне ему преданный. Он пришел в восхищение, когда князь Лимбург, поверяя ему планы мнимой наследницы русского престола, уверял его, что как скоро она наденет на голову корону деда своего Петра Великого, то немедленно приступит к политике прусского короля, перед которым благоговеет, что она теперь же, посредством сношений с Пугачевым, постарается способствовать расширению владений Фридриха II на востоке, для чего отклонит вмешательство Австрии турецкими делами, а внимание России – войной с шведским королем, который таким образом будет помогать и ей, и Пугачеву. Бернарди, выслушав князя Лимбурга, дал ему слово, при содействии Виельгорского, убедить Огинского к немедленному отъезду в Венецию, куда уже отправился князь Радзивил со множеством поляков, приверженцев Барской конфедерации.
Принцесса торопилась ехать в Венецию, где ожидал ее князь Радзивил. Чтобы не иметь остановки в Аугсбурге, где Горнштейн должен был достать ей денег, она еще из Вирцбурга послала передового курьера к трирскому министру, прося его поторопиться приисканием денег и уведомляя, что едет в Венецию, а вслед за нею отправится туда и князь Лимбург. Горнштейн бросился к своему другу уговаривать его не путаться в опасное дело, не ездить в Венецию. Князь поколебался, но оставался однако при своем намерении. Тогда Горнштейн поскакал на свидание с принцессой. Не желая возбуждать общего внимания на свои сношения с претенденткой на русский престол, чтобы тем не скомпрометировать своего государя, курфирста Трирского, у которого был главным министром, Горнштейн не поехал в Аугсбург и свиделся с принцессой в Зусмаргаузене. Здесь он настоятельно убеждал ее отказаться от своих замыслов, не идти на верную погибель, не связываться с поляками, которые только желают иметь ее своим орудием для достижения собственных замыслов, умолял ее возвратиться в Оберштейн и жить с князем Лимбургом, удаляясь от всех политических интриг. Принцесса поколебалась и дала ему слово пробыть в Венеции самое короткое время, а потом возвратиться в Германию и хлопотать в Вене по Шлезвиг-Голштейнскому делу. Горнштейн выдал ей, за счет князя Лимбурга, 200 червонцев, и она уехала. В Бриксене к ней присоединился Доманский с разными лицами, большею частию поляками. Она сообщила им, что, обдумав все шансы затеянного ею предприятия, она не решается ехать в Константинополь и намерена пробыть в Венеции самое короткое время, а потом воротиться в Германию. Это озадачило поляков, особенно Доманского. Но «Мосбахский незнакомец» имел на принцессу влияние: он стал ее уговаривать не оставлять задуманного предприятия, блестящими красками разрисовал будущее ее положение, когда скипетру ее будут повиноваться миллионы. К этому присоединены были нежньте ласки, и Алина не устояла. Она решилась идти, куда поведет ее гений Польши, нарушила данное Гоолштейну слово и уведомила его, что пробудет в Венеции несколько долее, чем обещалась. Зная слабую струну ревностного католика Гоолштейна, Алина приписала, что намерена воспользоваться пребыванием в Венеции для основательного изучения догматов римско-католической веры, которую намерена принять.
Горнштейн был крайне удивлен, получив чрез несколько дней два письма: одно от князя с просьбой передать присланное письмо «ее императорскому высочеству принцессе Елизавете Всероссийской», а другое от нее, с «просьбой доставить приложенное письмо к ее супругу». До сих пор он не придавал особенного значения слухам и разговорам о царственном происхождении любовницы своего друга, но теперь увидел, что сам князь признает ее за дочь императрицы Елизаветы. Ему, главному министру одного из германских курфирстов, неловко было передавать такие письма: они могли навлечь немало хлопот его государю; с другой стороны, Горнштейн мог заключить, что брак князя Лимбурга, против которого он так усердно действовал, совершился… Он написал к принцессе письмо, в котором обращал ее внимание на множество противоречий, встречающихся как в прежнем, так и в настоящем ее поведении, а впрочем, обещал ей зависящую от него помощь и настоятельно уговаривал выбрать в Венеции хорошего католического священника, которому бы она могла вполне довериться.
Князь Лимбург получил между тем известие, что король Людовик XV умер и вступивший на престол Людовик XVI сочувственно отозвался о предприятии князя Радзивила. Он немедленно уведомил о столь радостной вести свою возлюбленную. Но вскоре он разочаровался в ожидаемом успехе.
XIV
Денежные дела князя Радзивила были теперь не в блистательном положении. Когда король Станислав Понятовский в 1772 году объявил амнистию всем оставившим пределы отечества участникам Барской конфедерации и прочим противникам королевским, князь Карл с насмешкой отвергнул предлагаемое прощение и не воротился в Литву. В 1773 году виленский епископ Мосальский писал к нему, уговаривая возвратиться и примириться с королем и напоминая, что в противном случае будет наложен секвестр на его обширные имения. Радзивил, будучи в Париже, поколебался было: ему, обладателю столь громадных богатств, страшно было расстаться с ними, но, построив уже план поездки в Константинополь, он посоветовался с французским министром герцогом Эгильоном и по его внушению решительно отказался от покорности королю Понятовскому. В начале января 1774 года отправился он в Венецию, куда и прибыл в конце февраля. Между тем имения Радзивила попали под секвестр, и он из Литвы не стал получать ни копейки. Приходилось жить на оставшиеся в шкатулке деньги и продавать бриллианты. Принцессе он не мог давать значительных сумм.
«Персидский дядя» исчез. Но на такое дело, за какое взялась принцесса, необходимо было иметь немалый запас денег. Находчивая женщина тотчас придумала средство получить миллионы: она составила проект русского внешнего займа от своего имени, как единственной законной наследницы Русской империи. Этот проект она послала в Париж, к Огинскому, который должен был пригласить тамошних банкиров к подписке. Но Огинский решительно отказался от участия в этом замысле. В письме к принцессе он в весьма изящных фразах говорил ей о предстоящем ей блистательном поприще, когда она сделается повелительницей огромной империи, но не без сарказма извинился, что не может содействовать успешному ходу ее займа.
Князь Лимбург, прочитав письмо Огинского и зная, что без денег любезная его не может достигнуть осуществления своих замыслов, сильно поколебался. В то же время немецкие газеты извещали, что счастие, доселе благоприятствовавшее союзнику принцессы, Пугачеву, изменило ему. Бибиков успешно подавил мятеж, Оренбург был освобожден, Яицкий Городок занят верными императрице войсками, и Пугачев, как писали, совершенно разбит.
Сообщая все эти новости своей возлюбленной, князь Лимбург умолял ее бросить опасные и едва ли при теперешних обстоятельствах возможные к исполнению замыслы и скорее воротиться в Оберштейн, где ждут ее объятия и горячие поцелуи жениха. Но принцесса уже не могла повернуть назад. Ее и Радзивила хотя и смутили слухи о подавлении пугачевского бунта, но ненадолго. Скоро до Венеции дошли благоприятные для поляков и самозванки известия: дела Пугачева поправились. Бибиков внезапно умер. В России распространился слух, что он отравлен одним из польских конфедератов. Конфедераты действительно были тогда в восточной России, были и в шайках Пугачева[121].
По смерти Бибикова (9 апреля 1774 года) дела Пугачева действительно поправились: он снова явился на Уральских заводах, еще более страшный, чем прежде. Принцесса вскоре была утешена известием, что от Сибири до Волги «ее союзник» властвует.
Она приехала в Венецию в последних числах мая, под именем графини Пиннеберг. Графство Пиннеберг находилось в Голштинии, и она приняла фамилию по его имени как будущая герцогиня Голштейн-Лимбург. В Венеции же пошли слухи, что под этим именем скрывается уже настоящая его супруга. Дошедшие о том до Оберштейна слухи сильно встревожили князя Лимбурга, и он написал к возлюбленной, чтоб она отнюдь не выдавала себя за жену его. Но в то же время он послал в Венецию своим резидентом барона Кнорра и повелел ему быть гофмаршалом при дворе графини Пиннеберг. Непоследовательность действий недалекого князя Лимбурга являлась на каждом шагу.
Князь Радзивил с сестрой своею Теофилой Моравской[122] уже два месяца жил в Венеции, когда приехала в эту республику давно ожидаемая им принцесса. Для нее приготовлена была пышная квартира – дом французского посольства при Венецианской республике. Ясное доказательство, что новый король Франции и Наварры, Людовик XVI, благоприятствовал предприятию самозванки. При графине Пиннеберг был свой двор: барон Кнорр, как мы уже заметили, сделан был гофмаршалом «ее высочества».
На третий день по приезде принцессы князь Карл Радзивил сделал ей пышный официальный визит, в сопровождении блестящей свиты, и представил бывших с ним знатных поляков: своего дядю, князя Радзивила, графа Потоцкого, стоявшего во главе польской генеральной конфедерации, графа Пржездецкого, старосту Пинского, Чарномского, одного из деятельнейших членов генеральной конфедерации, и многих других. Радзивил и Потоцкий были в лентах. На другой день принцесса сделала визит графине Моравской, у которой в то время находился и брат ее. Затем князь Карл Радзивил часто посещал принцессу, являясь к ней обыкновенно в сопровождении своего секретаря Микошты. Графиня Пиннеберг жила роскошно и открыто в палатах французского резидента и искала новых знакомств[123]. Толпа польских и французских офицеров, собравшихся вокруг князя Радзивила, чтоб ехать с ним на подмогу туркам против России, ежедневно наполняла приемные комнаты графини. Кроме Радзивилов, чаще других у нее бывали граф Потоцкий, граф Пржездецкий и сэр Эдуард Вортли Монтегю, англичанин, долго путешествовавший по Востоку, сын известной английской писательницы, лэди Мэри, дочери герцога Кингстон. Нередко посещали ее два капитана из Варварийских владений султана, Гассан и Мехемет, корабли которых стояли в то время в Венецианском порте. На одном из этих кораблей графиня Пиннеберг намеревалась ехать к султану. Но роскошная жизнь ее в Венеции скоро истощила ее средства. С обычною ловкостью принялась она за прежнее: искать денег. Несмотря однако на новоизобретенные рассказы о богатых агатовых копях, находящихся будто бы в принадлежащем ей Оберштейне, несмотря на знакомство графини с венецианскими банкирами, она никак не могла доставать много денег: венецианский банк ссудил ей только 200 червонцев. Тогда графиня Пиннеберг стала торопить Радзивила отъездом в Константинополь, куда 16 мая они вместе и отправились.
Приезд графини в Венецию наделал немало шума. Сначала было приняли ее за жену графа Голштейн-Лимбурга, но, получив от него запрещение называться его женой, она отрицала это; без сомнения, и резидент князя при Венецианской республике старался о рассеянии этих слухов. Стали обращаться к князю Карлу Радзивилу, находившемуся с ней в ежедневных почти сношениях, и «пане коханку», под условием строжайшей тайны, каждому рассказывал, что это дочь русской императрицы Елизаветы, рожденная от тайного брака, и приехала из Германии, чтобы под его покровительством ехать в Константинополь. Сама самозванка старалась о распространении таких слухов.
Варварийские капитаны 16 июня 1774 года посадили на корабли свои князя Карла Радзивила с его дядей, с графиней Моравскою и многочисленным сборищем польских и французских офицеров. С ними же села и графиня Пиннеберг со всем двором своим, кроме гофмаршала барона Кнорра, оставшегося в Венеции для устройства ее дел и для ведения переписки. Когда графиня Пиннеберг приехала на рейд, Радзивил с своими был уже на палубе. Ее встретили с большим почетом. Ей все представились и, по придворному этикету, целовали ее руку. Радзивилы обходились с ней самым почтительным образом, равно как и графиня Моравская.
Путешествие сначала шло при самых благоприятных обстоятельствах. Варварийские корабли плыли на юг по Адриатике, но вдруг подул противный ветер, и они едва добрались до острова Корфу. Вышедши с корфиотского рейда, Гассан, опасаясь бедствий на море, решился возвратиться в Венецию. Этим воспользовались сестра и дядя Карла Радзивила, намереваясь из Венеции сухим путем отправиться в Польшу. Принцессе также советовали воротиться, но роковая судьба влекла ее. С Карлом Радзивил ом перешла она на корабль Мехемета, который брался довезти их до Константинополя. Противные ветры однако понесли корабль назад, к северу, и в последних числах июля 1774 года Мехемет принужден был бросить якорь у Рагузы.
Рагузская республика не питала симпатии к Екатерине II: граф Орлов-Чесменский, начальствовавший русским флотом в Средиземном море, немало наделал досады ее сенату. Потому «великая княжна Елизавета» принята была местным населением с радостью, хотя сенат и воздержался официально признать ее в присваиваемом ею звании. Так же, как и в Венеции, принцессе уступлен был для помещения дом французского консула при Рагузской республике, де-Риво.
Этот дом сделался, так сказать, главною квартирой польско-французской экспедиции. Радзивил с знатнейшими членами своей свиты ежедневно обедал у «великой княжны всероссийской». Расходы платил «пане коханку».
XV
В Рагузе окончательно созрел план действий «принцессы Елизаветы». На ежедневных обедах поляки внушали ей мысль: торжественно объявить о правах своих на престол и в этом смысле послать воззвание в русскую армию, находившуюся тогда в Турции, и другое – на русскую эскадру, стоявшую под начальством графа Алексея Орлова и адмирала Грейга в Ливорно. Не более как через неделю по прибытии в Рагузу (10 июля) принцесса писала уже к Горнштейну, что намерена объявить о своем происхождении русским морякам и что это тем более нужно, что ее недоброжелатели уже распространили ложные слухи, будто она умерла. «Постараюсь, – писала она, – овладеть русским флотом, находящимся в Ливорно; это не очень далеко отсюда. Мне необходимо объявить, кто я, ибо уже постарались распустить слух о моей смерти. Провидение отмстит за меня. Я издам манифесты, распространю их по Европе, а Порта открыто объявит их во всеобщее сведение. Друзья мои уже в Константинополе; они работают, что нужно. Сама я не теряю ни минуты и готовлюсь объявить о себе всенародно. В Константинополе я не замешкаю, стану во главе моей армии, и меня признают». Далее «великая княжна» упоминала о документах, доказывавших будто бы права ее на корону.
Документы эти были составлены, по всей вероятности, поляками. Хотя при деле находятся они переписанные рукой самой претендентки[124], но по сличении их с письмами ее и с другими бумагами не остается сомнения, что они въштли из-под редакции не самозванки, а другого лица, лучше ее владевшего французским языком. Один из документов (духовное завещание императрицы Елизаветы Петровны) найден в бумагах принцессы в двух экземплярах: один переписан ее рукой, а на другом, с которого, вероятно, она списывала копии, находится ее собственноручная надпись: «Testament d'Elisabeth, Princesse imperiale de toutes les Russies». По удостоверению составителя «Записки о самозванке», помещенной в «Чтениях», почерк последнего не имеет сходства ни с почерком князя Лимбурга, ни с почерком лиц, составлявших его общество, стало быть, означенные документы были писаны не в Оберштейне. По всей вероятности, они были приготовлены поляками заблаговременно и вручены принцессе в Рагузе. Может быть, это была работа Доманского или Чарномского. Так полагает граф В. Н. Панин, доставивший сведения о самозванке в императорское Общество Истории и Древностей.
Вручившие принцессе копии с духовных завещаний уверили ее, что русские подлинники хранятся в надежных руках. Так впоследствии сама она писала графу Орлову.
Документы эти состояли из подложных духовных завещаний Петра I и Елизаветы Петровны и из экстракта действительного завещания Екатерины I. Завещание Петра I состоит из шести пунктов. Первым назначается преемницей императорского престола Екатерина (la czarine), в остальных находятся следующие распоряжения: Екатерине наследует великий князь Петр Алексеевич и его потомство, а дочери ее получают завоеванные Петром области: остров Эзель, Эстляндию и Лифляндию, а также доход с рижской таможни. Великий князь Петр Алексеевич должен жениться на принцессе из дома Любекского. Если он не оставит потомства, русская корона переходит к Анне Петровне и ее наследникам, с тем однако, что тот из них, кто будет на шведском престоле, не может быть русским императором. Если Анна Петровна не оставит наследников, престол переходит к Елизавете Петровне и ее потомству.
Экстракт из духовного завещания Екатерины I во всем согласен с действительным завещанием этой императрицы.
Вот мнимое завещание императрицы Елизаветы Петровны:
«Елизавета Петровна (?), дочь моя, наследует мне и управляет Россией так же самодержавно, как и я управляла. Ей наследуют дети ее, если же она умрет бездетною – потомки Петра, герцога Голштинского[125].
Во время малолетства дочери моей Елизаветы, герцог Петр Голштинский будет управлять Россией с тою же властию, с какою я управляла. На его обязанность возлагается воспитание моей дочери; преимущественно она должна изучить русские законы и установления. По достижению ею возраста, в котором можно будет ей принять в свои руки бразды правления, она будет всенародно признана императрицею всероссийскою, а герцог Петр Голштинский пожизненно сохранит титул императора, и если принцесса Елизавета, великая княжна всероссийская, выйдет замуж, то супруг ее не может пользоваться титулом императора ранее смерти Петра, герцога Голштинского. Если дочь моя не признает нужным, чтобы супруг ее именовался императором, воля ее должна быть исполнена, как воля самодержицы. После нее престол принадлежит ее потомкам как по мужской, так и по женской линии.
Дочь моя, Елизавета, учредит (верховный) совет и назначит членов его. При вступлении на престол она должна восстановить прежние права этого совета. В войске она может делать всякие преобразования, какие пожелает. Через каждые три года все присутственные места, как военные, так и гражданские, должны представлять ей отчеты в своих действиях, а также счеты. Все это рассматривается в совете дворян (Conseil des Nobles), которых назначит дочь моя Елизавета.



