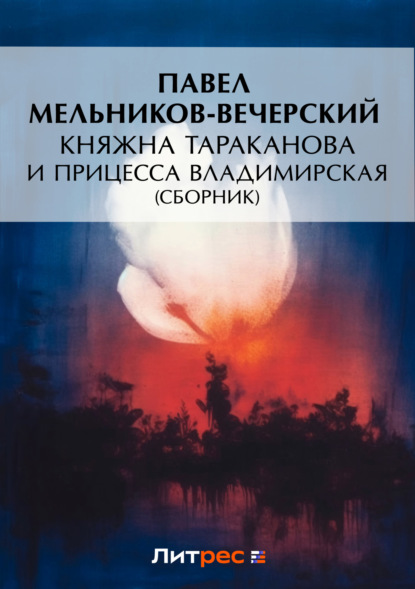 Полная версия
Полная версияКняжна Тараканова и принцесса Владимирская (сборник)
Был октябрь на исходе; я прозяб, даром что в дормезе сидел; сильно подмораживало. Вышел из экипажа, иду по лестнице – освещена. Вот, думаю, как бы везде такие станции были, ездить бы сполагоря. А то по нашим местам избушки на курьих ножках: тесные, грязные, а клопов да тараканов видимо-невидимо.
Вхожу в комнату – большая, мебель прекрасная. У притолоки смотритель в струнку вытянулся… «Экий порядок!» – думаю.
– Лошадей! – приказываю смотрителю, а сам подаю ему подорожную. – Шестериком! Да дормез надо подмазать. Распорядись, любезный, а я покамест у тебя чаю напьюсь.
Тогда просто было: станционным смотрителям благородные «ты» говорили.
Смотритель подорожную взял, а сам ни с места. Иду дальше. Перед диваном – большущий стол. На нем маленький самоварчик. Пьет чай какой-то старикашка, сухой, сердитый, с кудреватыми волосами, в сереньком сюртуке. Такой неприглядный. «Должно быть, из земского суда», – думаю… Подошел я к столу, шапку положил, шарф с шеи размотал – тоже на стол. Обернулся, вижу: смотритель стоит, как вкопанный.
– Лошадь, – говорю.
Молчит смотритель, ровно солдат во фрунте.
Я опять к столу. Поворотился задом к старику, опять иду к смотрителю.
– Что ж, – говорю, – оглох ты, что ли?
Смотритель налево кругом и скорым шагом марш за дверь.
– Что, молодой человек? Откуда едешь? – сердито прогнусавил старик.
В наше время старые люди молодых тыкали: это обидным не считалось. Сухо ответил я:
– Из Питера.
– Что ж, ты, мой друг, сам-от петербургский?
– Нет!
– Откуда ж?
– Из Нижегородской губернии.
– Помещик?
– Помещик.
– Гм!.. Богатый?
– С меня станет.
– То-то: шестериком ездишь!.. В кармане-то, видно, густо.
– Чахотка.
– Не по-чахоточному ездишь. Здесь ведь прогоны большие.
– Это уж мое дело, – говорю, – а сам думаю: «что это он пристал ко мне?»
– Чайку не хочешь ли? – спрашивает.
– Да вот смотритель, каналья, до сих пор не распорядился. Я сам хотел здесь чай пить.
– Пьем вместе: у меня пареной травки в чайнике много. Выпьют же даром.
– Пожалуй… – сказал я. – Да вот прежде смотрителя надо хорошенько повернуть.
Подойдя к окошку, отворил я форточку и крикнул: «Смотритель!»
Раз крикнул, два крикнул, три крикнул: ни духу ни послушания. Ровно все вымерли. А слышно: чуть-чуть копошатся.
– Что горячишься? – гнусит старик. – Аль крепко надо спешить? Зазноба, что ли?
– Некуда мне спешить, а досадно, что смотритель порядков не знает: проезжающих нет, а он лошадей не дает… Вам ведь парочку?
– Да, парочку. Я все на парочке езжу.
– Что ж это он? И глаз не кажет! – с досадой говорю я про смотрителя.
– Не кипятись. Успеешь, мой друг. Выпей-ка лучше чайку стаканчик.
И, вынув из обитого тюленьей шкурой погребца граненый стакан, налил чаем и придвинул ко мне.
– С прикуской пьешь али внакладку?
– Внакладку.
– Как же тебе не внакладку? Богат! Помещик! – И положил сахару в мой стакан.
– А что, мой друг, – спросил он, немного помолчав: – служишь, что ли?
– Теперь не служу.
– Что ж так?
– Да так, по грамоте о вольности дворянства. «Хочем – служим, хочем – нет».
– Гм! Что ж поделываешь?
– Да ничего не делаю.
– Уж будто и ничего? В Петербург-от зачем ездил?
– Не по своему делу, – отвечаю, прихлебывая чай.
– По чьему же?
– Соседа по деревне – Приклонского Андрея Петровича.
– Что же у него за дела?
– Самые поганые, – говорю, – по откупам да по заводу винокуренному.
– Гм! Что ж за дела такие?
– Хорошенько-то и не знаю. Мое дело было справки взять да кой-кому руки смазать.
– Что ж, смазал?
– Смазал.
– И пошло дело?
– Еще как пошло-то!
– Гм! А где смазывал?
– Известно где! – И сказал, где смазывал.
– Гм! И взяли?
– Еще бы не взять!
– И не поморщились?
– Не ежа, чать, в руки-то совал, а деньги. Зачем же морщиться?
– Гм! Выпей еще стаканчик.
– Выпью. А сами-то вы откуда будете? – спрашиваю я у него.
– Недальный. Тоже помещик.
– Новгородский?
– Новгородский. Вот недалеко отсюда деревнюшка у меня есть.
– А едете откуда?
– Неподалеку отсюда по делишкам ездил… А как твое имечко святое?
– Иван.
– По батюшке-то как звать?
– Кондратьич.
– А фамилия какая?
– Рыбников.
– Как же это ты, друг мой, Иван Кондратьич, дельцо-то сладил? Говорят, винное дело мудреное. Разве сам прежде кабацкой частью занимался?
– Не бывал я по кабацкой части и не буду… Не дворянское дело… Да что это однако здесь за смотритель? Вот я поверну его по-своему!
И пошел было к дверям.
– Да ты крикни опять его в форточку. Авось услышит, – гнусит старик.
– И в самом деле, – молвил я.
Кричал-кричал я в форточку, и грозил смотрителю, и ругался – ответа нет как нет. А под окном шушукают.
– Ицка! – крикнул я.
Молчат.
– Ицка! Ицка!
– Что у тебя там за Ицка такой? – спрашивает старик.
– Жиденок.
– Как жиденок?
– Да так жиденок. Жидом родился, так и значит жид.
– Гм! Что ж он тут делает?
– Да со мной едет.
– И в Петербурге был?
– И в Петербурге был.
– Жид-от?
– Да! А что?
– Паспорта разве не спрашивали?
– Зачем паспорт? Ицка у меня за крепостного дворового человека.
– Гм! Как же это ты, Иван Кондратьич, на такое дело решился?
– Отчего ж не решиться? Не я первый, не я последний. А я бы еще стаканчик выпил.
– Пей, Иван Кондратьич, пей, мой друг!
И старик налил мне еще стакан чаю.
– Ну что, как у вас в губернии?
– Ничего, слава богу!
– Урожай хороший?
– Порядочный.
– В вашей губернии народ зажиточный, мужики богатые?
– Исправный народ, – ответил я. – Не то что здесь.
– А здесь разве тебе не нравится?
– Нет, не нравится.
– Чем же не нравится?
– Да как же это? Всех мужиков в солдаты хотят поворотить. Штабов да казарм вокруг Новгорода настроили – одно только стеснение. Мужику дай простор, он и будет исправен. А это на что похоже?
– Что ж тут нехорошего? – спросил старик, немножко насупившись. – Молод еще ты, сударь, так рассуждать!.. Над этим делом работали умы государственные.
– Черта с два!.. Государственные умы!.. Еще здешний, а не знаете, что туг Аракчеев всем ворочает.
– Так Аракчеев, по-твоему, не государственный человек? – глухо и как бы с одышкой прогнусил старик.
– Далеко кулику до Петрова дня!.. Да что об этом дьяволе толковать! Налейте-ка лучше еще стаканчик. А я вас за то отличной пуляркой угощу. Вот только Ицку кликну.
– Не суетись, мой друг. Подожди – успеешь. Ведь нам с тобой торопиться некуда. Потолкуем пока.
– Зачем же из пустого в порожнее переливать да время даром терять? Закусим и марш: вы в деревню, а я в Москву белокаменную.
– А что ж, Иван Кондратьич, в вашей-то губернии, без Аракчеева, разве легче житье-то?
– У нас, батюшка, свои Аракчеевы есть… Чинами только не выше, а то б и почище его были.
– Кто ж это такие?
– А хоть исправники, например… Что они теперь творят!.. У мертвого волос дыбом станет.
– Что ж такое?
– Да хотя бы насчет березок. Какому-то черту пришло в голову березками дороги обсаживать.
– Эта мысль тоже графа Аракчеева!
– Должно быть, что так… Хорошему человеку придет ли на ум такая штука? Теперь мужик летом, чем бы на пашне работать, береги каждую березку, окапывай ее, очищай; подсохнет – новую сади… Лист на которой чуть пожелтеет – поливай ее, либо новую сади. Одна покормка земской полиции чего станет?.. Березки-то, известно дело, не вырастут, а по двадцати копеек с дерева уж собрано.
– Куда же?
– Известно куда! Не нам с вами.
– Земска полиция?
– А то кто же?
– Гм! Сильно берут?
– Да как же и не брать-то?.. Свет на том стоит. Все берут.
– Неужли все?
– Да кто ж враг себе, кто откажется? В Петербурге сам царь живет, да с меня взяли же; а у нас вдалеке и бог простит.
– Гм! Так ты, друг мой Иван Кондратьич, давеча сказал, что у вас в губернии свои Аракчеевы есть. Значит, по-твоему, и Аракчеев взятки берет?
– Взяток не берет, зато с мужиков по три шкуры дерет.
– Гм! Не хочешь ли еще чайку-то?
– Нет. Я вот за пуляркой схожу. Спит мой жид, должно быть.
Накинул я шинель, шапки не взял: оставил ее на столе, возле старика. Вышел я из комнаты, сошел вниз.
– Где, – говорю, – смотритель?
– Здесь, ваше благородие, – отвечает он.
Смотрю: подле тележки стоит. А в тележку лошади заложены отличнейшие.
– Что ж лошадей?
– Сейчас, ваше благородие. Позвольте только графа отправить.
– Какого графа?
– А графа Аракчеева.
– Где он?
– А чаем-то вас потчевал.
Поднимаюсь наверх тихохонько. Отворил дверь, стал у притолки. Руки по швам.
Аракчеев по-прежнему сидит на диване, погребец запирает. Взглянул на меня.
– Аль со смотрителем поговорил? – спрашивает.
Открыл я рот. Хвать, язык-то не ходит.
– Подь сюда, Иван Кондратьич!
И ноги не действуют.
Сам подошел ко мне, положил руку на плечо и гнусит:
– Вот тебе, молодой человек, урок. С незнакомыми языка не распускай. Говори подумавши. Чего хорошо не знаешь, про то судить не берись… Да и жидов в столицы не вози… Прощай, друг мой!.. Да заруби на носу: про что мы с тобой говорили, про то знают только ты да Аракчеев. Помни же это!
И ушел. Слышу, тележка покатила по шоссе. Тотчас крик да говор пошел на улице.
До самой смерти Аракчеева никому не смел я заикнуться про нашу встречу. Твердо помнил, что велено было на носу зарубить. С Аракчеевым шутить было нельзя. – Сибирь не своя деревня.
Раздался клубный звонок.
– Ну, прощайте, господа! звонок. Штрафа платить не намерен, – сказал Иван Кондратьич и ушел из клуба.
Семейство Богачевых
I
Семен Родионович Богачев
Лишь только путник спустится с крутого склона дороги, прорытого между двух довольно больших холмов под самым губернским городом В***, и переедет реку Кимжу, когда-то глубокую и многоводную, а теперь хотя и быструю, но мелкую, как тотчас же во всей окружающей обстановке заметит резкую перемену. Прежняя глинистая почва, при первом дожде превращающаяся в какой-то липкий кисель, переходит в не менее утомительный для пешехода сыпучий песок; вместо прежних гладких полей и лугов, по которым, как островки, были разбросаны там и сям небольшие рощицы, взорам путника представляется громадная пойма, а за ней синеют обширные сосновые леса, потомки тех лесов, которые в прошлом столетии сплошной непроходимой грядой тянулись далеко за Кимжу и наконец сливались с когда-то знаменитыми лесами Муромскими.
Так едете вы верст девяносто. Но вот лес мало-помалу начинает редеть, все дальше и дальше отодвигаясь от дороги, и наконец вы выезжаете на огромную поляну, на которой широко раскинулась зеркальная поверхность громадного озера, на отдаленном берегу которого вы видите какие-то странные, своеобразные постройки, общим видом напоминающие не то крепость, не то какой-то средневековый замок. Широкая плотина охватила озеро с южной стороны; посредине этой плотины возвышается большое и красивое двухэтажное здание, в нижнем этаже которого вы видите огромную арку; левее здания целый ряд построек, похожих на длинные каменные сараи; над одним из этих сараев бьет целый ряд огненных фонтанов, которые, по мере того как сумерки начинают окутывать землю, становятся явственнее и явственнее; за сараями возвышается увенчанный пятью главами красивый храм. Вы едете дальше, и до слуха вашего начинает долетать смесь самых разнообразных звуков; тут вы слышите разом шум и плеск падающей воды, грохот вертящихся под ее напором колес, какой-то отдаленный и глухой гул, и все это заглушается страшными громовыми ударами, раздающимися из одного из сараев, над которым высоко подымаются огненные столбы.
– Что это за крепость? – невольно спрашиваете вы ямщика.
– А это Селезневский завод Богачева, – отвечает возница. – Вон видишь: длинные-то сараи – это и есть самый завод, а где огненные-то столбы ходят, это молотовая.
– А это что за двухэтажный дом с воротами?
– Это господский дом да разные господские заведения, – поясняет ямщик.
Едем дальше.
Миновав небольшую деревушку Выселок, мы поехали вдоль какой-то каменной постройки, тянувшейся с добрую четверть версты; далее началась массивная ограда во вкусе екатерининских времен; потом мы въехали в довольно узкие ворота, и взорам нашим представился грандиозный дворец. Посредине он двух этажей, а по бокам его идут два одноэтажные флигеля; правый из них отделяет господский двор от заводской базарной площади, посреди которой воздвигнут красивый храм, а левый флигель упирается в то длинное каменное здание, вдоль стены которого мы только что ехали. Правее ворот еще двухэтажный корпус; это заводская контора.
Войдемте же в господский дом.
Пройдя огромный, мрачный, вымощенный чугунными плитами коридор нижнего этажа, мы очутимся на крыльце заднего фасада дома, выходящем в сад. Вид с крыльца превосходный: прямо перед вами расстилается широкая, усыпанная песком эспланада, края которой с необыкновенным вкусом убраны бесчисленным множеством цветов; левее эспланады видны огромные и красивые оранжереи, а прямо перед вами, с лишком на 120 сажен, тянется грандиозная липовая аллея, огромные деревья которой ясно свидетельствуют об ее более чем полувековом существовании; в конце аллеи видны развалины большой каменной беседки, а далее, как зеркало, блестит огромное озеро.
Между оранжереями и восточной стеной сада лежит огромный пустырь, в котором, кроме глуши и дичи, вы не встретите ровно ничего; где-то где торчит одиноко какое-нибудь жиденькое деревцо да куст можжевельника; посредине пустыря глубокий овраг. Тяжелое впечатление производит это как бы забытое всеми место сада, к которому, кажется, никогда и не прикасалась рука человеческая. Это так называемый «Страшный» или «Пантюшкин» сад, имеющий свою таинственную историю.
Но возвратимся к дому.
Поднявшись по одной из лестниц, ведущих из мрачных сеней во 2-й этаж, и повернув налево, вы входите в роскошный зал, убранство которого великолепно; такие залы нельзя встретить в частных домах; они присуши только царским чертогам. По бокам залы два балкона: один выходит на эспланаду сада, другой на господский двор, озеро и заводские постройки с их огненными фонтанами, шумом и грохотом. Вид с этого балкона восхитительный. Влево от залы начинается целая анфилада поистине царских комнат, а за ними следуют уже и жилые покои. Это жилая половина дома. Правее зала расположен также целый ряд комнат, но они необитаемы и представляют страшное запустение и развалины, незаметные только снаружи. Нижний этаж по расположению комнат напоминает верхний, а под этим этажом находятся подвалы, частью от времени разрушившиеся, и молва гласит, что из некоторых подвалов когда-то были подземные ходы, выходившие в поле. Молва эта, может быть, и справедлива, если принять в расчет время и обстоятельства, среди которых жил основатель и первый владелец селезневского завода, Семен Родионович Богачев, имя которого и теперь, более полувека спустя, произносится на заводе с каким-то паническим страхом.
– Кто же был этот грозный Семен Родионович? – спросит читатель.
Прадед Семена Родионовича, Кирилл Дементьев Богачев в конце XVII века числился в разряде «тульских казенных кузнецов и ствольных заворщиков»; иными словами: был житель Тулы и принадлежал к податному сословию, между тем как предки его в первой половине XVII века числились в разряде бояр и детей боярских. Каким образом утратилось потом дворянское достоинство Богачевых, неизвестно; но, как бы то ни было, Семен Родионыч и его родной брат Иван принадлежали к податному сословию и в половине прошлого столетия значились «железных водяных заводов содержателями». В это время братья Богачевы имели в Туле несколько фабрик: молотовую, гвоздевую, катальную и др., на которых и работало до полутораста человек, частью вольнонаемных, а частью купленных Богачевыми на чужое имя. Для такой купли они имели даже особого «подручного» человека, некоего чиновника Долговского, на имя которого и совершали купчие крепости.
Семен Богачев был человек твердого характера, человек в высшей степени энергичный и, что называется, широкая натура, и потому узкие рамки тульской деятельности оказались ему тесны; он задумал устроить что-либо более грандиозное, и вот его проницательный взор остановился на глухой, лесистой и многоводной местности верховьев Оки, богатой углеродно-кислым железняком.
Как раз кстати меньшой брат Иван женился в то время на богатой девушке, и Семен, недолго думая, предложил брату употребить женин капитал в дело; тот согласился, и вот в 1755 году в 4-х верстах от Оки возник первый завод Богачевых – Унженский, а через три года на границе губерний В*** и Р*** возник и известный уже читателю завод Селезневский, а спустя 8 лет они основали превосходный завод Пыхсинский, служивший любимым их местопребыванием. В 1783 году братья полюбовно разделились: Селезневский завод, вместе с тремя другими, всего более 10 тыс. душ, достался Семену Родионовичу, а в том же году императрица Екатерина II возвратила Богачевым и их прежнее дворянское достоинство.
Впрочем, при приобретении земель действовала не одна купля, а Семен Родионович употреблял для этого и иные средства.
В то время по верховьям Оки ютились целые разбойничьи шайки, для которых Богачев был истинной грозой; он всячески истреблял эти шайки, но зато первый же захватывал в свои руки имения мелких землевладельцев, из которых редкий не был в дружбе с разбойниками; в ограждение-то от них Богачев и построил свою усадьбу-крепость и для всякого случая сделал из нее подземные ходы в чистое поле. Молва гласит, что Богачев нередко пускал в ход еще и следующий забавный способ приобретения чужой собственности. Семену Родионовичу приглянулся, положим, известный участок земли, и вот он объявляет свою претензию на эту дачу; приезжают следователи; собирают крестьян-понятых, которых по приказанию Богачева тотчас же и ведут на барский двор, велят разуться и в их лапти насыпают земли с богачевского двора; затем понятые обуваются и идут на спорную дачу.
– На чьей земле стоите? – спрашивает следователь.
– На богачевской! – отвечают в один голос понятые, и дача, понятно, остается за Семеном Родионовичем.
А вот для примера и еще случай приобретения крестьян и земли, доказывающий полнейшее всемогущество Богачева. У одного из соседних помещиков Богачев оттягал деревню Роксаново, причем прежний ее владелец исчез неизвестно куда; наследники помещика начали дело, приехали следователи, которые осмотрели издали и самую деревню и, переночевав у Богачева, утром собрались ехать в Роксаново; вьштли на крыльцо, и что же?.. Видят, что деревни как не бывало!
– Где деревня? – спрашивают следователи у понятых.
– Знать не знаем и ведать не ведаем! – отвечают те. – Да такой деревни у нас и не было!
С тем следователи и уехали от Богачева. После оказалось, что две тысячи человек работали в ночь пребывания на заводе следователей; деревню разнесли по бревнышку, а землю вспахали, так что и следа деревни не осталось, а жителей ее Богачев разослал по своим заводам.
Вообще Семен Богачев был человек с железным характером, непреклонной волей и большой самодур; но, будучи в то же время человеком умным, умел ладить с сильными мира сего, а потому всякое самодурство и сходило ему с рук. Он был любим даже князем Потемкиным-Таврическим и находился с ним в дружеской переписке. Хотя лично с князем и не был знаком, но зато заочно умел заслужить своими подарками полное его расположение; зимою, например, Богачев посылал князю свежие фрукты из своих великолепных оранжерей, а когда, говорят, Потемкин стоял под Очаковом, то Богачев посылал ему туда соленых рыжиков и других любимых князем яств. Одним словом, он как нельзя лучше умел угодить вельможному князю. Зато с местными властями Богачев обращался вполне бесцеремонно. Раз по какому-то делу приехал к нему губернатор, но Семену Родионовичу почему-то не заблагорассудилось его видеть, и он велел сказать губернатору, что он принять его не может. Делать было нечего, и губернатор поехал в ближайший уездный город К***. Между тем Богачев вручил одному из своих слуг пакет, велел обогнать губернатора и, дождавшись на крыльце его городской квартиры, вручить пакет его превосходительству. Слуга исполнил приказание в точности, а превосходительство остался такой выходкой Богачева очень доволен, так как в пакете было вложено 50 тысяч рублей. Самодурство Богачева иногда доходило до того, что он считал для себя все возможным; невозможного для него ничего не было, а время и расстояние для него как бы и не существовали. Уездный город К*** город отчасти татарский; татары народ довольно честный, и потому Богачев вел с ними большую дружбу; особенно он любил некоего Селима, которому потом составил большой капитал и выстроил в К*** дом. Раз Селим приехал к Богачеву.
– Ну, что твой дом? – спросил Богачев.
– Да еще не отделан, – ответил Селим.
– Ну, так останься у меня на день.
Селим остался. Вдруг около полуночи Богачев разбудил Селима и велел ему ехать домой. Приехал Селим в новый дом и видит, что точно какой-то волшебной силой дом был превосходно отделан. Сто человек Богачев отрядил накануне в К***, и они-то в течение суток вполне отделали дом Селима.
В числе прочих заводов у Богачева был завод Верхнеунженский, стоявший в непроходимом месте. В 1788 году Россия объявила войну Швеции. Богачев, пользуясь этим случаем, предложил государыне отлить безвозмездно для артиллерии пушки и ядра. Государыня охотно приняла предложение; пушки были отлиты и кое-как при помощи солдат были доставлены в Селезневский завод. Но тут случилось нечто неприятное для Богачева: офицер-приемщик начал браковать богачевские изделия; Семен Родионович этого не стерпел, рассерженный вбежал к офицеру, и что между ними происходило – неизвестно; известно только, что офицер неожиданно куда-то исчез, но куда, этого никто не знал. Приехал другой офицер, который все и принял, а Богачев за свои изделия получил чин, дорогие подарки и дозволение иметь почетную стражу, которая постоянно окружала его дом и конвоировала его карету.
Несмотря, однако, на непреклонную волю, сильный характер и строгость, Семен Богачев не был жесток.
Раз только проявил он свою жестокость. Однажды перед ним провинился какой-то Пантелей, или попросту – Пантюшка. Богачев велел поставить его в деревянную рамку и подтянуть петлей за горло так, что тот мог стоять не иначе, как только на пальцах ног. Долго ли стоял в таком ужасном положении несчастный Пантюшка, неизвестно; только он был найден потом удавленным. Богачев приказал похоронить его по-христиански, но священник было заартачился. «Передайте попу, что если он не исполнит моего приказания, – сказал разгневанный Богачев, – то я познакомлю его с «домной»[32]. Делать было нечего: против рожна прать было нельзя, и Пантюшка был отпет по-христиански.
Таков-то был Семен Родионович Богачев.
Некоторые старожилы помнили его уже семидесятилетним стариком. По их рассказам, лицо он имел выразительное; на нем ясно отражались и его ум и его железная воля; лоб у него был широкий; брови тонкие, сдвинутые к широкому носу; губы тонкие; темно-русые с сильною проседью волосы он носил под гребенку. Он умер 19 декабря 1799 года, 73 лет, и похоронен у престола заводской кладбищенской церкви. Над могилой его поставлен двухсаженный каменный столб, увенчанный шаром и крестом.
Предание говорит, что незадолго до смерти Богачева случилось довольно странное происшествие. По случаю какого-то праздника у Богачева был бал, а в саду иллюминация. Когда гости толпой пошли по главной аллее сада смотреть освещение и дошли до находившейся в конце аллеи каменной беседки, то вдруг на крыльце последней появился огромный черный человек с оскаленными зубами. Все, конечно, в испуге бросились назад и сообщили об этом Богачеву. Говорят, что Богачев, услыхав это, страшно побледнел и сказал: «Это смерть моя приходила за мной!» И действительно, немного времени спустя Богачев умер.
II
Наследники Семена Богачева
Семен Родионович был женат, и от этого брака имел сына Сергея, которого мы будем называть «Сергей старший». Покойный Семен Родионович почему-то сильно недолюбливал его, а потому Сергей Семенович не только не жил с отцом, но никогда не бывал у него, а проживал на одном из его дальних заводов. Овдовев, Богачев жил с любовницей, какой-то Марфой Гавриловой, от которой также имел сыновей: Сергея младшего, Александра и Григория.
Когда Богачев умирал, то при нем не было ни сына Сергея, ни внука Петра, уже семнадцатилетнего юноши, вообще не было никого из родных, а его окружали одни только приказчики и другие его служащие, которые и спросили умирающего: кому он предоставляет свое громадное имение и состояние?



