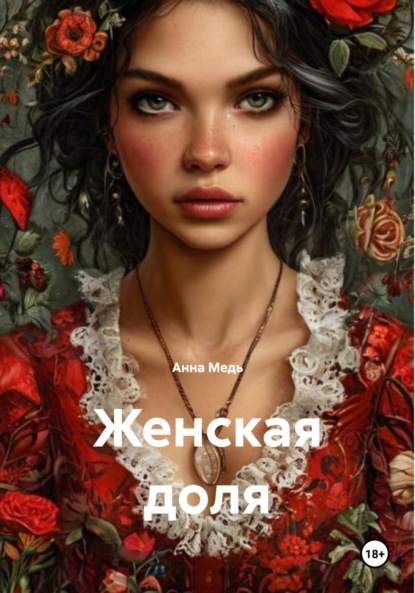
Полная версия:
Женская доля

Анна Медь
Женская доля
Тайна барина -1
– Смилуйся, барин! – Марфа упала на колени перед барином. – Откуда ж мне пятьдесят рублей взять? Христом-Богом молю, повремени, пощади вдову с сиротами! Только вчера гробы к кладбищу увезли, не до денег было.
Марфа стояла посреди пустой избы, седые пряди выбились из-под платка, глаза ослепли от слез, а дрожащие пальцы мяли край поношенного платья. Лишь вчера схоронила она мужа да двух сыновей… Кричала над тремя домовинами, словно хотела докричаться до смерти, выкрикнуть ей свою боль.
Как же так? Была семья, полный дом, и вдруг холера забрала их в одночасье.
Да только пришла беда – отворяй ворота. Едва отплакали над покойниками, как утром заявился в избу барин Баранов, местный богатей. Долг требовать принялся, который еще муж покойный сделал, когда неурожай случился в деревеньке.
И сейчас Баранов ходил по тесной избенке по-хозяйски, высматривал, что бы забрать у вдовы в счет долга. Поправлял тугой воротник сюртука и отворачивался брезгливо, не по себе даже в этой ужасной бедности и черноте находиться.
Тем более такому, как он! Хоть и сорок пять лет стукнуло на днях, а за внешностью следит, усы подкручены, волосы маслом уложены, руки холеные, ноги в мягких сапожках.
Взгляд его скользнул по углам избы, задержался на образах, потом остановился на девушке, что притаилась в темном углу.
– А это кто у тебя? Младшенькая? – голос его стал масляным, точно кот мурлычет при виде сметаны.
Нехорошо екнуло у Марфы сердце. Настенка кинулась к матери, ухватилась за ее плечо тоненькими, почти прозрачными пальчиками. Четырнадцать лет девочке, легкая как былинка, личико справное, глаза в пол лица. Смотрит испуганно, зачем она богатею сдалась.
– Дитя она, барин, не вздумай!
Марфа поднялась с колен, загородила дочь собой. Сердце материнское почуяло беду в расспросах Баранова.
– Несмышленая совсем!
А тот не сводил уже с Настенки взгляда.
– В четырнадцать-то? Чего мелешь-то? Ребенок! Да моя покойная матушка в эти годы уже просватана была. Пригожа девка, ничего не скажешь.
Он рассматривал ее, словно какую-то вещь. И взгляд его ничего хорошего не сулил… Потом вдруг сплюнул прямо под ноги Марфе:
– В тебя пошла, ты молодая тоже была – любо-дорого смотреть. А сейчас… Аж воротит.
Марфа молчала, а что тут скажешь. Ведь сорок лет ей, а уже седая и в дугу гнутая. Тяжелая жизнь крестьянская, вот и красота вся ее в работе растерялась. Одна тень от той молодухи…
Вдруг грохнул ухват, это старшенькая у печи Дуня половчее его в руку прихватила. Вот она-то взгляда не прятала, не таилась от барина.
Двадцать лет ей, высокая, смуглая, с тяжелым взглядом исподлобья. Смотрит так, что непрошеный гость заторопился, занервничал, пора кончать с делом.
– Вот что, Марфа, – начищенные сапоги заскрипели по стареньким половицам. – Долг за тобой, ждать нет у меня корысти. Муж твой на кладбище, так что спрос с тебя. За долги младшую в услужение ко мне забираю. Будет в доме за мной ходить. И долг твой прощу, и девке пристанище, хоть поест досыта, а будет покладистой…
Улыбнулся Баранов гадкой, скользкой ухмылочкой.
– Так, может, и хорошей жизнью заживет. Я же добрый, если угодить мне.
Марфа вскрикнула, покачнулась. Знала она, о чем говорит барин, вся деревня им перепорчена. Падок он до греха и девчат невинных.
– Барин! Не губи! Сама пойду полы мыть, печи топить! Любую работу черную дай! Только Настеньку не трогай!
Баранов лишь скривился:
– Завыла, слушать тошно. Уймись, старуха, ты мне без надобности. Страшная, что глаза воротит.
Он ткнул кулаком в серую стену избы.
– Будешь упираться, так завтра становой приедет за долгом! Из избы вас всех на улицу погонит, пойдут твои девки нищенками по миру с протянутой рукой. А тебя, упрямицу, в острог за долги упеку. Проценты за долг идут, завтра не пятьдесят рублей, а больше будет.
Дуня выпустила ухват, тот с грохотом упал на пол. Баранов обернулся, прищурился на нее. Может, старшую тоже взять в счет долга?
И замотал головой, ну нет, больно суровая, взгляд что камень. С такой сладу не будет. Не то что эта, тоненькая, тихая, все сделает, как он велит. Он таких любит – покорных… Как же сладко Настеньку мучать будет до слез!
Дуня подняла ухват, и Баранов дернулся к двери. Ну ее, еще пришибет, с такой станется.
Уже с крыльца выкрикнул:
– Завтра заберу младшую! Смотри, Марфа. Худо будет, если надумаешь дурить. Я шутить не люблю. Тебя – в острог, а этих – на паперть!
Хлопнула дверь. Марфа на дрожащих ногах кое-как добрела до лавки и навзрыд расплакалась. Горько и безутешно… Что за беда с ее жизнью, одно за другим горе в дом стучится.
Младшенькая обняла за плечи.
– Маменька, не плачьте! Может, деньги где найдем? По соседям пойдем, попросим. Кто копеечку даст, а кто три.
Марфа вытерла слезы концом платка:
– Уже собрали всем миром на похороны… Кто же снова даст, да и отдавать не с чего. На пропитание нет, все на лечение ушло, что копили вам в приданое. Пятьдесят рублей… на рубль четыре пуда хлеба можно купить, откуда у нас такие деньги. Нам не долги отдавать, а с голоду бы не околеть.
Настенка заплакала следом за матерью, по-детски со всхлипами и большими слезами. Как им жить дальше? Неужели придется девичьей невинностью за долг платить…
Одна Дуня оставалась спокойной. Только руки выдавали волнение – дрожали мелко, пальцы дергались, будто до сих пор ухват сжимают.
– Матушка, я пойду к барину служить.
– Что ты говоришь?! – Марфа вдруг вскинулась. – Не бывать этому! Не пущу!
Но старшая упрямо замотала головой:
– А что делать? Настя маленькая еще, она не выдержит… того, что он задумал.
Марфа снова зашлась в слезах:
– За что нам такая напасть?! Муж помер, сыновья в сырой земле, теперь вот дочерей у меня отнимают!
Причитала Марфа, голосила, пока не упала совсем без сил. Дуня укрыла мать овчиной, а сама сестру уже тащит во двор.
– Бежать тебе надо, – в руках у нее оказался тощий узелок с пожитками, сухая краюха да луковка. – Уходи, пока матушка спит. Иди к тетке Прасковье в Семеновку, там тебя никто не найдет.
Младшая испуганно смотрела на черноту за воротами, где утонула сельская дорога.
– Как же я брошу вас? Как перед барином ответ держать будете? – она неуверенно взяла в руки узелок и все никак не решалась сделать шаг от родного дома.
Но Дуня уже все решила.
– Мы тут останемся. Утром скажем барину, что ты заболела, и тебя к знахарке отправили. Он побоится лихоманки, меня в услужение заберет. А уж я-то ему не дамся, отвечу!
– Не поверит он, – Катюша смелостью не отличалась. – Хуже будет. Матушке горе опять, как же без ее дозволения прятаться.
– А что может быть хуже? – Дуня повела младшую решительно на улицу. – Иди потихоньку, к утру в Семеновке будешь, тетка приютит тебя. А матери я все расскажу, как проснется. Дорогу знаешь? Через огороды, через овраг – и в лес.
Настенка сделала несколько шагов, слезы градом лились по щекам. Сестра обняла ее на прощанье:
– Не плачь, лучше молитвы читай. Вот увидишь, я беду отведу от нас. Уж придумаю что-нибудь!
Ночь выдалась темная, беззвездная. Настенка легким шагом пошла по дороге от родного дома, прижимая к груди узелок. И через миг растворилась в темноте, едва старшая успела проводить сестру крестным знамением.
Дуня вернулась в избу, проверила мать, и сама легла. Утро вечера мудренее. Правда, сон не шел. Все ворочалась, думала, как сестрица добралась, что утром барину сказывать о пропаже.
А на рассвете вскочила Марфа, глянула – нет младшей дочки. Закрутилась волчком по избенке, где она, куда пропала? Старшая давай ее успокаивать:
– Матушка, надежно она укрылась. В Семеновку к тетке ушла! Там схоронится, Баранову скажем, что в лихоманке свезли к знахарке. Испужается болезни и отстанет. Начнет стращать недоимкой, так я вместо Кати к нему в услужение пойду.
Но Марфа вдруг кинулась к Дуне:
– Нет! Нельзя тебе к Баранову, ни в коем разе! Такой будет грех, что не отмолить.
Та нахмурила широкий, круглый лоб:
– Знаю я тот грех, не маленькая уже. Ничего, стерплю, матушка, не дите. Зато от острога уберегу тебя, а нас – от волчьей жизни без приюта.
Мать же кинулась в ноги Дуне:
– Еще хуже грех… И язык не поворачивается сказать. Ведь не знаешь ты правды про Баранова.
Едва успела Марфа прошептать дочке тайну про барина, чтобы та готова была любыми путями спастись, как загрохотали двери. Баранов за мздой своей явился. И не один, с помощниками из дворни своей, парочкой дюжих молодцев.
Как увидел пустую избу, с лица спал. Обманула-таки Марфушка! Заревел, словно черт на костре адском:
– Где младшая?!
Крестьянка молчит. Дрожит мелко, молитву читает, приготовилась уже муку принять. В острог так в острог, хоть на плаху, лишь бы дочерей не тронул. Барин оттолкнул ее, кинулся к печи да в подпол. Пусто!
– Обыскать избу! – приказал он дворовым.
Те бросились переворачивать нехитрый скарб, заглядывать в сундуки, под лавки. Дуня стояла посередине избы, словно окаменевшая, бледная. На лице ни кровинки, и только глазами черными буравит Баранова.
Перевернули дворовые вверх дном все, но беглянки не сыскали.
– Нету девки, барин, – доложил один из них.
– Сбежала, значит.
Баранов снова принялся Марфу мучать. Добыча из рук ушла, как тут не обозлиться до черноты в глазах? Уже думал всю ночь, мечтал, как с ней будет.
Вцепился он в седые волосы крестьянки:
– Думала, перехитрить меня удастся? Сейчас же говори, куда спрятала!
А та молчала, будто онемела. Ни за что дочь не выдаст, хоть убивай. Баранов швырнул Марфу об пол. Дуня вдруг в себя пришла, метнулась к матери, но дворовые преградили ей путь.
Она выкрикнула приготовленную ложь:
– Занеможила Настенка, у знахарки лежит.
Баранов и дальше трепет Марфу, мучает от злости:
– Дурить меня вздумала? Ладно. Раз младшей нет, старшую заберу. И не на год, а навсегда. Буду делать с ней, что пожелаю. Пожалеешь, что добром долг не отдала, во сто крат заплатишь теперь.
По его приказу дворовые схватили Дуню за руки. А та не сопротивлялась, будто злость ее куда-то делась. За ухват не хваталась, покорно сама пошла. Только сказала тихо Марфе на прощанье:
– Не гневаюсь на тебя, матушка. Греха на тебе никакого нет, все отмолено давно.
Баранов хоть и недоволен был, что не та добыча ему досталась, но все-таки успокоился – доказал свою власть, раздавил упрямую лапотницу!
Пихнул Дуню в спину:
– Ступай! Хоть одна в семье с головой. К кучеру сядешь на передок. И чтобы без выкрутасов, а то шкуру велю на конюшне спустить.
Ушла Дуня, словно под конвоем, за своим мучителем… А у Марфы от горя и сил уже не было встать.
Ползла следом, крестом дочку осеняла и шептала молитву. Может, поможет она, отведет бог от Дуни страшную беду, черный грех, после которого и жить тошно станет.
Баранов в коляске думать забыл о несчастной. Он уже от удовольствия потирал руки. Приедет и велит, чтобы сразу девку отмыли и нарядили. А потом начнется веселье. Знал бы он чем все закончился, так бы не радовался
Тайна барина -2
Хотел ломать ее барин, топтать до той поры, пока Дунька не перестанет на него волком смотреть. Уж больно зыркает своевольно. Ну ничего, сегодня позабудет о своем упрямстве навсегда!
Правда, не видел мучитель Дуниного лица, а то поменьше бы ликовал.
Дуня перед тем как вскарабкаться на облучок, обернулась к избе, где корчилась в сердечной боли мать. И во взгляде ее было упрямая воля, словно пообещала она сама себе: «Я вернусь, обязательно вернусь».
Утро в барской усадьбе началось со страшной вести:
– Беда! Барин наш… помер!
Принесла ее перепуганная горничная. Она заколотила спозаранку в дверь к управляющему.
– Барин помер! Помогите!
Тот высунулся в одних портках:
– Как помер? Что ты несешь, дуреха неграмотная?!
А та трясется и божится:
– Вот крест! В кабинете лежит! Синий! А рядом девка деревенская, что вчера привели. Страшная такая, глаза как у мертвой!
Управляющий натянул рубаху и бегом в барский дом. Не соврала горничная!
В кабинете и правда на полу лежал Баранов. Мертвый, уже и остыть успело тело. Лицо у мертвеца перекошено, глаза вытаращены. А рядом в кресле сидит Дуня, руки на коленях. Раздетая до исподнего, платьем прикрывается.
А на белом кипенном белье багровые пятна. Кровь! Управляющий попятился от нее – убийца!
– Ты чего, девка, наделала? Пришибла барина али прирезала? Признавайся!
Только крик его Дуню не испугал, все так же она смотрела сквозь него, будто рядом никого и нет. Но ответила:
– Удар у него приключился. Захрипел, барин, да и упал замертво. Я хотела помочь, но где мне. Я же не знахарка. Помер.
– Что ты врешь! Вон все платье в крови! – ткнул управляющий в подол.
Дуня на разбитый бокал указала:
– Так то вино. Барин бокал уронил, когда падал.
Огляделся управляющий – и правда, на ковре лужа засохла, осколки кругом. Да все равно страшно, уж больно спокойна девка. Равнодушно смотрит на мертвяка, словно и не боится покойника.
Послал он за доктором и становым, а девку от беды подальше закрыл на ключ в кабинете прямо с мертвым барином. Пускай с ней начальство городское разбирается, виновата или нет.
Но в одиночестве недолго просидела Дуня рядом с мертвецом… Вдруг скрипнул ключ в двери, и в кабинет проскользнула сгорбленная старушка в темном платке.
Кинулась к девушке:
– Дуня, деточка, – прошептала она, озираясь. – Беги отсюда, пока не поздно. Я тебя не выдам, спасу. Беги, ведь слушать не будут господа городские тебя. Увидят крестьянку, враз на каторгу сошлют без вины виноватую.
Дуня смотрела на нее с подозрением:
– На мне греха нет, не побегу.
Старуха подошла ближе, ухватила ее за руку костлявыми пальцами:
– Я ведь нянька барина самого, всю жизнь при нем служила. И тайну знаю, кто ты такая. Добра тебе хочу же! Барыня мне покойная, матушка Баранова, велела за тобой присматривать и беречь.
Лицо у Дуни потемнело:
– Так что же, выходит, знали? И молчали!
Старуха оглянулась на мертвеца и перекрестилась:
– Не время сейчас говорить. Беги, пока можешь. А то ведь…
Не успела остеречь… В коридоре уже загремели шаги, зазвенели голоса – жандарм с доктором! Старуха заметалась по комнате:
– Господи, что же теперь будет!
Да поздно…
Дверь распахнулась. На пороге стоял становой пристав в мундире, за ним – доктор в сюртуке. В коридоре толпились дворовые, управляющий. Все смотрели на Дуню… Будто она не человек, а зверь в клетке.
– Вот она! – указал на нее управляющий. – С барином была, когда он помер!
Становой прошел в кабинет, осмотрел тело, повернулся к девушке:
– Имя?
– Евдокия Филиппова.
– Что здесь произошло?
Дуня спокойно ответила:
– Барин вина хотел выпить, да удар его хватил. Вот и все.
Становой слушал девку с недоверием. Врет, шельма! Если не врет, так все равно виновата. Почему сразу на помощь не позвала? Кто-то же должен ответ нести за смерть Баранова. Сослать ее в острог. И всех делов!
Старая нянька прижалась к стене, губы ее беззвучно шевелились – то ли молилась, то ли что-то шептала. Как приметила, что становой уже Дуне руки тянет, арестовать ее, так и упала перед ним колени:
– Ваше благородие! Грех тайный открыть должна!
Все замерли. Становой нахмурился:
– Говори, старая.
Нянька подняла дрожащую руку, указала на мертвого барина, потом на Дуню:
– Дочь она ему… Родная дочь… Баранова она по крови, по рождению, благородная девица, а не крестьянка.
– Что ты мелешь, старая? – становой схватил няньку за плечо. – Какая дочь? Откуда?
– Ох, ваше благородие, выслушайте! – нянька заголосила, раскачиваясь на коленях. – Двадцать лет назад покойный барин… Царствие ему небесное… Марфу-то, крестьянку молодую, силой взял, а она и понесла от него. Девка родилась, Евдокией назвали.
Покойная барыня про внучку прознала, признала ее. Да молчала, лишь велела мне за девчонкой присматривать, от беды беречь.
Нянька вытащила из-за пазухи пожелтевший конверт:
– Вот покойница все в грамоте прописала, мне на сбережение оставила.
Становой взломал печати, развернул письмо. Читал долго, лицо его менялось – то хмурились, то удивленно поднимались брови.
– Так-так, – пробормотал он наконец. – Выходит, крестьянка Филиппова дочерью Баранову приходится? Неужто не соврала ты, старая, правду сказала.
– Правду… – вдруг раздался тихий голос.
Это заговорила Дуня. Все повернулись к ней, а она стояла прямо, подняв голову. В глазах ее не было ни страха, ни раскаяния.
– Чистая правда, – тихо повторила девушка. – Матушка вчера мне тайну открыла, что от барина я прижиток, вне закона рожденный.
Она бросила взгляд на покойника.
– Батюшка он мне по крови.
Дуня вдруг отвернулась от всех, уставилась в окно, где за стеклом разгорался день, солнце золотило верхушки деревьев. Говорить так легче, когда не видишь десятка удивленных лиц.
– Я вчера и барину-то сказала о том, напомнила ему про молодые прегрешения. Знала, что снасильничать он меня хотел, для того и забрал из дому, от матери вместо сестры. Ему все равно, не одна, так другая. Он мне раздеться велел до исподнего, я все сделала… А когда вино наливал, спросила: «Знаете вы, что я ваша дочка от Марфы? Кого хотите спортить? Дочку ведь кровную».
– Он сначала смеялся… Как услышал правду, побагровел весь, за сердце схватился. «Врешь!» – закричал. Я ему в ноги поклонилась, сказала: «Матушка врать не станет, на кресте призналась. Батюшка вы мне родной».
Тут его и скрутило. Упал, забился в судорогах… Я хотела воды подать, да где там. Помер он, даже в память не пришел.
Доктор подошел поближе к покойнику, осмотрел. И правда, ни порезов, ни синяков. Все признаки сердечного приступа.
– Выходит, сама ты его не трогала?
Дуня покачала головой, лицо у нее было суровым, взгляд тяжелым:
– Не убийца я, на отца, пусть и такого, руку не подниму. Господь покарал его. За грехи тяжкие и жизнь неправедную.
Становой закрутил головой – дело темное, наказать все-таки кого-нибудь надо бы. Сложил письмо, сунул в карман:
– Надо разбираться. А ты, девка, пока под стражей побудешь. Уведите ее.
***
Весть о смерти барина мигом разнеслась по округе!
Марфа слушала рассказы на деревенском пятачке и заливалась слезами. Горевала о дочерях – одна в бегах, другая – в остроге. На третий день приехал новый барин, племянник покойного из губернии, в наследство вступать. Молодой, лет тридцати, с умным лицом и грустными глазами.
Первым делом он велел позвать управляющего:
– Докладывай, что тут у вас стряслось. Что за история с Барановым произошла.
Управляющий рассказал все как было. Молодой барин слушал, хмурясь.
– Развел тут покойник, конечно, дом терпимости. А дочка его Дуня где сейчас?
– В остроге сидит. Следствие идет.
Молодой барин нахмурился:
– Отпускать ее надо. Сам дядюшка виноват, что грехов наделал. Вот сердце и прихватило от такой жизни. Крестьянку отпустите, – он задумался. – И вот еще что. Семье этой несчастной Евдокии выдайте из наследства тысячу рублей. Пусть живут спокойно.
Управляющий вытаращил глаза.
– За что ж такая милость?
– За страдания. За поруганную честь. За двадцать лет молчания. Исполняйте.
***
Когда Дуню выпустили, она не поверила своему счастью. Надышаться не могла свежим воздухом, насмотреться на яркое солнце.
Ее уже и ждали…
На улице стояла телега, а возницей – Федор, сын старосты. Дунин давний ухажер. Уже с лета они друг друга заприметили и о сватовстве речь вели. Но теперь при виде милого девушка поникла. После такого позора замуж не берут…
Федор же кинулся навстречу:
– Дуня! Мать твоя послала встретить!
Она молча села в телегу, отвернулась. Говорить о том, что произошло, тошно и стыдно. Но Федор засыпал ее новостями:
– Все хорошо, сестрица твоя вернулась вчера от тетки. Новый барин распорядился – никого не трогать.
А потом затих, глядя на Дуню, которая не поднимала головы. Девушка с трудом вымолвила:
– Вся деревня теперь знает про меня? И кто отец мой. И что… произошло…
Федя нахмурился:
– Так что с того? Ты не виновата, пускай языки чешут. Баранов – мерзавец сколько бед наделал, все про то знают. Сдох – туда ему и дорога. Если бы я знал, что он тебя в поместье забрал, так сразу бы ему рожу начистил. А к тебе я свататься не передумал, даже не сомневайся.
Вспыхнула Дуня от радости и все-таки засомневалась, может, из жалости Федя-то ее утешает.
– Люди говорить будут… всякое. Что спортил он меня, что прижиток я барский. Ублюдками таких кличут.
– Пусть говорят, я рты кулаком-то быстро закрою, – насупился Федор. – Мне не с людьми жить, а с тобой. И ты мне мила, знаю я, что лучше тебя и чище нет никого.
Дуня посмотрела на него и впервые за эти дни улыбнулась.
Дома девушку встретили как с того света. Марфа плакала, обнимала дочь, целовала в обе щеки. Сестрица Настенка повисла на шее, тоже плакала, но уже от радости.
– Думала, не увижу больше!
– Видишь, все обошлось, – Дуня гладила ее по голове. – Теперь заживем спокойно.
***
А в горнице обомлела от гостьи – на лавке ее ждала старая нянька. Поклонилась старуха ей в ноги.
– Простите меня, Евдокия Степановна. Не хотела я беду вам накликать, да тайну больше нести не могла.
Дуня усадила ее за стол:
– Не вини себя. Видно, так богу угодно было. Может, оно и к лучшему.
Нянька достала из-за пазухи туго свернутый сверток:
– Велела передать покойная барыня вам. От бабушки вашей… Хоть и не по закону, а все кровь родная. Тут крестик нательный, колечко золотое. Еще записка есть.
Дуня развернула пожелтевшую бумажку:
«Внучке моей Евдокии. Прости меня, что не смогла признать тебя при жизни. Но знай, любила я тебя и молилась за тебя каждый день. Храни тебя Господь».
И на душе у Дуни вдруг потеплело.
Пускай и прижиток она, а все-таки ее любили. Если не отец кровный, так бабушка. Издали, но любила.
Нянька поклонилась на прощанье.
– Молодой барин распорядился избу вам новую построить. И землицы прирезать.
Вспыхнула Дуня, не нужны ей барские милости от наследства. Поскорее бы забыть обо всем. Да мать ее остановила:
– Не сердись. Почитай это долг Баранов за страдания наши возвращает, за честь поруганную. Хотел он тебя за долги забрать, а сам теперь в недоимках оказался…
Тут и не поспоришь – воздаяние каждому по заслугам дается.
***
К Пасхе новый дом уже святили. Народу собралось подивиться на хоромы – яблоку негде упасть. Марфа стояла на крыльце, не веря своему счастью. Рядом дочери – Дуня в новом сарафане, Настенка с новыми лентами в косах.
Даже на удивление всем барин молодой прикатил в коляске. При виде него смутилась Марфа, а Дуня не испугалась. Только замерла, что же снова судьба ей приготовила? Уже ничего не страшно – в остроге была, с негодяем-отцом столкнулась, смерти в глаза заглядывала.
А молодой барин протянул Дуне шкатулку:
– Это тетушка в завещании прописала тебе отдать. Велела передать, когда время придет.
Дуня раскрыла ларчик дрожащими руками. Внутри лежали документы, какие-то бумаги.
– Что это, барин?
– Вольная твоя. Тетушка хлопотала втайне, через губернского предводителя. Теперь ты не крепостная, а вольная крестьянка. И сестра твоя, и мать.
Толпа ахнула. Марфа упала на колени:
– Господи, дожила!
Барин поклонился ей:
– Я только исполнил волю покойной. Живите счастливо.
После его отъезда во дворе начался настоящий праздник. Играла гармонь, девки песни пели, парни вприсядку плясали. Дуня рядышком с Федором улыбалась. Как же жизнь ее ладно сложилась. Еще совсем недавно к каторге готовилась, рабой была у барина.
И рождение, и жизнь ее полны были испытаний и невзгод.
Да только она не сдалась, не сломалась. За свою честь не побоялась вступиться, за сестру горой встать, матери опорой быть. Вот и наградила судьба за хорошие поступки!
Теперь она вольная крестьянка! Зажиточная, с приданым, и жених рядом на загляденье. И впереди ждет долгая и счастливая жизнь.
Ты будешь молчать и дальше -1
Лена зажала рот ладонью, чтобы не заплакать. Никто не должен об этом знать! Катя стояла рядом, прислонившись к ободранной стене, и смотрела на подругу так, будто увидела привидение.
– Покажи еще раз, – прошептала она.
Лена снова закатала рукав школьной формы. На тонком запястье темнел синяк – пять отчетливых отметин от пальцев. Катя втянула воздух сквозь зубы.



