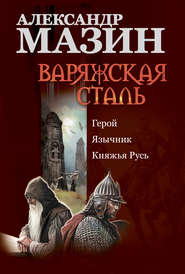скачать книгу бесплатно
– А зачем? Святослав – воин. Рубит сплеча. А тут не рубить, а ловчить надо.
– Наловчили уж. Орда под Киевом, – проворчал Духарев. – Ты чего улыбаешься? Можно подумать, наши родные не в Киеве, а в Константинополе.
– Ничего нашим не будет, – уверенно сказал Мышата. – Ольга – не дура. Даст Кайдумату золото – уйдет орда.
– Давно ты, брат, в Киеве не был, – сказал Духарев. – Ольга лучше сама Кайдумату отдастся, чем золотом откупится.
– А, всё равно! – беспечно отозвался Мышата. – Печенеги города осаждать не умеют. А врасплох они Киев не застанут.
– Эх, знал бы – собственноручно этого твоего Филофея прирезал!
– У тебя еще будет такая возможность. Никифор, мне говорили, его в Преславу посылает. Сватом.
– Да ты что! К Святославу?
– Зачем к Святославу? У него и дочерей нет. К царю Борису.
– А к этому зачем? – удивился Сергей.
– А затем, что у Бориса есть сестры. И сестер этих Никифор хочет выдать замуж за константинопольских кесаревичей.
– Что-то я не понял. Разве мать царя Бориса – не византийская кесаревна?
– Точно так. Она была частью мирного договора между кесарем Петром и Византией.
– Но тогда получается, что булгарские царевны выйдут замуж за собственных братьев?
– А вот за это, брат, я бы не поручился. Потому как мать их, императрица Феофано, отличается ангельской красотой, но отнюдь не ангельскими добродетелями. Не зря же отец императора Романа Константин заявил, что она никогда не будет императрицей. Но помер. И Роман ее тут же возвел на престол. Ну да ты, верно, и сам знаешь.
– Слушай, Мыш, откуда мне это знать? – воскликнул Духарев. – Это у тебя дом в Константинополе! А я там не был ни разу!
– Так я же тебе рассказывал! – удивился Мышата. – Забыл?
– Забыл. Расскажи еще раз.
– Ладно. Слушай и запоминай. Василевс Константин был сыном василевса Романа Багрянородного. И у него был сын, тоже Роман. Этот Роман, в отличие от своего деда, о государстве радел мало, зато гулял знатно. Особенно любил красивым девкам под юбки лазать. Без разбору – хоть знатным, хоть простолюдинкам. Феофано эта как раз простолюдинка и есть. Говорят, в трактире у своего отца танцевала. И тоже, говорят, на передок слаба. Но кесаревич на нее крепко запал. Так, что решил жениться. Однако в это время еще жив был Константин, и ему, ясное дело, не понравилось, что в Золотой Палате трактирная потаскуха будет восседать, пусть даже красоты и статей необычайных. И не быть бы Феофано императрицей, да тут василевс Константин возьми да и помри. Причем при довольно странных обстоятельствах. После Константина василевсом стал его сын Роман, который немедленно с Феофано и обвенчался.
Мышата облизнулся, глотнул вина, оглядел стол с сожалением: практически всё съедено, причем три четверти – самим Мышатой; подумал немного, глотнул еще вина и продолжил:
– Прожили они вместе года примерно три. И под конец не очень-то ладили. Роман, как я уже говорил, был гуляка и пьяница. Государством не правил, а только злато из казны тянул. Понятно, что при таком кесаре ближники его большую силу набрали. А ближники у такого кесаря – кто? Кравчие да постельничие. То есть – дворцовые евнухи. Они все указы писали, а Роман лишь печать прикладывал. Или сам, или, вместо него, императрица Феофано. Но были у евнухов и соперники. Например, архистратиг Никифор Фока, нынешний император. Роман ему верил. Архистратигом назначил. И не зря. Никифор тогда в Азии многих врагов ромейских побил. И больше побил бы, но Роман вызвал его в столицу. Видно, чуял недоброе и хотел верного человека рядом иметь.
Но когда Никифор приехал в Константинополь, Романа он в живых уже не застал.
Странная, скажу тебе, смерть. Вернулся однажды Роман с охоты – и помер.
Народу объявили, что, мол, от долгой верховой езды начались у василевса спазмы в животе, от коих он и преставился.
– Это как? – удивился Духарев, который знал множество народа, проводившего в седле больше времени, чем на земле, но не знал никого, кто бы от этого умер.
– Да уж так! – развел руками Мышата. – Тебе лучше знать, как это бывает. Ехал-ехал человек, а потом приехал, выпил винца с приправой… Тут ему и конец.
– Полагаешь, отравили?
Мышата пожал плечами.
– И что дальше было? – спросил Духарев.
– Дальше? Остались после Романа двое малолетних сироток – Василий и Константин, которых сейчас к булгарским царевнам сватают, и овдовевшая императрица Феофано. А при них – целая прорва евнухов во главе с Иосифом-паракимоменом, это спальник по-нашему. Евнухи эти при Романе все дела решали и надеялись, что и дальше так будет. Оно и проще – при младенцах-василевсах. Может, они Романа отравили, может – Феофано, а может – вместе сговорились… Кто знает… Но, чтобы править без помех, им надо было избавиться еще от одного человека – архистратига Никифора Фоки.
– Нынешнего императора?
– Его самого. Никифора вызвали во дворец, чтобы схватить, якобы за измену, ослепить и выслать в какой-нибудь монастырь подальше. Но Никифор во дворец не пошел, а двинулся прямиком к патриарху, который отправился во дворец вместе с ним, собрал синклит и погубить Никифора не позволил. С Никифора взяли клятву, что не будет злоумышлять против малолетних василевсов, и вновь провозгласили стратигом-автократором Азии. Никифор отбыл к своей армии, но евнух Иосиф, он же не дурак – понимал, что власть его под угрозой, пока Никифор жив. И направил наш спальник доверенного человека к стратигу Иоанну Цимисхию, военачальнику немногим менее славному, чем Никифор. Посол вручил Цимисхию письмо, в котором Иосиф предлагал заковать стратига-автократора в цепи и тайно отправить в столицу. А в награду Цимисхий получит место стратига-автократора, а потом, быть может, кое-что повыше.
– И что же Цимисхий?
– А то! Цимисхий, двоюродный брат Никифора по матери, берет это письмо и отправляется с ним прямиком к стратигу-автократору. Тот посылает к воронам все данные синклиту клятвы, собирает армию и провозглашает себя императором. Не медля, он назначает своих стратигов и отправляет их спешно занять все морские пути, мосты и переправы, чтобы ничто не препятствовало его маршу к столице. Затем объявляет Цимисхия вместо себя стратигом-автократором, оставляет его в Азии, а сам с верными войсками идет к Константинополю. Уже по дороге, уверенный в своих силах, Никифор посылает в столицу известного тебе Филофея с письмом к патриарху, синклиту и его главе Иосифу. В письме Никифор сообщает, что он теперь – автократор Византии, что есть несомненное благо для державы и малолетних василевсов, о коих он обещает заботиться вплоть до их совершеннолетия. А если некоторые не согласны, что император Никифор – это великое счастье для всех ромеев, то пусть пеняют на себя.
Некоторые были готовы пенять.
Филофея в цепях отправили в темницу. Иосиф с верными ему патрикиями затворили город и приготовились к длительной осаде.
Но у Никифора в городе тоже были сторонники. И немало. А чуть позже оказалось, что не только в городе, но и во дворце, охрана которого без всякого сопротивления перешла на сторону Никифора.
– А вот это уже интересно, – заметил Духарев. – Разве они не приносили клятву верности? Неужели все оказались отступниками?
– Приносили, – подтвердил Мышата. – Только клялись они в верности василевсу и трону, а не спальнику Иосифу. А василевс кто? Никифор. Который вдобавок во всеуслышанье объявил детей Феофано своими соправителями. А чуть позже – взял да и женился на их матери. Говорили: Феофано сама в него влюбилась без памяти. Поверить можно. Никифор тогда был муж видный: хоть борода с проседью, но телом крепок, лицом красив.
И вдобавок первый полководец империи. Так что, может, и влюбилась Феофано. А вот что он в нее влюбился – это точно. По сей день все прихоти ее исполняет. Но и его можно понять – такая красавица. Вдобавок обольстительна и хитра, как сицилийский купец. Тут даже святой не…
– Погоди! – перебил его Сергей, которого порядки в императорской гвардии интересовали намного больше любовных коллизий константинопольских венценосцев. – Выходит, можно убрать одного императора и посадить на его место другого при полном попустительстве стражи?
– Можно, – кивнул Мышата. – При двух условиях. Первое: прежний император должен быть мертв; второе: новый император должен проявить щедрость. Полагаю, трехмесячного жалованья будет достаточно.
– Никифор тоже проявил щедрость? – поинтересовался Духарев.
– Еще какую. До сих пор проявляет. Особенно по отношению к своим родственникам.
– И к печенегам, – добавил Сергей. – А к нам почему-то нет. Мы помогаем ему воевать с Булгарией, а он отвечает нам черной неблагодарностью.
– Никифор не воюет с Булгарией, – возразил Мышата. – У Константинополя с Булгарией мир и дружба. Я, брат, своими глазами видел, как этим летом в честь булгарских послов Никифор прием устраивал. И на этом приеме послы булгарские сидели выше Лиудпранда, посла императора Оттона Первого. Но наши послы тоже там были. Хоть и сидели пониже, и содержания получили на двадцать милиарисиев[9 - Милиарисий – серебряная монета.] меньше. Зато я два своих корабля с товарами в Италию отправил! – похвастался Мышата. – Вместе с византийской флотилией. А это, брат, не горсть монет серебряных, а полный бочонок золота. И в этом бочонке – твоя десятина, брат.
– Да ладно тебе, – отмахнулся Духарев. – Мне подарков не надо. Своего золота хватает. Есть кое-что подороже золота.
– Есть, – согласился Мышата. – Вот те списки, что ты из Итиля привез. В них же вся торговля хузарская. Все пути описаны, все цены названы, все купцы-продавцы поименованы. Эх, брат, до сих пор поверить не могу, что ты такую ценность раздобыл.
– Рад, что тебе пригодилось, – сухо ответил Духарев, уловивший в тоне названого брата отчетливый подтекст, содержащий весьма невысокую оценку деловых качеств Сергея.
Мышата, впрочем, тоже был в подтекстах искушен – профессия обязывала, угадал недовольство брата, улыбнулся добродушно и сказал:
– Я тебе подарок привез. Тоже – дороже золота. Пойдем, покажу.
Подарком оказался конь. Таких Духарев еще не видел. Красавец. Тонконогий, небольшой, с маленькой изящной головой, но такими безупречными статями, каких Духарев не видел даже у лучших Машеговых жеребцов.
– Тебе! – с гордостью сказал Мышата.
– Хорош! – с восхищением произнес Духарев. – Только, боюсь, мелковат для меня…
– А ты попробуй! – предложил Мышата.
Духарев попробовал. И его восхищение возросло многократно.
– Чудо, а не конь! Жаль, что холощеный! Готов спорить – за жеребенка его Машег серебром по весу заплатил бы!
– Золотом, – сказал Мышата. – Потому и холощеный. Жеребца мне бы ни за какие деньги не продали. Это арабский скакун, брат. Самых лучших кровей. Теперь он твой. Но одна просьба…
– Какая? – насторожился Духарев.
– Не зови его Пеплом. Его имя – Калиф.
Глава пятая
Киев в осаде
Четыре большие лодьи со спущенными по причине встречного ветра парусами увидели с киевских стен на рассвете. Лодьи шли ходко, хоть и против течения. Сразу видно – руки у гребцов дюжие.
А когда самые глазастые разглядели на мачте первой лодьи стяг Святослава, на стенах раздались такие радостные вопли, каких Киев не слышал уже давно.
Весть о том, что возвращается великий князь, ликующей волной прокатилась по городу вверх, до внутренних стен Горы. Но здесь уже знали. Тут были свои наблюдатели, и княгине с княжичами немедля сообщили радостное известие.
Ольга сама уже стояла на стене, щурясь, глядела, как крохотные, похожие на насекомых-многоножек, корабли скользят по синеве днепровской воды.
Рядом с княгиней – княжичи. Старший, Ярополк, вскарабкался на гребень стены. Младшему, Олегу, не позволили.
– Вижу, вижу! – кричал Ярополк, приплясывая на каменной полке в локоть шириной. – Вижу стяги батюшки-князя! Вижу стяги воевод: Икмора, Свенельда, Серегея, Щенкеля!
Но княгиня его восторга не разделяла.
– А другие лодьи видишь? – спросила она. – Где весь флот княжий?
– Нет, – с явным разочарованием проговорил княжич. – Других кораблей не вижу. Только эти четыре лодьи. К нам идут.
– Викула, – обратилась она к самому старшему из столпившихся рядом дружинных. – Надо князя о копченых упредить. Худое может случиться.
– Не тревожься, матушка, – прогудел Викула. – Чай, у князя нашего глаза есть. Увидит стан печенежский. Поостережется.
– Не нравится мне это… – пробормотала княгиня.
– Что тебе не нравится, бабушка? – удивился княжич Олег. – Батька возвращается. Теперь все хорошо будет. Уж он-то печенегов отгонит!
– Дурень ты, – Ярополк спрыгнул со стены, отвесил младшему подзатыльник. – Четыре лодьи – это ж сколько воев, ну-ка посчитай!
Млаший нахмурил лоб:
– Лодьи большие… В такие до сотни гридней можно посадить. А ежели потесней, то и две, значит…
– Значит ты мал еще воинскую науку постигать! – надменно оборвал его Ярополк. – Какие две сотни! Они ж с самой Булгарии идут. Значит, запас еды на каждого. А добыча? Добыча знаешь сколько места занимает?
Младший сокрушенно молчал.
– Вот тебе и две сотни! Хорошо, если копий по шестьдесят на лодью. И то, если без коней. То-то, малой! – с чувством превосходства заявил Ярополк.
– Хорошо посчитал, – похвалила княгиня. – А печенегов сколько?
– Тысяч пять, а то и поболе.
– Ну что, не появились другие лодьи? – спросила Ольга.
Ярополк покачал головой. Радость с его лица сошла.
– А где ж тогда вся батькина рать? – спросил испуганно Олег. – Неужто сгинула?
– Бог того не допустит, – сказала княгиня.
Но уверенности в ее голосе не было.
Не только княгиня поняла, что не всё так ладно, как показалось сначала.
Теперь уже с обеих стен наблюдали за лодьями в напряженном молчании. И не только со стен. В печенежском лагере тоже заметили лодьи. И стяги на мачтах тоже разглядели. Сперва засуетились, принялись поспешно грузить кибитки, но когда поняли, что лодий только четыре, сразу воспряли духом. Страшен великий князь Святослав. Будь с ним хоть тысячи две гридней, дали бы деру храбрые воины хана Кайдумата. Но – четыре лодьи… Как бы ни был грозен Святослав, а когда на одного руса десяток степняков приходится, это уже совсем не страшно.
А лодьи, как ни в чем не бывало, спокойно подошли к берегу. С шорохом въехали на песок украшенные деревянными фигурами острые носы, легли на положенные места весла, и один за другим стали спрыгивать на песок доспешные воины-русы. Так, словно бы и не выстроились вдоль берега грозной стеной конные печенеги.
Высадились, построились в боевой порядок. Отменные воины. На каждом – полный доспех, мечи, копья наготове. По повадке видно: опытные, умелые воины. Вот только оказалось их всего сотни полторы.
«Неужели драться будут?» – удивился большой хан Кайдумат.
Да и не он один удивился. Каждый степняк. Это же смерть. Пешими, без прикрытия – против сорокакратно превосходящего противника. Да стоит только Кайдумату скомандовать – и все. Один залп – и от ладного строя ничего не останется. Одни мертвецы.
Строй между тем раздвинулся, пропуская двоих: одного постарше, другого – помоложе.
На старшем – доспех богатый, шлем с личиной золоченой. На младшем – попроще, шлем со стрелкой, панцирь хорошей работы…
– А на палубах – ничего, – с разочарованием сказал Кайдумату один из его родичей-подханков. – Где ж добыча?
– Узнаем, – пробормотал большой хан. – Непонятно мне: знак на корабле Святославов, а этот, с золотой мордой, точно не Святослав: потолще и ростом повыше, да и ходит по-другому.
– Что делать будем? Бить? – спросил подханок.
– Повременим. – Жизнь приучила Кайдумата к осторожности. Особенно если что-то непонятно. – Сбегай к ним, узнай, кто такие?