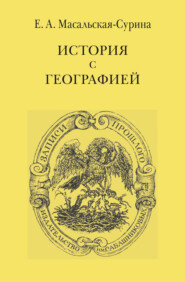
Полная версия:
История с географией
Витя при всей своей сдержанности не мог оставаться молчаливым зрителем и не раз вступался за гонимого Шидловского. Так помнится, он буквально спас его от разъярившегося Щепотьева. Но Шидловский, чем-то опять раздраженный, вновь сцепился с Радзевичем, и по его настоянию была назначена внезапная ревизия продовольственного отдела губернской управы. Предстояло целых две недели ревизовать этот отдел, а ревизуемые, как известно, принимают такую ревизию за личное оскорбление и обыкновенно грозят сломать шею ревизорам, особенно если они из местных же сослуживцев, а не присланы из Петербурга. Шипение в Минске еще усилилось и осложнилось этой ревизией, которая хотя, кажется, кончилась ничем, но тем ненавистнее был вызвавший ее Шидловский и не менее его, конечно, Татá, со своими приютами и благотворительными обществами! И Сорнева не могла простить ей прошлогодние столкновения, и Долгово-Сабуров[158], словом, весь город ополчился против них, и мы одни, в такое время, в особенности не хотели им изменять, хотя вполне сознавали недостатки немного легкомысленного забияки, но добродушного Константина Михайловича, терявшего душевное равновесие от общего шипения. Вот почему более чем когда-либо хотелось уйти в уезд подальше от «губернии».
Но вакансии предводителя в Минской губернии не предвиделось, кроме Слуцкой, да и то по окончании дела Лопухина, т. е. через год, и мы решили отложить наши поиски до лета. Но случайно Витя разговорился с инспектором Боклевским, красивым стариком, которого мы не раз встречали в обществе. Витя сообщил ему о неудаче со Слуцкими имениями. Боклевский стал уговаривать бросить эту затею: «К чему забираться в глушь. Боже избави. Еще вопрос – уйдет ли Лопухин, как кончится его дело, вы будете его караулить в имении за 70 верст от железной дороги. Подыщите имение поближе к Минску. Минск – отличный город, и мы Вас ни за что из Минска не выпустим!» Затем Боклевский посоветовал Вите обратиться к Ивану Фомичу Гринкевичу. Это лесничий из Пермской губернии в отставке, человек опытный и осторожный, который сможет не торопясь разыскать нам имение. Человек свободный, на пенсии, обеспеченный в Минске домами и небольшим капиталом, педантически честный, который с удовольствием поможет нам, так как он еще вполне бодрый старик и очень будет рад такому делу.
Действительно, Гринкевич, толстый старик с длинной седой бородой, очень охотно отозвался на наше предложение при условии три рубля суточных, все дорожные расходы да плюс надежда получить у нас же место управляющего, если найдется имение. При этом Боклевский очень настаивал на том, чтобы поискать имение поближе к Минску, так как из Минска нас не выпустят, и не к чему рваться из города, где все нас так любят. Увы, только не высший круг.
Как только комиссионеры снабдили нас партией описей наиболее близких имений к Минску, Гринкевич выехал на их осмотр. Сначала он выехал в Ванцерово, имение Валицкого с мельницей и круподеркой, в двенадцати верстах от Минска. Осмотрев его, забраковал; потом поехал подальше в Трокиники, имение Шишко близ станции Чудогай, по дороге в Вильну, с винным заводом – забраковал. Осмотрел наяву или, познакомившись с комиссионерами, их описями имения, еще с два десятка имений, и все ему было не по душе, все он браковал. Наконец, нам предложили Уречье у станции Жодино, всего час езды от Московско-Брестской железной дороги. Такое расположение имения было особенно удобно, да и все хвалили это имение с винокуренным заводом, молочным хозяйством и пр. Владелец Славинский, поляк, еще очень молодой человек, круглый, розовый, кудрявый, сам вел очень успешно свое хозяйство. Но вдруг споткнулся, стал играть в карты и попал в кружок шулеров, которые обобрали его. Тогда он бросил хозяйство и продавал свое имение дешево и спешно. Витя, опасаясь, что Гринкевич слишком мнителен и вновь забракует имение, поехал с ним сам и вынес впечатление благоприятное.
После того Славинский приехал сам для переговоров с нами, но, увидя у нас рояль, сел играть, а увидя ноты сестры, принялся ей аккомпанировать, упросив петь. Он аккомпанировал прекрасно и воодушевил сестру; мы все были очарованы его манерой играть, в нем чувствовался талант, увлечение. И вечер пролетел для нас так приятно, что право было не до сухих расчетов, а так как Славинский очень просил нас к нему приехать обоих лично в Уречье, то мы и расстались с намерением к нему приехать через день. Он обещал даже подарить нам ту пару серых лошадей, которую он вышлет нас встречать.
Но какая-то служебная помеха не дала нам возможности съездить в Уречье, и мы вторично послали туда Гринкевича. Я уверена, что если бы мы сами поехали, Уречье было бы куплено. Уж очень положение его у самой станции в часе езды от Минска было соблазнительным. Но Иван Фомич, по обыкновению, с мелочною подозрительностью стал до всего докапываться. Он выяснил, что обещанная нам в подарок пара серых лошадей уже была запродана зараз троим покупателям, поднявших по этому случаю драку при Фомиче же. Он убедился, что лес большею частью вырублен и не хватит на топливо завода, да арендатор имения что-то замышляет и пр., словом, забраковал и Уречье. Это не помешало дяде этого самого Славинского помещику Свидо вскоре купить Уречье и заплатить ему на 40 тысяч дороже.
Все затем следовавшие предложения комиссионеров им так же были забракованы. Это становилось даже скучным. «Ну, уж Лауданишки не забракует ваш сварливый старик», – сказали они нам, когда узнали, что он поехал смотреть это имение в Витебской губернии, в восьми верстах от станции Рушаны по Варшавской железной дороге. Предложил Лауданишки сам владелец Соммерсет-Россетер, приехав к нам вместе с присяжным поверенным Володкевичем, у которого была тридцатитысячная закладная на это имение. Все было ясно в этом деле: ни куртажей, ни посредников, ни комбинаций, две тысячи десятин земли, много угодий, несколько фольварков в аренде и две красивые усадьбы над озером. Иван Фомич пробыл в Лауданишках четыре дня, нашел имение прекрасным во всех отношениях, но все же выставил столько опасений и подозрений, что мы опять не решились. Нас остановила цена – сто двадцать пять тысяч без комбинаций. Как с этим справиться? И почему Соммерсет, не нам чета как хозяин, не может справиться с имением? Вот этот вопрос особенно пугал Гринкевича.
Прошло несколько дней, и опять приехал к нам Володкевич, теперь с мольбой стать на торги Виленского банка. В конце апреля Лауданишки будут выставлены на торги, и его закладная пропадает! Он разорен! Он умоляет! Если бы мы приобрели Лауданишки с торгов, т. е. за долг банка, он надеется на нас, мы выплатим ему его тридцать тысяч, да и Россетеру заплатили бы по уговору что-либо, т. к. он останется буквально нищим.
И вдруг мы опять решились: надо же было когда-нибудь решиться! Чтобы стать на торги, надо было иметь не менее тридцати тысяч, но ссуда Крестьянского банка была уже готова к выдаче 15 апреля. Тетя вздыхала: только этого не доставало: покупать имение с торгов! Но мы ее успокаивали, это же было с согласия и Россетера, и Володкевича, которые иначе рисковали оба все потерять. Так как слово наше было им дано, мы прекратили наши уроки географии, тем более что наступали праздники Пасхи, ранней в том году. Перед праздниками было много дел. Татá устроила вербный базар в пользу приюта, и мы все, даже Оленька, приняли в нем живейшее участие. Беспрерывно два дня мы все торговали в театре. Публики была масса. Одна лотерея дала пять тысяч. Надо сказать, Наталья Петровна умела воодушевлять самые сухие сердца и, несмотря на свои распри, все общество откликнулось на этот базар. Дамы к концу второго вечера попадали в обморок от усталости. Судьба приюта на этот год была обеспечена. Постройка его тоже была доведена до конца, и шестого мая предполагалось уже его освящение: Оленька рисовала к этому дню образ святой Ирины, княгини Анны Новгородской, во весь рост, а Снитко составлял очерк о значении святой Ирины, именем который был назван приют Натальи Петровны.
Пасху мы провели спокойно и приятно. Тетя уже рвалась в Губаревку, к весенним экзаменам в школах, но нам удалось ее убедить, что к экзаменам она поспеет, а весна холодная, и в Губаревке еще очень неуютно, и уезжать от нас на Пасху совсем не следует. Тетушка сама это чувствовала и понимала, но то были все еще ее порывы, так мало ценимые Оленькой. Тетушка была вообще очень довольна Минском. Ее трогало общее внимание, которое ей оказывали все наши друзья, уже не говоря об Урванцевой, которая если изводила «капризника», как неизменно в обществе и громко на улице она называла Витю, то Тетушку она чтила, как родную мать. Очень полюбилась тете и Мария Дмитриевна Кологривова, мать Юрия Александровича. «По мыслям и действиям мой двойник, – писала она Леле, – она пишет статьи и помещает в Санкт-Петербургских Ведомостях». (Двоюродная сестра князя Ухтомского [Экаер] и сама Ухтомская). Эти статьи касались проекта школы для образования домашней прислуги, и понятно, какую союзницу нашла почтенная Мария Дмитриевна в Тетушке. Но, конечно, всего приятнее Тете было то, что брошюрка была, наконец, напечатана, и она могла ее разослать своим друзьям и единомышленникам.
15 апреля мы с Витей вновь поехали в Петербург. В это второе свидание с Лелей мы нашли, что он выглядит лучше и веселее, нежели в феврале. Между прочим, его развлекла поездка в Царское село, на представление Мессинской невесты. «Играл великий князь Константин Константинович[159], – писал он, – был государь и еще кое-кто из царской фамилии. Великий князь играл хорошо, но трагические роли не по его натуре, как мне кажется, отлично играли и остальные артисты и любители. Вернулись в половине второго ночи. Воображаю, сколько стоил этот день великому князю с каретами для гостей, экстренным поездом и пр.».[160] Шунечка уже начала свои сборы в деревню, так как предполагалось переехать в Губаревку в начале мая. Леля собирался с Сашенькой и Ольгой Владимировной[161] выехать в половине мая, а перспектива лета и отдыха всегда радовала его. Я не помню, чтобы мы в этот приезд волновали его нашими планами, и если говорили о торгах Лауданишек, то, во всяком случае, вскользь, но, конечно, не умолчали, что ссуду Крестьянского банка за Липяги сорок тысяч получили себе и Оленьке, но от шести процентов именного обязательства отказались и при размене потеряли тысячу рублей[162] и перевели в Вильну не сорок, а тридцать девять тысяч. Если бы нам пришлось менять их позже, как оформленное именное обязательство, мы бы потеряли не одну тысячу, а восемь тысяч, а решительно отказаться от «земли» мы не решались. Будь что будет.
Мы прибыли к торгам в Виленском банке аккуратно к двенадцати часам и ожидали начала в небольшой боковой зале. Неприятное ощущение, точно чего-то совестно, но Россетер и Володкевич радостно встретили нас, и мы разговорились, как все устроим для общего благополучия: Володкевичу выплатим его закладную, Россетеру уступим любую из двух усадеб на озере и часть капитала, по справедливому расчету. Только мы не знали, как приступить к делу, но они обещали быть нашими суфлерами.
Россетер казался очень доволен и уверял, что вполне мирится с продажей имения, но только если мы купим имение, но его пугает, что на торги приехал его сосед и враг (называл какую-то немецкую фамилию). После этих разговоров Россетер, как бы невзначай, стал внимательно читать вывешенные объявления о продаже назначенных к торгам имений и вдруг заметил опечатку в количестве указанных в Лауданишках десятин. В объявлении было указано количество десятин на один ноль более: двадцать тысяч десятин! Очень удивленный, он бросился за разъяснением в правление. Произошел переполох, был запрошен управляющий, члены, а затем объявлено, что торги на Лауданишки отменены из-за этой якобы ошибки Виленского банка. Мы вернулись в Минск, в душе очень довольные, что не купили Лауданишки таким несимпатичным способом, хотя ясно было, что все равно Лауданишкам не миновать продажи с торгов, а тогда дадут ли Россетеру отступные за усадьбу или денег – большой вопрос.
Володкевич негодовал. Оказалось, не первый раз выезжал он на торги, и каждый раз все кончалось для Россетера вполне благополучно.
Чтобы уже покончить с Лауданишками, скажу, что, кажется, через месяц Лауданишки вновь продавались с торгов и не банком, а в Витебске по судебному взысканию Володкевича. Опять Володкевич умолял нас принять участие в торгах. Теперь Витя поехал с Гринкевичем в Витебск, и еще раз Россетер сумел сорвать торги. Причиной тому явилось еще более непредвиденное обстоятельство. Трагизм положения Володкевича заключался в том, что он как католик-поляк мог быть держателем закладной только у владельца польского же происхождения. В западном крае поляки-католики не имеют права покупать землю у русских владельцев, а потому так же и держать русские имения под закладной. Володкевич мог иметь эту закладную на Лауданишки только потому, что Соммерсет-Россетер, судя по документам, засвидетельствованным Витебским губернатором Фон-Дер-Флитом, года четыре тому назад был католик, но вдруг теперь Россетер, так же невзначай, как тогда в банке, пристальнее рассмотрев свои документы, заявил, что он вовсе не католик, а происходит от английских лордов Соммерсет-Россетеров, поэтому он не поляк и не католик, а англичанин, а англичане, как и немцы, в этом вопросе пользуются теми же правами, что и русские. В доказательство своего происхождения теперь им были представлены документы, заверенные тем же губернатором Фон-Дер-Флитом. А раз Россетер оказался англичанином, а не поляком-католиком, закладная поляка теряла свое право закладной. Следовательно, иск Володкевича становился незаконным, а потому в иске ему было отказано, и Лауданишки вновь были сняты с торгов. Володкевич просто из себя выходил, и тотчас предъявил иск к самому Фон-Дер-Флиту, подписавшему два таких противоречивых документа о происхождении Россетера. Признаюсь, как ни тягостны были эти две напрасные поездки и расходы по ним, но симпатии наши все же были на стороне бедного Россетера, так упорно старавшегося сохранить свое гнездышко. Володкевич же, правый в своих домогательствах, все же казался нам беспощадным и даже жестоким. Он насчитывал проценты на проценты, взыскивал двенадцать процентов, и как-то становилось жутко от его упорного преследования.
Чтобы так же покончить с Лауданишками, которые мы так и не купили, скажу, что Володкевич, хотя и значительно позже, выиграл процесс против губернатора, ему были присуждены взыскиваемые им все убытки. Но бедный Россетер боролся до конца и так и не отдал свои Лауданишки, хотя они постоянно были на торгах Виленского банка. Года два спустя он внезапно умер. Осталась жена и дети. Жена сумела продать часть имения и выплатить все долги мужа в том числе и Володкевичу, а оставшаяся часть ее имения была приведена в такой порядок, что стало ей давать четыре тысячи годового дохода.
Глава 7. Май-июнь 1909. Город Борисов – Альт-Лейцен
Вероятно, только вернувшись в Минск, мы обстоятельнее сообщили Леле о торгах в Лауданишках, судя по его письмам конца апреля. Он уговаривал Оленьку быть острожной, благоразумной.
«Не хочу расстраивать вас, но считаю ошибкой и то, что вы отказались уже от шести процентов ренты. Будьте осторожны. Не раскаивайтесь в сделанном уже шаге, но не рискуйте дальше. Лучше всего поместить капитал в хорошие бумаги. Можно рискнуть помещением и в акционерные предприятия, разумеется, ненадолго, а так, чтобы вернуть хорошими процентами – убытки, уже вами понесенные. С большой робостью решаюсь дать подобный же совет Жене. Я понимаю, что он диктуется моей слабостью, недостатком сил и энергии, которых уже недостаточно, но все-таки лучше никогда не переоценивать своих сил и не брать на себя неудобоносимой ноши, бремени чрезмерного. Вчера я мало поговорил с Женей… поцелуй ее за меня»[163], а вслед за тем и мне писал: «Мне теперь после того, что писала Оленька и что пишешь ты, очень не улыбается ваша покупка. Надо искать чего-нибудь лучшего и более надежного. Мною прямо овладевает страх и трусливое настроение, когда я подумаю о вашем настроении. Скольких уже приходилось пожалеть и осудить за неосторожное обращение с деньгами. Неужели это не дает право быть скептиком?».[164]
Конечно, бедный Леля был прав. Теперь разменянные к торгам деньги лежали на текущем счету. Наступало время разлуки с Тетей и Оленькой, а вопрос о том, как теперь быть, все так же оставался открытым. В последних числах апреля мы проводили Тетушку в Губаревку. Она уезжала вообще очень довольная Минском. «Меня трогают, – писала она Леле, – очень добрые отношения ко мне здешних друзей Жени. Представь себе, другой вечер приходят лично ко мне, узнав, что я скоро уезжаю. Я ведь никуда не выезжала и только встречалась дома с ними». Тетушка приписывала в том же письме: «Живопись Олечки поразительна. Картины ее стоят и висят в гостиной, обращая внимание, а Женечка наша радуется и ужасно вперед уже грустит о разлуке». Это правда, разлука с моими давалась мне нелегко! Из-за них я постоянно уезжала от мужа. Бог знает, что я переживала тогда в эти долгие разлуки с ним! И все-таки сколько упреков приходилось выслушивать от моей бедной маленькой сестры. Сколько слез она проливала из-за них, как упорно добивались и мы так устроиться с Витей, чтобы не разлучаться с ними! Вот первая зима, что нам удалось так прожить вместе в Минске, но наступало лето, и Витя не мог же его проводить в Губаревке! Когда же я сокращала свои разлуки с Витей, сестра ставила мне в пример всех дам, встречаемых ею в вагонах, которые уезжали летом на воды и в курорты, оставляя своих мужей на все лето. «Я очень жалею, что ты не из их числа».[165] И теперь уже я слышала ее недовольство, потому что раньше конца июля, когда у Вити начнется ревизия, которую ожидали из Петербурга, я не смогу выехать в Губаревку. Проводив Тетушку в Губаревку, Оленька осталась у нас еще на некоторое время, пока Тетушка будет справлять свои школьные и душевные дела, а в Минске Татá шестого мая не освятит свой приют.
Образ Ирины был закончен, и в киоте поставлен в часовне Александра Невского в сквере на Захарьевской. Сестра очень смешно описывала, как в мое отсутствие Татá взялась и за нее: она упросила ехать с ней к игуменье просить вышить в монастыре золотом по бархату тропарь святой Ирины. Дорогой Татá подхватила еще одну даму, так что служка игуменьи, испуганная такому многолюдству, сперва не хотела их пускать. Затем начались разговоры без конца так долго, что Оленьку стало тошнить от скуки, но Татá собиралась еще пройти с ней по всем кельям. Тогда сестра бежала от нее! На другой день Татá опять заехала за ней тащить в собрание, где будут читать очерк Снитко об Ирине. «Словом в лоск положила меня».[166]
Но когда у нас сорвались и Лауданишки, Оленька уже стала нервно относиться к вопросу о покупке земли. «Мы скоро будем в положении Крыловской разборчивой невесты», – говорила она, досадуя на нерешительность Вити и подозрительность Гринкевича. При ней предлагали нам Мышь Фон-Моллера в Новогрудском уезде, Глуск Рубана, Заброту Платера, Холопеничи фон-Зенгера и еще многие другие. Но особенно морочили нам голову с Бениным Патона: «Чудная усадьба, винокуренный завод и тысяча сто десятин уступались всего за девяносто тысяч» и «с комбинациями». Фомич должен был выехать, Фомич должен был купить», – горячилась Оленька, уговаривая нерешительного Витю, который был уже готов совсем отказаться от «земли», чтобы не рисковать и не терять более денег на поиски ее.
И наш бедный Иван Фомич поехал в Бенин – от Новогрудска четырнадцать верст по сыпучим пескам. Его сопровождало три комиссионера! Между ними первой скрипкой был Антон Осипович Кулицкий, Мозырский, как называли его по его происхождению из города Мозыря. Решительный, ловкий, опасный для зазевавшегося обывателя Кулицкий отличался удачей, потому что умел брать натиском. Ему приписывали свойства гипнотизера и укротителя зверей. Попасть ему в лапы означало живым не вырваться. Теперь он клялся своим друзьям-комиссионерам справиться, наконец, с упрямым Гринкевичем, «всучить» нам Бенин и получить у них приз за умение и ловкость. Уставшие и разочарованные комиссионеры начинали поговаривать, что мы совсем ничего не купим: «сварливый» старик упрям, а Витя недоверчив и нерешителен. Укротитель зверей взялся покончить с нами. Но когда Иван Фомич, приехав в Бенин, убедился, что богатое имение, бывшее князей Долгоруких (теперь в еврейских руках), превратилось в пустырь с вырубленным лесом, что из имения все выжато, что только возможно, он уперся опять. Что ни делал Кулицкий: и подкупал, и угощал, и уговаривал, а вечером и пел, и танцевал, чтобы разогреть кремневую душу Фомича, рассказывал он сам, захлебываясь, но подкупить его, убедить в мнимых достоинствах Бенина им не удалось! И Бенин ухнул за другими имениями. Почему-то Оленька особенно жалела Бенин. Быть может, три комиссионера, расхвалившие зараз это «дивное» имение, сумели ее убедить, что Гринкевич никогда нам ничего не купит!
Вскоре затем Кулицкий вновь явился к нам, предлагая купить четыре тысячи десятин (?) по двадцать рублей землю из-под леса в своем Мозырском уезде, в Скрыгалах. Он же брался распродать землю крестьянам, которые прибудут на его зов из Волыни. Красноречиво убеждал он нас: нам придется только съездить к нотариусу подписать купчую, а затем все, все хлопоты падут исключительно на него. Владелец этих четырех тысяч некий Любимов, уже телеграфировал нам, что готов выехать совершать запродажную. Мы с Витей слышать не хотели о такой парцелационной[167] «афере»… и решительно отказались. «Ну, не минуете вы меня, – мрачно проговорил Кулицкий, стиснув зубы, – с таким колпаком все равно далеко не уедете. Сколько времени покупаете! Другие за это время успели два раза обернуть свои деньги!»
Но мы только были рады, что сумели от него избавиться! Оленька же, не желая слушать оправданий Фомича, очень огорченная, что последняя надежда, Бенин, тоже сошел со сцены, стала собираться в Губаревку, предварительно сделав крюк в Козельщину, ее давнишнюю мечту, чтобы посетить бывшее имение ее друга Владимира Ивановича. Поехала с ней и Урванцева помолиться у Козельщинской Божией Матери, которую она особенно чтила.
Проводив их в Козельшину, нам стало скучно сидеть в городе в самое лучшее время года. Витя решил меня завезти к своей тетушке фон-Кехли, в Зябки, бывшее ее имение по Полоцкой железной дороге, пока он дня два-три проведет на ревизии одного земского начальника в Парфианове, в соседстве по той же дороге. Так как после своей тяжелой поездки в Бенин Фомич просил пощады, чтобы полечить расшалившуюся печень и заняться ремонтом своих домов, то мы по дороге к тетушке решили сами заехать в очень расхваливаемое имение Кривичи, в Вилейском уезде, в Виленской губернии. «Шестьсот десятин с усадьбой и мельницей продавалось за семьдесят тысяч».
Имение действительно было хорошенькое, особенно в лучах майского солнца: и сверкавшая на солнце Исса, и луга, и домик неплохой, и земля хорошая, несмотря на множество камней по полям. Но странное чувство охватывало нас всякий раз, когда слова переходили к делу: когда разговоры об имениях, одно другого краше и выгоднее, по словам комиссионера, сменялись трезвою действительностью, мы начинали понимать, что вовсе не так легко решиться поселиться в чужом гнезде и зажить чуждою всем жизнью.
«То-то порадуется Леля. «Кривичи» – одно название для него чего стоит?» – фантазировала я, подъезжая к этим Кривичам, а потом, потом? Давай Бог ноги вон! Из Кривичей Витя завез меня к Кехли, а сам уехал в Парфианово. Зябки были проданы тетушкой какому-то разбогатевшему мужику, который уже поселился в доме, а сами Кехли ютились, напротив, в длинном и низком доме, бывшей службе, на самом берегу красивого озера. Здесь, конечно, мне пришлось выслушивать все обычные рассказы Полины Владиславны о своей родословной, о польских магнатах и родственных с ними связях. Старик Кехли был гораздо скромнее и довольно смиренно переносил постоянную воркотню супруги, которая вовсе не щадила его самолюбия. Но прелестная их дочь Бэби производила очень приятное впечатление.
Конечно, тетушка, любившая обо всем говорить с неподражаемым апломбом, взялась указать нам ближайшие имения, которые продавались. И когда Витя вернулся с ревизии, она направила нас к какому-то соседу, польскому графу, и в Плиссу, верст за 15 от Зябок. Так как был праздник Троицы, мы решили съездить их посмотреть. Нам дали таратайку, запряженную в одну лошадь, с мальчишкой на козлах. Ехали мы песчаной дорогой, бесконечными сосновыми лесами, в жаркий майский день с красным солнцем из-за дымки дальних лесных пожаров. В имении графа нас встретил управляющий с негодующей физиономией: «Совсем имение не продается! С чего это вы взяли?» При этом была выпущена свора собак, испугавшая нашу кобылу. Она круто повернула оглобли и чуть не вывалила нас среди двора прямо в разинутую пасть собачьей своры.
В Плиссе нас встретили радушнее: хозяйка полька Лесневская угостила даже обедом, очень расхваливала «свою Плиссу», показывали свой дом с непременной особенностью в имениях этого края – креслами, в которых сидел Наполеон в 1812 году. Да и все герои Сенкевича жили именно в Плиссе или в ее соседстве.



