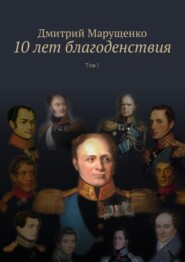скачать книгу бесплатно
10 лет благоденствия. Том I
Дмитрий Сергеевич Марущенко
Описываемые в книге 10 лет благоденствия – это последние 10 лет правления императора Александра I и первые месяцы царствия его брата Николая. Это время потрясений всего политического устройства Европы, время надежд и великих побед. Такого резкого развития общественной мысли и политических идей в России еще никогда не было. Это время называли эпохой благоденствия. Только одни называли ее так всерьез, а иные называли ее с саркастической ухмылкой.
10 лет благоденствия
Том I
Дмитрий Сергеевич Марущенко
© Дмитрий Сергеевич Марущенко, 2022
ISBN 978-5-4485-9483-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Пролог
Шел первый год девятнадцатого столетия. Европа содрогалась от революций на Западе, Британия никак не могла поверить, что одна из крупнейших ее колоний возомнила себя самостоятельной страной, а Россия четвертый год управлялась вихрем, бурей, рьяным шквалом безграничного самодержавия, носящимся во все стороны по имени Павел Петрович Романов-Гольштейн-Готторпский. В общем, это был больше Гольштейн-Готторпский, чем Романов, прусский принц, вернее – сын прусского принца и не слишком богатой немецкой принцессы Софьи Августы Фредерики Ангальт-Цербстской, ставшей в России волей императрицы Елизаветы Петровны, Екатериной Алексеевной. С русским миром и русским престолом Павла Петровича кровным родством соединяла лишь его бабка по отцу – дочь Петра Великого Анна.
Правил он, как и положено государям всех времен, в своей столице, откуда редко куда-либо выезжал. А российская столица, где бы она не находилась, всегда полна интриг, слухов и сплетен. Сочинением этих мерзостей занимаются только бездельники, бездари, завистники и вообще люди с беспробудно темной душой. Каким бы тираном и деспотом не был властитель и как бы он ни ненавидел этих темных личностей, они найдут возможность проявить свой талант излить свою желчь и распространить ее по столичному мраку светского общества. Это понимал Павел Петрович, человек по своим благородным качествам неплохой, хоть и был император. Чтобы огородить себя и свою августейшую фамилию, он выстроил целый замок в Петербурге. Как и положено замку, вокруг него был вырыт ров, через который не могла пройти ни пехота, ни конница. Четыре ворота поднимались с наступлением ночи, и никто не имел права их опустить. Лишь только маленький подъемный мостик разрешалось опускать для швейцара и караульных. Полным доверием императора пользовался адъютант гренадерского батальона Преображенского полка, по совместительству плац-адъютант замка Аргамаков, которому было разрешено входить в покои Павла Петровича даже ночью. Никто более в империи не был удостоен такого доверия этого самого недоверчивого царя в истории Романовых.
Впрочем, ночами царь спал крепким солдатским сном. Распорядок дня у него тоже был по-настоящему военным, рано ложился и вставал ни свет ни заря, в чем, может быть, была его ошибка, ибо зло, которое он так сильно последнее время подозревал вокруг себя, всегда поднимается и действует с приходом ночи. Таким образом, поздно вечером одиннадцатого марта сего первого года девятнадцатого столетия, был вечер у графа Палена. Сей огромный, но добродушный с виду граф, один из самых властных людей Петербурга (а значит, и России) совмещал в себе должности генерал-губернатора столицы (что давало ему еще лишнюю власть над гвардией и городской полицией), заведующего почтой всей империи, заведовал также финансами и иностранными делами. Вся исполнительная власть, главная рука и опора государя, собирала в этот вечер людей, отнюдь не любивших этого государя, глумившихся над его именем, передразнивающих его манеры, привычки, и открыто его здесь ругающих. Сия опора государя не только им это позволял, но и хорошенько это поощрял, подпаивал их, воодушевлял на оскорбления государя, потому как сам был во главе этих Павлоненавистников.
После пьяного вечера у графа Палена с патриотически воодушевляющими речами второго после хозяина трезвого человека в команде – старого, но действующего генерала Беннигсена, заговорщики решились на свержение Павла.
Итак, настроенные всем графом вон-дер-Паленом, но, однако же, без него, под руководством шталмейстера графа Николая Зубова и генерала Беннигсена, сто восемьдесят заговорщиков кинулись по маленькому мостику в небольшой проход в замок. При подходе к замку эта огромная толпа разделилась на два отряда. Первый отряд под управлением Беннигсена и братьев Валерьяна, Платона и Николая Зубовых, состоявший из Семеновского полка, заняли место внутреннего караула, по причине, что действующий караул из любимого Павлом Преображенского полка должен быть распущен и готовым быть к утреннему смотру. Преображенцы почувствовали неладное, но их командир поручик Марин, приказав встать смирно, сразу унял возмущавшихся гренадер, после чего они простояли так всю оставшуюся ночь. Солдат не смеет думать, солдат смеет только исполнять приказ. Второй отряд под начальством генерала Тальзина со своими батальонами стал окружать замок. Птицы, гнездившиеся в прилегавшем саду, от приближавшихся солдат подняли шум, который напугал и заговорщиков, и оба караула. Но заглохли так же быстро, как и поднялись; за ними успокоились и солдаты.
Внутри замка оставшийся отряд Зубова и Беннигсена вошел в коридор, где от спальни императора отделяла их одна комната. Дверь в эту комнату была открыта, но два гусара из внутреннего караула, встали перед дверьми. Несколько офицеров, шедших впереди, смели их; один гусар был заколот, другого серьезно ранили. Зубов и Беннигсен шли через комнату. Дверь в опочивальню Павла заперта изнутри, он точно там! Офицеры выломали дверь и ввалились в небольшую спальню, у правой стены которой стояла обычная походная кровать с расправленной постелью, в которой Павел, к удивлению одних и страху других, отсутствовал. Некоторые заговорщики убежали, испугавшись, что Павел предугадал заговор и сейчас же их казнит, другие начали осматривать спальню и комнату перед ней, а Беннигсен спокойно подошел к горнице, что была в левом дальнем углу комнаты, отодвинул шармы, за которыми увидел прятавшегося со шпагой Павла в пижаме. «Вуаля», – сказал Беннигсен и вышел в коридор. Заговорщики вытащили императора, который, несмотря на сильное волнение, пытался сохранять спокойствие. Платон Зубов, не выдающийся атлетичностью своего брата Николая, но восполнявший сие своим красноречием, долго выносил приговор императору, объясняя попутно эту ночную внеплановую аудиенцию Павла. Зубов не знал, как обращаться к отставляемому императору, «ваше императорское величество» еле задерживалось на языке.
Император обвинялся унижающими дворянство законами, ввязыванием России в бестолковые и ненужные ей войны, частыми, резкими, спонтанными и ничем не объяснимыми переменами курса царской политики как в отношениях с другими странами, так и с собственными подчиненными, глупыми модными запретами, ограничивающими людей одеваться так, как они хотят, и, наконец, серьезной ссоры с Англией, с которой большая часть помещиков имела дела, сбавляя туда почти все, что они производили, от продуктов и шкур, до текстиля и пряжи. Царь, поначалу успокаиваясь, выслушивал, но потом начал спорить с Зубовым и повышать в споре голос. Стоявший рядом мутный от выпитого галлона шампанского Николай Зубов ударил Павла по руке. «Что ты так орешь?» – проревел Зубов. Павел не хотел мириться с такой дерзостью, не взирая на свое невыгодное положение. Видимо, спокойные разговоры с Платоном Зубовым расслабили Павла и уверили, что для него это собрание может кончиться благополучно, но дерзкий поступок в виде ответа Павла на удар по его руке Николаю, заставил последнего пустить в священный и неприкосновенный череп золотую табакерку, черт знает, как оказавшуюся в руке Зубова. Наместник Божий, благословенный мучитель русского мира и кошмар мира европейского, рухнул на пол. Непонятно, был ли он еще в сознании или организм отключился тут же от сильного удара по голове, но прежде чем толпа хотела наброситься на тело в этом его непонятном состоянии, среди нее показался Беннигсен со свечей, разглядывавший до сего картины в коридоре. «Не надо быть глупцами и пренебрегать уроками, что дает нам не столь давняя история, – заговорил он спокойно, с расстановкой, старческим, но сильным голосом с немецким акцентом, встав перед дверьми, держа свечу и смотря в пол, не осмеливаясь взглянуть на участников заговора. – Не забывайте, что перед вами, господа, русский самодержец, которому чужда грамота и чужды собственная печать и собственное слово. Ему чужд закон человеческий и закон Божий. Что он напишет и подпишет сегодня, на то он плюнет и растопчет в земле завтра». Старый генерал повернулся от толпы, так на нее и не взглянув, то ли пряча от них глаза, то ли не позволяя сотоварищам посмотреть в его лицо. В дверях он остановился и стоя спиной тихо произнес: «Этой ночью земле суждено обагриться кровью. И только от нас зависит, отправится на тот свет одна душа, или небеса примут сто восемьдесят наших душ!» Итак, толпа вооружилась не только пьяным зверством, безумием и жаждой насилия или мести за какие-то личные обиды, но и заручилась логическим предположением, руководствуясь теперь еще и инстинктом самосохранения. Она начала жестоко добивать тело своего правителя. Скорятин, снявши с кроватей шарф императора, обвязал им его горло и крепко его стянул. Остается только надеяться, что наследный законный император всероссийский его величество Павел Петрович Романов был уже мертв и не чувствовал ни ударов в голову, будто ему было мало табакерки, ни прыжок французского камердинера ему на грудь, ни пинков по бокам, где каждый из этой тьмы озлобленных вельмож, пытался пересчитать священные его ребра…
Младшие великие князья Николай и Михаил были еще слишком малы, играли в солдатиков и мало что понимали из вокруг совершавшегося. Их разбудили посреди ночи уже 12-го числа, объявили о смерти их горячо любимого отца. Они, только поняв, что случилось нечто ужасное, плакали, но через полчаса-час, спали в своих кроватках тем же беспробудном сном, из которого их подняли до того. Ставший в эту ночь императором Александр Павлович смотрел с еле сдерживаемой ненавистью на Палена, давшего ему слово, что его отец отречется и останется невредим. Мало найдется людей, которые бы переживали столько разных, сильных и противоречивых чувств в одно время, людей, которые имели бы безграничную и законную власть, но ничего сделать не могли. В одну ночь, вся власть самой большой империи в истории человечества перешла в руки молодого юноши, в одну эту ночь повзрослевшего, но не знавшего, кому можно верить, на кого положиться, и что делать с этой огромнейшей и богатейшей страной в мире.
Цесаревич Константин, ставший теперь на один шаг ближе к трону, после прощения с телом отца твердил все одно про себя, что «никогда, никогда, никогда я не буду править! Брат, если хочет, пусть правит, но я ни за что! Если будут просить, уеду, куда угодно, во Францию, Британию, хоть за Океан, но не буду править! Никогда!»
Глава первая
«Кажется, такого переполоха не было со времен нашествия гуннов в V веке. С одной лишь разницей, что гунны шли с востока на запад, а наполеоновская военная машина, собранная из десятков европейских народов, двигалась с запада на восток. Начало века было многообещающим. Казалось, не только все люди, но вся живая природа, каждая травинка, каждая букашка понимала, что живет в великую эпоху изменения всего миропорядка, всей человеческой цивилизации. Они были свидетелями возникновения новых государств, видели, как народы сами выбирают свою судьбу, видели освобождение целого континента от изверга, от деспота, от изувера, возомнившего себя правителем всей Европы. Поразительно, как Европа быстро оправлялась от этого удара. Теперь ее освободители ей стали не нужны, пришло их время возвращаться на родину, домой. Но как же хорошо в этой Европе, освободившую себя от рабства господ, обрётшей голос и волю; как же хорошо этим народам, имеющим право управлять собственным государством. А что же дома? Дома они… Почему я говорю „они“? Это же мы! Дома мы не были два года. Мы уже начали забывать наш дом, мы даже начали забывать родной язык! Когда мы шли в Европу, мы были преисполнены жаждой мести французам за наше поражение при Аустерлице, за Фридланд, за отступление. За Москву! За сожженную древнюю столицу нашу, за поруганные храмы, осквернённые мощи наших святых, за одну лишь попытку сломить наш дух!.. Когда мы вошли в Париж, наш светлейший благословенный государь император Александр Павлович сразу же предупредил нас о мести, а жителям Парижа он сказал еще до вступления: „Я уважаю Францию и французов и желаю, чтобы они поставили меня в положение, которое дало бы мне возможность сделать им добро. Я не вступаю в их стены в качестве врага и что от них зависит иметь меня другом“. Мы и раньше его любили, как должен любить каждый солдат и каждый русский своего государя, но с этого момента мы поняли, какой меры, какого размаха была душа нашего императора. Мы полюбили его новой безграничной и преданной любовью верноподданных государю, не какому-то очередному европейскому монарху, – они все едины из века в век, все только и думают всё свое царствование, как бы друг друга обмануть и завоевать. Но наш император был иной, это был истинный русский православный царь, показывающий пример милосердия и всепрощения, но в то же время имеющий силу и волю создавать целый новый мир. Мы стремились быть как он, мы учились его взгляду, его походке, его манерам. Как же мы могли так ошибаться, по молодости своей считая за идеал Наполеона! К черту Наполеона, этого кровопийцу, этого обманщика!.. Мы воссоздали мир в Европе, теперь настала пора сделать то же на своей земле. С поддержкой и безграничной верой народа, императору будет легко воздвигнуть такое благоденствие в России, которого никогда не было ни у одного народа в истории!»
Это не мысли конкретного человека, героя, которого мы будем преследовать всё наше повествование на протяжении всей его жизни. Это мысли целого поколения молодых и энергичных людей, переживших как минимум одну войну – освободительную, против бывшего своего идола, а теперь – поверженного ими же врага. Беспрецедентное и, если так можно выразиться, оригинальное поколение, новое поколение, новое потому, что в отличие от других поколений, доходивших некогда до Крыма, до Варшавы, до Праги, Берлина и Кавказа, это новое поколение не просто сталкивалось с новым для себя миром, с иными традициями, верованиями и мировоззрениями. Это поколение могло это всё ещё и осмыслить, и сравнить со своими традициями, верованиями и мировоззрением.
Солдаты и офицеры, проведя в сплошных военных действиях кто два, кто три года, теперь должны были вспоминать, каким должен быть их быт во время мирной их службы у себя дома. Ведь быт солдата во время военного похода кардинально отличается от быта простоя во время бестолковой службы в местах квартирования их войск. Он в начале XIX века не очень отличался от быта солдат прошлых и будущих времен. Единственной отрадой было придумать способ утолить свою алкогольную жажду так, чтобы этого не заметило начальство. Впрочем, тогда даже в гвардии полагалось некоторое количество вина на каждую роту, для расслабления тела и духа, изнеможённых тягостями службы. Но можно, не вникая в факты, догадаться, что отпущенное количество вина считалось буквально за каплю от того, сколько самим солдатам нужно было в действительности. Таковым был и любимый императором Семеновский полк, до того поколения, что взяло бразды его правления в Отечественную войну и заграничный поход. Вдохнув свежего тогда европейского воздуха, пропитанного новыми идеями человеколюбия, равенства и ограничения монаршего деспотизма, они, кроме того, как болтать обо всём ими увиденном и осмысленном, начали действовать, полагаясь на всё это увиденное и осмысленное. Уже неся службу в России, они выписывали европейские газеты, громко читали их вслух, никто это не возбранял, ибо возбранять было некому, а тот, кто мог это делать, сам зачитывался подобной публицистикой. Но как ни странно, несмотря на эту повальную моду на новые идеи, в обществе, – и в военном, и в светском, – крайне холодно относились к тем людям, которые рассказывали вольные мысли не из газет, а из собственной головы. Вообще, в ту пору часто начали звучать такие эпитеты в адрес непохожих на остальной свет людей, как «сумасшедший». Таким «сумасшедшим» был Федор Толстой, из бедной ветви знаменитого графского рода. Граф Толстой с юных лет, то есть с середины 1800-х годов, решил серьезно заняться изобразительном искусством. Но позвольте, граф, дворянин, с кисточкой в руке? Пишущий картины? Создающий скульптуры? Даже несмотря на тот факт, что сам император посоветовал Толстому оставить службу ради развития своих талантов, дамы от такого новшества падали без чувств, а их мужья считали его за сумасшедшего. Или другой весьма уважаемый всеми человек, Николай Тургенев, который любой разговор выведет к своей любимой теме. Он утверждал, что все люди должны быть равны, что ничего выше закона быть не может, а самое для него главное – это свобода каждого человека, как он называет, гражданина. Яростно ненавидит крепостных помещиков, дышит к ним такой ненавистью, что одного чуть не вызвал на дуэль. Драться на дуэли из-за крепостных, ну правда же, разве он не сумасшедший?!
Нельзя сказать, что кто-то из вернувшихся из заграничного похода первым стал излагать свои соображения по поводу хаоса в стране, царившего везде, куда ни глянь. Все они, от первого до последнего, находясь еще во Франции, Голландии и Пруссии, затем в дороге домой, а потом уже возвратившись сюда, высказывали мысли, недовольства, какие они замечали в своем отечестве, ими же спасенном. В то же время император Александр обещался после спасения и водворения порядка в Европе, приняться за учреждение порядка в своей империи, и вся империя, от беднейшего босоногого крестьянина до не растерявших последний свой рассудок министров и главнокомандующих, с нетерпением этого ждала. И тут особенно возвращения императора ждали эти самые офицеры, увидевшие эту разницу между побежденной страной, в которой народ имел больше прав и свобод, чем где бы то ни было, и победившей страной, в которой большая часть населения не имела ни прав, ни свобод и не смела о них даже мечтать! Эти офицеры были люди с громадной любовью и преданностью к своему отечеству, безграничной преданностью, как к нему, так и к императору. Преданность этим двум материям сравнима была с любовью и преданностью отчему родному дому и родителям, они едины и одно без другого не может быть.
Полагаем нужным здесь еще вставить примечание и объяснить, почему именно сейчас нашлись эти люди, учуявшие эту ужасную и вроде как несправедливую разницу.
В те недалекие времена, когда французский народ затребовал свои свободы, права и равенства, да затребовал так, что все остальные монархии, включая Российскую, содрогнулись от такой дерзости и такого кровавого способа заполучения этих пунктов, наше правительство настоятельно не рекомендовало своим верноподданным отправляться во Францию (то есть, говоря прямо, запрещало). С воцарением Павла Петровича, не любившего разъезд своих подчиненных, запрещено стало выезжать теперь уже совсем заграницу, не только во Францию, неважно по какой причине. Торговать, лечиться и учиться в неполные пять лет его правления дозволено было только в России и даже желательно своими средствами. С восшествием на престол его сына Александра дело поменялось, границы в тот же год открылись, но отношение с Францией с каждым годом ухудшались, пока дело не дошло до прямой конфронтации. В эти небольшие более-менее мирные и свободные для аристократии времена некоторым молодым ее представителям удалось вырваться на свежий европейский воздух, но их количество было столь невелико, что их уже новый образ мыслей, который уже тогда начал зарождаться, не имел никакого влияния в обществе. Лишь единицы из правительственных чинов, такие как Мордвинов, Муравьев-Апостол и Столыпин, выказывали крайнюю неприязнь ко всему, что задерживало развитие страны и движение ее народа к внутренней свободе, и делали они это не по какому-то вдохновению, навеянным заморскими идеями, но по прямым следствием работы от природы гениального и живого ума. С заграничным походом, в котором участвовали абсолютно все умнейшие, энергичные люди, несмотря на возраст, происхождение и состояние, все получили возможность оказаться на родине Вольтера и Монтескье, воочию увидеть величие и радость гражданской (какое новое слово!) свободы, чтобы увидеть свою страну в таком диком, ужасном и позорном состоянии. Это было целое поколение, и уже оно при той энергии, что возникла при всенародном подъеме против врага отечества, не могла остановиться, осесть и ждать, пока правительство соизволит приступить к исполнению улучшения дел в стране. Потому они собирались уже в мирной жизни, непосредственно на своей родине и активно обсуждали, каким образом, уже в этой мирной жизни они могут быть полезными своему отечеству.
Так, например, в один морозный февральский вечер (для любителей точности укажем дату целиком – 9 февраля 1816 года (здесь и во всем романе даты указаны в старом стиле)) один из этих безудержных русских патриотов – Александр Муравьев – пригласил к себе ближайших своих знакомых, с которыми у него были наиболее тесные дружеские отношения. Хотя с большей частью приглашенных он имел еще и родственные связи. Так, первым к нему был позван его кузен, прапорщик генерального штаба гвардии Никита Муравьев. Кузенами по другую сторону его рода были офицеры Семеновского полка Матвей и Сергей Муравьевы-Апостолы, сыны вскользь упомянутого прогрессивного дипломата Ивана Муравьева-Апостола. К этому братству вольнодумцев были приглашены лишь двое, также семеновцев, которых сводили с ним только дружеские сношения – поручик князь Трубецкой и подпоручик Якушкин (хотя последний этот тоже, кажется, имел отдаленное родство с Муравьевыми, но настолько отдаленное, что им можно пренебречь).
Самыми младшими из этого дружеского секстета были Сергей Муравьев-Апостол и Никита Муравьев, обоим было под двадцать. Остальные были на 3—5 лет старше, что было не столь существенно, так что не станем акцентировать на это внимание. На внешности наших героев мы также сэкономим уйму времени и бумаги, ибо описание внешности всегда дело неблагодарное, ведь люди описывают людей всегда не так как встречают, то есть по одежке, а как уже успели прочувствовать душу человека и взглянуть на его повадки. Потому и мы, во избежание предвзятого, бестолкового и возможно ложного описания внешности, покажем не кривые губы Якушкина, придающие ему как бы вечно недовольную гримасу, не огромный нос Трубецкого, доставшийся ему от матери – наследницы грузинского рода, не взъерошенные волнистые темно-русые волосы Никиты, его миловидное лицо с карими глазами и уже густыми бакенбардами, выражавшее ум, какую-то постоянную обработку множества мыслей, хотя некоторые его современники видели в этом лице какую-то придурковатость. Именно потому пошлем к черту эту изменчивую внешность, эту самую простую ложь, которую только может выдумать человек. Покажем больше мысли этих и прочих замечательных людей по мере того, как они их будут производить и делиться друг с другом. Но перед тем увидим их прошедшие заслуги и награды, данные за них.
Никита Муравьев был сыном учителя Александра Первого по русскому языку. По слабости здоровья был участником только заграничного похода, и то был принят в гвардию, когда стали уверенными, что он сможет перенести этот поход. И хотя он был определен в свиту Его Величества по квартирмейстерской части, ему не удалось избежать боев, чему он, впрочем, был очень рад. Сергей же Муравьев-Апостол начал войну 1812-го в звании подпоручика и был откомандирован в армию, а возвратившись в Россию был переведен в Семеновский полк в звании поручика. Его брат Матвей, бывший на два года его старше, но на два вершка его ниже, прошел намного большую и интересную службу, успешно участвовал в сражениях под Бородином, Вильно, Пирне, пока не был подстрелен коварной пулей в ногу. Сия рана никак не могла зажить вот уж третий год, по которой служба Матвея Ивановича немного замедлилась, но бросать ее он все же не решался.
Господин Иван Дмитриевич Якушкин служил также в Семеновском полку в звании подпоручика. Начал военную карьеру с начала отступления русской армии из Вильно в сторону Бородина. Отроду он был двадцати трех лет. Князь Трубецкой же вместе с зачинщиком собрания, Александром Муравьевым, был самым старшим здесь. Смелый поручик того же Семеновского полка начал войну вместе с Якушкиным походом от Вильно, служил с отличием до самой кровопролитной бойни на тот момент в истории, в которой пролилась и его кровь, от ранения ядром в ляжку. Что касается Александра Муравьева, он уже был капитаном и примерял не без основания полковничьи эполеты. Служба его полностью связана со всей последней войной с Наполеоном, начиная от того дня, когда тот перешел Неман и заканчивая взятием Парижа. В свои двадцать пять имел при полном параде форму, всю увешанную российскими, австрийскими и прусскими орденами за стойкость, мужество и смелость. Как и его младший кузен служил в гвардейском генеральном штабе.
Эти молодые офицеры часто собирались без причины, да и сама причина нужна ли была им? Но в этот день Александр Муравьев решил собрать свой кружок единомышленников для определенной цели. И прежде чем уже приступить к подслушиванию и подглядыванию за ними, сделаем последнее тут примечание. Так как множество разговоров происходило на французском (не говоря уже о письмах), но для удобства читателя, особливо чтобы не смущать не знающих этого чудного языка, на котором, как верно сказал великий классик, наше общество не только говорило, но и думало, мы будем пересказывать речи и мысли их на привычном родном великом и могучем русском языке. К тому же, на каком же ином языке, кроме русского, лучше передать любовь к русскому миру, к русской культуре, в конце концов, к русскому народу!
Когда пятеро позванных офицеров пришли, Александр начал:
– Господа! Сегодня я и мой брат Никита созвали вас всех не для пустых и отвлеченных разговоров. Я вам всем по отдельности говорил уже о своей идее, но я не рассказывал ее в подробностях. Я предлагаю создать в гвардии у нас общество достойных русских офицеров, препятствующих злоупотреблениям немецких и вообще иностранных начальников, не щадящих русского солдата.
– А по-вашему, русские начальники все до одного относятся к своим подчиненным как к детям родным? – спросил Матвей Муравьев-Апостол. – Для русского начальника русский солдат есть скот, если не хуже! Даже бежавших из стада баранов или быков не секут так, как забивают русского солдата шпицрутенами за оторванную пуговицу! Я думаю, если и делать такое общество, чтобы распространять человеколюбие и здравый смысл, то распространять их среди всех, лишенных сих качеств.
– Пожалуй, Матвей Иванович прав… – отозвался Трубецкой.
Матвей же Иванович, переведя дух, подытожил:
– Уж если и делать на кого-то усиленное влияние, то как раз стоит это делать на русских начальников, потому что иностранец не знает, как управляться с чужим для него народом, он смотрит на то, как начальники из этого же народа, обходятся со своими соплеменниками. Они видят, что русские начальники доходят до зверства в своей власти, и стараются их в этом перещеголять. Так что перво-наперво нужно воспитывать русских, а не немцев ваших.
Никита решил оправдаться перед такой, казавшейся жесткой критикой муравьевской идеи.
– Мы думали про немцев, потому что в гвардии полно выходцев из Пруссии.
– Их не более русских, Никита Михайлович, – поправил Матвей. – У вас двоих какая-то странная нелюбовь к немцам. Вас надо женить на немках, сдружить с этой нацией.
Над шуткой Матвея посмеялись лишь брат Сергей и князь Трубецкой, Александр Муравьев же, оставаясь абсолютно серьезным, сказал:
– Я еще думаю, что за гвардией дело не остановится, и общество можно будет распространить и в Армии.
– Я даже знаю, кто у нас послужит агентом в нашей армии! – сказал Никита.
– Право? И кто же? – вопросил Матвей.
Никита пристально и с воодушевленной улыбкой посмотрел на Якушкина.
– Я совсем был занят своим переводом, – сказал Якушкин, – и как-то совсем позабыл об этом рассказать.
– Странное это дело, – сказал Александр. – Когда любой солдат желает служить в лейб-гвардии, вы из нее бежите! Хотя Никита прав, наш друг Якушкин послужит нам благим и верным делом.
– Вашего общества еще нет, – сказал Матвей, – так что не в чем и некому нашему другу Якушкину помогать.
– Для начала нужно выработать идеи, – сказал Трубецкой. – Иметь ясную цель, ради которой создается общество.
Александр:
– Хорошо, давайте подумаем, что нам не нравится, как мы это собираемся исправлять, и почему мы берем на себя право исправлять то, против чего другие не могут или не хотят восставать? Отсюда сразу и выльется весь статут общества.
Якушкин:
– Нам не нравится, что народ Российской империи, самой большой и великой державы в Европе и мире, находится в самом ужасном состоянии. Один человек берет неизвестно откуда не принадлежащее ему право угнетать существо, подобное ему самому, распоряжаться с ним как с предметом неодушевленным.
Трубецкой возразил:
– Иван Дмитриевич, ты не прав, говоря, что передается неизвестно откуда не принадлежащее ему право. Право это ему принадлежит, но дело не только в законе, разрешающем обходится с крепостными как с животными, но дело в традиции. Это ужасная, противная Богу и Его учению традиция, передающаяся из поколения в поколение. Отношение дворян к крепостным как к животным закладывается с самого детства.
– Согласен! – сказал Сергей Муравьев-Апостол. – Начальник не должен относиться к подчиненному свысока, офицер не должен смотреть на солдата как на свою собственность. Под эполетами человек так и остается человеком, а размер этих эполет зависит от его опытности и умения. Мужичку должно слушаться офицера из-за его опытности, а не из-за его имени и происхождения. Мы все происходим от Адама, все мы потому и равны.
Александр:
– Итак, первый пункт – это постепенное, но скорейшая отмена крепостного права. Это, может быть, самая масштабная и явная проблема нашего государства, но в обществе и в самом правительстве есть и другие серьезные недостатки. Например, вспомните знаменитый указ Елизаветы Петровны: «Возболело материнское сердце наше, когда достигло нашего слуха, что в земле российской в народе благочестивом начинает распространяться более и более зло, называемое лихоимством».
– Ну тут уже дело не в законе, дело в самом деле в одной только традиции, – сказал немного сомневающимся голосом Якушкин.
– Сложно искоренять в человеке то, благодаря чему он привык существовать, – сказал Александр. – Это лихоимство, это взяточничество, поборничество настолько уже давно вжилось в чиновничье сословие, что выдернуть это из их философии не представляется возможным.
– Но почему же, – вопрошал Никита, – почему же, если у нас не возникло сомнения, что можем убедить дворянское сословие в необходимости освобождения крестьян, почему нам тяжело поверить, что также возможно воспитать в них чувство долга и необходимость оставаться преданным законам чести и морали?
– Честь и мораль у чиновника? – усмехнулся Матвей. – Да Вы, видимо, шутите, Никита Михайлович!
Все, кроме Никиты засмеялись.
– Не стоит над этим смеяться! – сказал он, нисколь не смущаясь над смехом товарищей. – Чиновники состоят в основном из дворянского племени, а дворяне более всех остальных имеют высокое образование. А образованный человек не может жить в государстве и осознанно причинять ему и его народу вред.
– Никита, ты не прав в каждой своей мысли, – сказал Александр. – Дворяне ничем не отличаются от остальных людей, среди них есть и замечательные личности, а есть надутые болваны, с которыми ничего нельзя сделать. У нас почему-то получается, что последние чаще всего оказываются в числе правительственных людей. Будто этому правительству и не нужны люди инициативные, а нужны лишь марионетки. Но марионетки нужны только в том случае, когда правительство знает, что делает и жаждет своего немедленного исполнения воли. Но оно не спешит с этим.
– Значит, мы должны ему помочь.
– Помочь правительству? – вмешался Сергей Муравьев. – Да тебя за такую дерзость сразу отправят в крепость! Стоило нашей артели закрыться, так вы решили воспротивиться этому высочайшему приказу! За непослушание нас всех вышлют из гвардии! А я этого не хочу.
– Ты зря беспокоишься, Сергей, – сказал Александр. – Это правда, что артель в Семеновском полку твоем закрыли по приказу его величества. Я сам удивился этому, ведь это закрытие говорит лишь о том, что император не хочет распространения образования в армии. И повторное открытие подобного общества вполне вероятно приведет к жестокому наказанию. И поэтому мы и решили, что общество наше будет тайным.
– Не думаю, что Александр против образованных офицеров и солдат, – сказал Трубецкой. – И не уверен, что есть необходимость прятаться от кого-либо. Александр Павлович благоволит просвещению, он ведь даже увлекся ланкастерными школами в армии. А закрытие Семеновской артели связано может быть с чьими-то интригами. Может быть, кто-то из вас там дорогу перешел.
Александр будто не слышал Трубецкого и высказывал уже совсем иную мысль:
– Мы все должны сделать так, чтобы в наше общество входили люди способные, высокой нравственности и самых честных правил, сильной воли и нравственностью твердой, способные оказать влияние на окружающих своим авторитетом, а у начальства вызвать внимание и тем самым быстро продвигаться по карьере. Лучше бы нам всем не просто читать эти пустые газетенки из Франции и Англии, но самим учиться и вникать в политические науки. Инициатива, которую мы предпринимаем и та ответственность, что мы собираемся нести, не может быть необразованна и лишена знаний. Мы богаты практическими знаниями, мы все были во Франции, мы освобождали от тирании всю Европу, город за городом. Но в теории мы слабы и являемся полными невеждами. Некоторые из нас слушали курсы в Европе, даже знакомились с известными философами, но это все баловство. Мы должны сами себя воспитать и воспитывать друг друга.
– Это хорошая мысль, Саша, – сказал Матвей, – но слишком уж отдаленная. Нам нужно сначала разработать устав, по которому будем знать, кого можно принимать в члены, каким образом и что им говорить.
– Устав придумать проще пареной репы, – отрывисто сказал Якушкин. – На счет принятия скажу одно: чтобы избежать огласки, нужно принимать очень осторожно, не рассказывать об обществе, пока не будем уверенны в истинности благонамерений человека, которого хотим принять. И принимать лучше тех, кто известен всем нам. Если кто-то из нас не знает этого человека, тот кто хочет его принять должен рассказать о нем все, что знает.
– Ну-с, – хлопнул Сергей Муравьев по своим коленам и встал, – как создадите, так и позовете, интересно будет прочесть, что вы там насочиняете.
– Ты уже уходишь? – спросил Александр Муравьев. Все тоже немного удивились, что посреди такого серьезного разговора столь активный и одаренный человек решает покинуть их.
– Мне кажется это все пустой затеей. Извините, господа.
Сергей только отошел от возмутившихся против него товарищей, как что-то вспомнив остановился, чем сразу немного заставил замолкнуть их, и повернулся к Якушкину.
– Да, кстати! – сказал Сергей. – Куда ты направляешься, Иван Дмитриевич?
– Я думаю перевестись в 32-й пехотный полк.
– Это который недалеко от Полтавы, кажется?
– Да… Примерно там.
– Здорово… Наш отец живет под Полтавой, если повезет оказаться совсем рядом, милости просим в наше имение. Наш добрый старик будет тебе рад, как родному.
Сергей снова повернулся, чтобы уйти, как опять возвратился к Якушкину.
– А почему именно туда? Полк ничем не примечателен, насколько я знаю.
– Он примечателен тем, что им командует мой старый знакомый еще с 13-го года.
– О! Боевой товарищ! Ну тогда нечего его задерживать, – обратился ко всем остальным Сергей и вышел.
– Куда младший, туда и старший, – сказал Матвей и тоже встал.
– И ты уходишь? – удивился Александр.
– А ты предлагаешь, сию же минуту создавать устав для твоей идеи? Э, нет! Идея хорошая, но слишком глобальная, чтобы сразу в нее бросаться с головой. Обдумаем, спокойно и не спеша обсудим эту затею после, так что-нибудь толковое из этого и выйдет. А пока – честь имею!
Матвей откланялся и вышел, и четверо остались в комнате бездвижны и молчаливы.
– Думаю, Матвей прав, и нам не стоит пока спешить, – сказал Якушкин.
– Думается мне тоже, – поддержал Трубецкой.
Александр погрузился в серьезные и глубокие думы. За каких-то минут пять было сказано столько о его идее, до чего он сам еще не доходил своим далеким, широким и живым умом.
– Ну что ж, – сказал Александр, немного отвлекшись от своих дум, – если вы так думаете, значит, так и поступим.
Четверо офицеров разошлись по своим местожительствам обдумывать на досуге о своем кружке. И пока они этим занимались, мы должны рассказать читателю об общей обстановке в стране и за ее пределами, которая, безусловно, оказывала огромное и решающее влияние на мысли наших героев, – тех, что мы описали, и тех, что вскоре у нас здесь появятся. А обстановку в стране, как во всей Европе задавал всего один человек, которому мы будем должны определить немало времени и внимания, а именно – император всероссийский Александр Павлович.
Глава вторая
I
Император Александр Павлович не был в России почти с отбытия армии, гнавшей врагов отечества со своей земли. Он не был хорошим военачальником, но зато был искуснейшим и, как это ни странно, честнейшим дипломатом и политиком. Военное дело он доверял полководцам, не входил в их планы и стратегии, но зато в разрешении международных дел, он один владел инициативой и задавал тон всем делам Европы. При нем всегда находились умнейшие помощники, однако же они чаще выполняли роль не советников, а просто исполнителей или переговорщиков. В свои дипломаты он не гнушался приглашать иностранцев, и самыми доверенными из них были тогда выходец из Италии Поццо ди Борго, внук выходца Пруссии Нессельроде и грек по происхождению граф Каподистрия.
Поццо ди Борго был самым горячим и крикливым из этой дипломатической троицы. Его необузданный характер объяснялся и извинялся его происхождением из родины Наполеона, которого он так ненавидел. Эта ненависть и привела его еще в первое десятилетие в Россию, которая с распростертыми объятиями принимала на службу всех врагов Наполеона.
Про Нессельроде достаточно будет сказать то, что ему было говорено самим императором при его назначении в качестве личного помощника его величества, которое произошло прямо перед Отечественной войной: «В случае войны мне нужен будет человек молодой, могущий всегда следовать за мной верхом и заведовать моей политической перепиской. Канцлер граф Румянцев стар, болезнен, на него нельзя возложить этой обязанности. Я решился остановить выбор на вас; надеюсь, что вы верно и с должным молчанием будете исполнять это поручение, доказывающее мое к вам доверие». На счет молчания император видимо находился еще под куражом, который наводил на него Поццо ди Борго, Нессельроде же такое упоминание про молчание было совсем излишне, учитывая его верную, послушную, скромную, хоть и талантливую личность. Его таланты приметил даже Наполеон, когда Нессельроде был в Париже в должности секретаря тамошнего русского посольства. Наполеон тогда сказал кому-то про него, что тот далеко пойдет. И в этом оказался прав.
Граф Каподистрия, получивший европейское медицинское образование, но преуспевший в карьере русской службы, был самым романтичным, не всегда логичным в своих действиях, но был оценён императором своей проницательностью. К подобной с Нессельроде покорностью в службе императору, Каподистрия имел в арсенале своих выдающихся качеств абсолютное бескорыстие, полную инертность и безразличие к карьеризму. С такими качествами на русской службе он бы никогда не достиг подобного высокого поста, если бы не любимец Александра с первых лет его царствования граф Новосильцев не обратил на него внимание.