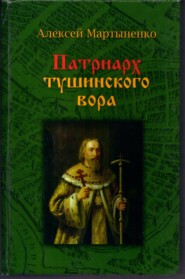
Полная версия:
Патриарх Тушинского вора
Потому систематизации подверглись лишь те отрывки, которые устраивали производимый заказ:
«Основные выводы были сделаны без сличения всех летописей и проверки их по многим спискам. В основу была положена Лаврентьевская летопись, кстати сказать, пестрящая пропусками, ошибками и описками. Крупная, отдельная и оригинальная ветвь русского летописания – новгородские летописи – была оставлена без должного внимания.
Когда за дело взялись более серьезно, теория уже была создана, а потому все новое, становившееся известным, подгоняли под уже принятую схему, а явно несогласное отбрасывали, считая за ошибку, фальшивку, а то и просто замалчивая» [140] (с. 84–85).
К тому же многое в летописях:
«…было понятно не верно из-за того, что понимали текст, исходя из норм современного языка, а старых форм просто не знали» [140] (с. 85).
И это вполне понятно. Ведь разговаривали в те времена наши доморощенные полуиностранцы на каком-то совершенно невообразимом сленге. Эти модники:
«…изъяснялись по-французски лучше, чем по-русски. Учебников древнерусского или славянского языка не было… Естественно, что смысл летописей изменялся при переводе до неузнаваемости» (там же).
Но и вся изобретенная немецкой «наукой» наша «история» представляла собой лоскутки, мало чем между собой сходящиеся даже по смыслу. И чтобы все это можно было как-либо хоть осмыслить:
«…надо было быть русским историком, а их не было. Ученый немец представлялся прямо олимпийцем, и на него смотрели чуть ли ни с благоговением. О серьезной критике их не могло быть и речи: и не было кому критиковать, и небезопасно было критиковать особ, находившихся под самым высоким покровительством, критика могла быть сочтена только “продерзостью”» (там же).
Но и в самой Западной Европе, чтобы придать выдвигаемой теории о городе Глупове какую-либо хоть видимость основы, весь имеющийся компромат следовало запрятать подальше от посторонних глаз. Что и было сделано. Ну, а уже потом, после драки, что называется, кулаками не машут:
«Иностранные источники, содержавшие ценнейшие сведения о Руси, не были вовсе известны, а во многих из них находились как раз прямые указания на ложность норманнской теории» [140] (с. 85–86).
Так что не все, к счастью, даже к сегодняшнему дню безвозвратно утеряно. И, как это ни выглядит странно, аккурат по западным источникам, то есть по мнениям о нас наших же врагов, только и можно сегодня распознать происходящие в те времена события.
Наши же отечественные источники подвергались фальсификациям куда как более тщательно. В наших головах формировалась история города Глупова:
«…на историю давила политика – германскому влиянию в России было выгодно поддерживать в русских убеждение, что без варягов им и теперь не обойтись. Норманнская теория считалась “благонамеренной”, и всякий выступавший против нее подвергался сомнению в “благонадежности” и т. д. Защищать диссертацию на антинорманнскую тему не было возможности: она непременно была бы провалена в совете профессоров» [140] (с. 86).
Вот что на эту тему сообщает профессор Н.П. Загоскин в своей “Истории права русского народа”, 1, 1899, 336–338:
«Вплоть до второй половины текущего столетия учение норманнской школы было господствующим, и авторитет корифеев ее Шлецера – со стороны немецких ученых, Карамзина – со стороны русских писателей, представлялся настолько подавляющим, что поднимать голос против этого учения считалось дерзостью, признаком невежественности и отсутствия эрудиции, объявлялось почти святотатством.
Насмешки и упреки в вандализме устремлялись на головы лиц, которые позволяли себе протестовать против учения норманнизма. Это был какой-то научный террор, с которым было очень трудно бороться» (там же).
Это было сказано еще в «старом добром» 1899-м году. Так что к изобретенной масонами теории Дарвина, «гениальности» Маркса и Эйнштейна следует теперь присовокупить и теорию о тысячелетней рабе – все вышеперечисленные течения созданы из воздуха вольными каменщиками и за баснословные деньги впрыснуты в эти политические мероприятия.
Но в 60-х гг. XX века были раскопаны Новгородские берестяные грамоты, после чего обнаружилось, что вся написанная о нас немцами галиматья оказалась ложью от первого своего слова до последнего. Вот тогда-то и подошли к более пристальному рассмотрению предъявляемых нам исторической наукой документов. И что же?
Обнаружилось, что:
«Лист “Повести временных лет”, на котором (!) основана норманнская теория, является фальшивкой» [36] (с. 252).
Так просто…
Истоки смуты
А вот как в России подготавливалась почва для успешного претворения в жизнь всех вышеперечисленных религиозных течений: марксизма и ленинизма, дарвинизма и норманнизма.
В начале о тайной организации, существование которой четко просматривается при проведении параллели: Иван Федоров («первопечатник») – Гришка Отрепьев – Симеон Полоцкий. Все они засветились непосредственным контактом с руководством тайного ордена «Василия Великого». Руководили же этой организацией на протяжении нами рассматриваемого столетия – князья Острожские.
Вот что сказано об Иване Федорове и Петре Мстиславце после того, как они попали в опалу за печатание крамолы при дворе Ивана Грозного:
«…прибыв в Литву, напечатали много книг, работая под покровительством Литовских вельмож… в местечке Заблудове, близ Белостока, у великого гетмана Григория Александровича Хаткевича, и в городе Остроге у знаменитого ревнителя Православия – князя Константина Константиновича Острожского…» [57] (с. 280).
Однако ж, на поверку, эти самые «ревнители Православия», что Гетман Хаткевич, что князья Острожские, свою враждебность Русскому государству доказали не только печатанием душевредной духовной литературы. Они и воевали против Святой Руси не только в переносном смысле, но и с оружием в руках: убивали русских людей и сжигали русские города.
А самыми главными действующими лицами во всей этой истории являются даже не покровители, а спонсоры этой адовой работы, направленной на подрыв идеалов Святой Руси. Вот что об их деятельности сообщает Нечволодов:
«Иван Федоров, человек семейный и больной, терпел страшную нужду. Он вынужден был заложить жидам все свои типографские снаряды за 411 золотых…» [57] (с. 280).
Вообще-то Иуда, помнится, запросил, между прочим, у них же, всего-то разнесчастных 30 сребреников. Нами же рассматриваемый «герой» оказался куда как более коррумпирован – потребовал сумму денег, в сотни раз превышающую Иудины запросы.
То есть работал наш воспетый историками в веках «первопечатник», после бегства со Святой Руси, в подозрительно узкой близости с теми из иноверцев, за общение с которыми, по правилам VI Трульского собора, что именно во времена Федорова и занес в «Домострой» Силвестр, следовало вообще отлучать от Церкви.
А вот кому досталось в наследство имущество Федорова:
«…и только после его смерти они были выкуплены Галицким Епископом» [57] (с. 280).
И тут, казалось бы, все вернулось на круги своя: Православная Церковь выкупила у иноверцев имущество нашего опального «первопечатника». Но вот кем был этот архиепископ, поставленный на кафедру в латинской стране, в которую превратилась в те времена Галиция со своим переходом в унию:
«…Православными епископами короли часто назначали угодливых им и Польской знати светских людей, только числившихся православными, по духу же совершенно преданных Латинству; точно также раздавались и игуменства в монастырях; все это, разумеется, вносило сильную порчу…» [57] (с. 281).
То есть печатный станок, после финансовых махинаций, оставшихся за кадром, достался представителю враждебной нам униатской церкви, с вероисповеданием Руси ничего общего не имеющей. Да и предшествующие покровители дела Федорова, подрывающего устои Православия, были к нам не менее враждебны:
«…князь Василий – Константин Константинович Острожский… воевал с полками Иоанна в Северской Украине.
Таким образом, оба князя Острожские – отец и сын, будучи Русскими людьми и горячо преданные Православию, могли служить Польским королям, и при этом вести ожесточенную войну с Православным Московским Государством» [57] (с. 282).
И это все притом, что именно при короле Стефане Батории, за которого они столь преданно против Святой Руси с оружием в руках сражались, начались:
«…открытые гонения на нашу церковь» [57] (с. 281).
Интересно, что еще за полвека до того, как отец и сын Острожские, пригревшие Ивана Федорова, с оружием в руках воевали против Святорусского государства, отличился и их предшественник (дед? прадед?) в сражении при реке Ведроше в 1501 г., где:
«Литовская армия, потеряв 8 тыс. убитыми, оказалась зажата со всех сторон… Почти все воеводы вместе с самим князем Острожским были взяты в плен» [243] (с. 29).
И вот как тесно переплела история родоначальника рассматриваемого нами гнездовья «ревнителей Православия» с еще одним масоном тех же времен. Вот что сказано о единоверце князя Острожского именно в год его пленения, когда заинтересованными в том лицами, несмотря на явное поражение, писалась ложная история Русской западной украины. В своем трактате, ложно объявлявшем о якобы принадлежности Новгорода и Пскова Польше:
«Уже к 1501 г. [сочинитель “Трактата о двух Сарматиях” Матвей] Меховский пользовался громкой известностью, как врач, и был придворным врачом и астрологом Сигизмунда I польского и Владислава чешско-венгерского» [264] (с. 5).
«Совершенно очевидны астрологические увлечения нашего автора: он ими даже несколько щеголяет, тщательно отмечая явления комет-предвестниц, цитируя Птолемея, его арабского комментатора и Пьетро д’Абано.
Во время Меховского астрология считалась наукой… [но] Между нею и церковной верой есть несомненное противоречие, сказавшееся, например, в судьбе Пьетро д’Абано. Он был таким же астрологом, как Меховский, попал за это в руки инквизиции с обвинением в занятиях магией, и только смерть избавила его от осуждения, а может быть и от костра» [264] (с. 34).
Но Меховский костра уже не боится, являясь придворным астрологом сразу у двух королей. И все потому, что его деятельность на посту придворного мага вполне соответствует и его утверждениям, что якобы «Новгород и Псков – литовские города» [264] (с. 12):
«Король Владислав поручил великое княжество Литовское и Самагиттское двоюродному брату своему, Александру Витольду, и тот, человек энергичный и смелый в бою, присоединил к Литве княжество Псков, называемое Плесковией, а затем – другое княжество Новгородское…» [264] (с. 104).
Так что уже во времена своих ужасных поражений, в данном случае при Ведроше, которое потерпел предок князей Острожских, пишутся легенды, в данном случае Матвеем Меховским, о неких якобы правах Польши на наши западные украины.
Таким образом, корни придворного масонства нами разбираемой Литвы теперь выявлены. А вот кто наряду с Федоровым и князьями Острожскими подхватил эстафету предательства уже при Иоанне Грозном:
«Наряду с Константином Острожским, другим большим ревнителем Православия в Польско-Литовском государстве был наш изменник – князь Андрей Курбский» [57] (с. 282).
Третьим же изменником, оказавшимся участником разбираемой нами истории, является гетман Мазепа. Именно в его тайном казнохранилище была обнаружена золотая медаль с изображением князя Василия-Константина Константиновича Острожского, сопровожденная латинской надписью:
«Константин Константинович… князь Острожский, воевода Киевский, маршалок земли Волынской…» [57] (с. 282).
Ну, и его сын теперь четвертым замыкает разбираемый нами круг весьма странных ревнителей Православия, преданность которому, по мнению все того же Нечволодова, он доказывал следующим образом:
«…Константин Константинович Острожский, сын победителя под Оршей, опустошил Северскую область до Стародуба и Почепа…» [57].
И тут совершенно не требуется гадать, чтобы определить настоящее вероисповедание разбираемых нами «ревнителей» Православия. Именно для борьбы с ними и их хозяевами:
«В Январе 1580 года Грозный созвал в Москве церковный собор и торжественно объявил ему, что Церковь и Православие в опасности, так как безчисленные враги восстали на Россию: Турки, Крымцы, Ногаи, Литва, Поляки, Венгры, Немцы и Шведы – как дикие звери разинули челюсти, чтобы поглотить нас…» [57] (с. 205).
Конечно же, Нечволодов пытается выгородить нашего «ревнителя», считая его всего лишь заблудшей овечкой. Но волчьи зубы этого «маршалка», когда многие в прошлом непонятные поступки наконец находят себе объяснение, слишком явно просвечиваются из-под шкурки овцы, оказавшейся ему явно не по размерчику:
«…иезуиты, окружавшие Сигизмунда, повели вопрос об унии настолько хитро и ловко, что многие Православные встретили мысль о ней благодушно, в том числе и князь Константин Константинович Острожский; это был по существу своему благородный мечтатель, который искренно думал, что предполагаемая уния будет настоящим соединением Церквей…» [57] (с. 354).
Но кулик кулика (или мечтатель мечтателя [был у нас еще один такой мечтатель – кремлевский]) видит издалека. Потому именно все туда же, в Острог, точно по проторенной Иваном Федоровым дороженьке, направляется и первый вор великой смуты – Гришка Отрепьев:
«…и он Гришка похоте ехати к воеводе Киевскому ко князю Василию (Константину) Острожскому…» [57] (с. 361).
Что же это за вальяжный барин, запросто принимающий у себя беглых монахов из русских православных монастырей?
«Несмотря на Брестскую унию… в его обширных владениях собираются и находят убежище все жертвы этой великой религиозной войны. Князь Острожский – могущественный покровитель. Его ежегодный доход определяют в 1 200 000 флоринов. Он держит у себя 2 000 человек челяди и шляхтичей…
Этот двор служит пристанищем для всех противников Рима: православных, реформатов, кальвинистов, тринитариев, ариан. Всякий, кто ненавидит “латинскую ересь”, находил здесь радушный прием» [149] (с. 93).
И на что же это такая неразборчивость в религиозных взглядах смахивает? Причем в узкой зависимости от ненависти к главенствующей религии страны?
На организацию вольных каменщиков:
«Строительные ложи всегда… давали приют всем еретикам, преследуемым католической церковью…
Чтобы иметь лучший успех, масоны поддерживали различные секты и вольнодумцев в области религиозной. Под видом широкой веротерпимости вносились ереси и расколы в христианскую церковь.
Реформация на Западе и протестантство тесно связаны с масонством и имеют корни своего происхождения в масонстве.
Словом, история масонства – это есть история борьбы с религией и церковью…» [270] (с. 98–99).
И вот каковы ужасающие темпы этой борьбы в нами описываемое время и в нами описываемом месте – в оккупированной поляками Белоруссии. После того как там:
«В 1562 году вышло первое русское издание катехизиса Кальвина… были закрыты и обращены в храмы кальвинистов 650 православных церквей» [277] (с. 71).
«Католические польские власти закрывали церкви, запрещали духовенству служить в них и не признавали легального существования Православной Церкви в Литве и Польше. В их глазах лишь униатская церковь имела право представлять православное население или, как они его называли, “бывшее” православное население Западной Руси» [277] (с. 73).
И вот интересный момент. Сами-то поляки затем, в период разгрома своей реформации, храмы свои у протестантов отберут. Отберут в свою же пользу и превращенные в протестантские кирхи храмы уже наши – православные. И если простой народ эта хитроумная вражья уловка с пути истинного своротит лишь отчасти, то барчук станет так окатоличен, что мы его уже и никак не сможем впоследствии считать своим.
И вот до какой степени он в тот период становится не нашим. Еще только в Новогрудском воеводстве:
«…из 600 наиболее богатых дворянских русских семей только 16 остались верны вере своих предков. Такие крупнейшие знатные фамилии, как Вишневецкие, Сапега, Огинские, Ходкевичи… примкнули к кальвинистам» [277] (с. 71).
А уже затем, в период «католического ренессанса», то есть ре-кальвинизации, все они станут до такой степени поляками, что у нас уже и язык не сможет повернуться назвать русскими, например, Сапегу или Ходкевича, братьев Вишневецких, поляков просто до мозга своих костей, или Огинских – предводителей аккурат исключительно польского восстания против русских…
Потому этот ход по внедрению стольких всевозможных сект на территории казалось бы самого на земле ортодоксального католического государства является ничем иным, как просто гениальнейшим изобретением масонов в деле борьбы с русским Православием на западных наших землях, отторгнутых у нас на тот момент, и как всегда – лишь обманом, нашими врагами.
Потому и средства в данного рода мероприятия впрыскиваются просто фантастические. И толпы людей пьют и едят неизвестно за чей счет, особо и не пытаясь задумываться об источниках доходов их привечающих просто не в меру хлебосольных хозяев.
Но где же в истории нам уже попадалось такое расточительное хлебосольничество? Где подобным же образом, годами, задарма кормили на невесть откуда берущиеся немалые деньги подобного же рода ораву дармоедов?
Вся эта неслыханная расточительность один в один копирует ежедневные пирушки в доме Лефорта, веком позже не прекращаемые ни на миг в Кукуевой слободе. Причем даже во времена отъезда самого хозяина.
А ведь там по части религиозной свободы все было полностью идентично правилам князя Острожского, о котором сказано:
«Хозяин – большой хлебосол, кормит наотвал: говорят, один из слуг князя, некий Богдан, съедал за завтраком жареного молочного поросенка, гуся, двух каплунов, кусок говядины, три больших хлеба, громадный сыр и, кроме того, запивал все это восемью литрами меду! И после он с нетерпением ждал обеденного часа (Niesiecki. Herbarz, в изд. 1841 г., VII, 183)» [149] (с. 93).
И таких бездельников обжор – 2 000! Не правда ли, странновато выглядит такая вот неслыханная щедрость?
И вот что здесь наиболее интересного в распутываемой истории нам следует запомнить:
«…этим двором управляет маршалок, который получает 70 000 флоринов жалованья» [149] (с. 93).
А ведь именно к этому маршалку и отправит наш «ревнитель православия» своего подопечного.
Но обо всем по порядку. Старец Варлаам в своем “извете” свидетельствует:
«…провожатый Ивашко провел нас за рубеж в Литовскую землю… И в Киеве жили всего три недели, и Гришка хотел ехать к киевскому воеводе князю Василию Острожскому, и отпросился у братии и у архимандрита Елисея Плетенецкого.
И я архимандриту Елисею и братии говорил о нем и бил челом, что он собирался жить в Киеве в Печерском монастыре ради душевного спасения, а потом идти к святому граду Иерусалиму к Господнему Гробу, а ныне идет в мир к князю Василию Острожскому… И мы у него [у князя Острожского – А.М.] прожили лето, а осенью меня и Мисаила Повадина князь Василий послал в свое богомолие, в Дерманский монастырь Живоначальной Троицы. А Гришка съехал в город Гощею к пану Госкому, да в Гощее иноческое платье с себя скинул и стал мирянином, да начал в Гощее учиться в школе по-латински и по-польски, и люторской грамоте, и стал отступник и нарушитель законов сущей православной христианской веры. И я, государь, из монастыря ездил в Острог к князю Василию и князю Василию бил челом, чтобы князь Василий велел вернуть его из Гощеи и сделать по-старому чернецом и дьяконом, и велел бы его послать к нам в Дерманский монастырь. И князь Василий и все его дворовые люди говорили мне: “Здесь такова земля – как кто хочет, тот в той вере и пребывает”. Да князь мне говорил: “Сын-де мой Яныш родился в христианской вере, а держит ляшскую веру, и мне-де его не унять. И ныне-де пан Краковской в Гощее”. А Гришка в Гощее у него и зимовал, а после Пасхи из Гощеи пропал без вести и очутился в городе Брагине у князя Адама Вишневецкого и назвался князю Адаму князем царевичем Дмитрием Ивановичем Углицким» [160] (с. 113–114).
И вот кем оказался столь гостеприимный последователь князя Острожского – пан Гойский, обучивший всему необходимому, на него возложенному, предполагаемого Лжедмитрия и отправившего его далее по явно ранее задуманному маршруту для воплощения планов Федора Романова в действие. Даже Валишевский ну никак не может удивиться этой странным образом всеми силами историками затираемой схеме, лежащей, на самом деле, просто на поверхности нами разбираемой истории:
А ведь этот Гойский ни кто иной, как столь щедро вознаграждаемый маршалок двора князя Острожского! [149] (с. 94).
Тот самый, которому его господин отваливал по 70 000 флоринов. Однако же, судя по качеству выполненного им весьма деликатного задания, вовсе не задаром.
Но и далее Самозванец был переправлен вовсе не спонтанно, но четко по когда-то кем-то утвержденному сценарию. В 1603 г. он оказывается «в гостях» у Адама Вишневецкого:
«Князь Адам, этот крупный магнат, – племянник знаменитого Дмитрия Вишневецкого, злосчастного кандидата на молдавский престол…» [149] (с. 94).
Вот как мир оказался тесен: подготавливаемый лжецарь оказывается у племянника неудавшегося лжегосподаря. То есть совершенно явно заявляется поделиться опытом не у кого-то там еще, но именно у семейства Вишневецких, которые уже разок использовали запорожское казачество для государственного переворота.
А ведь Запорожское казачество, как теперь выясняется, было создано вовсе не малороссами для защиты от Польши, как нам столь навязчиво внушалось еще со школьной скамьи. Но самими поляками. Именно Дмитрием Вишневецким и был основан на острове Хортица:
«…зародыш Запорожской Сечи…» [130] (с. 221).
И вот для каких мало каким боком к малороссам стоящих целей:
«…для защиты пределов Речи Посполитой от турок» [130] (с. 772).
То есть казаки, на самом деле, предназначались для защиты ляхов, а уж никак не для защиты коренных природных жителей этих мест.
«В пятидесятых годах XVI века Дмитрий Вишневецкий построил укрепление на острове Хортице и поместил там казаков» [130] (с. 496).
Но ведь именно после посещения князя Острожского и днепровских казаков отправляется Самозванец к Адаму Вишневецкому.
И вот что о действительном вероисповедании Лжедмитрия выбалтывает нам Павел Петрей – агент шведского короля в Московии тех времен:
«Гришка Отрепьев… был неисправимым плутом и хитроумным чернокнижником…» [262] (с. 83).
Так что здесь этот клубок долговременных масонских связей становится и еще более очевиден. Причем уже освещается и вероисповедание Лжедмитрия, легко позволившее ему сделаться самозванцем.
Но подобное же Гришкиному вероисповедание, слишком отдаленное от вероисповедания Святой Руси, имели и фамильные владельцы Запорожской Сечи. Это очень наглядно проявилось после вступления их в Москву в сопровождении Лжедмитрия:
«…братья Вишневецкие исповедовали православие. Но московские люди с трудом могли признать в приезжих гостях единоверцев…» [130] (с. 312).
Это происходило:
«…по разности обычаев, входивших по московским понятиям в область религии» [130] (с. 306).
Одним из таких «обычаев», например, являлось принятое на Святой Руси целование икон. Приехавшие же с запада басурмане, эти некие такие «ревнители Православия», если и пробовали скопировать наши святоотеческие обычаи, то делали это не просто несколько не ловко, но кощунственно:
«…поляки, к соблазну православных, целовали изображения святых в уста» [130] (с. 320).
Так что князем Острожским беглый монах был принят, расстрижен и отправлен обучаться минимуму наук, необходимых для самозванческой подрывной деятельности. Но производились все эти темные махинации «ревнителем Православия», что вполне естественно, в тайне:
«Сам Константин Острожский, спрошенный об этом королем Сигизмундом, отрицал свои отношения с Гришкой и даже отвечал, что совершенно не знает, о ком идет речь» [57] (с. 362).
Тем легко объясняется его явный умысел, потому как:
«Однако, в Загоровском монастыре Волынской епархии, сохранилась книга “Василий Великий” со следующей весьма любопытной надписью: “Лета от сотворения мiру 7110 (1602) месяца августа в 14 день, сию книгу Великого Василия дал нам Григорию з братию с Варлаамом, да Мисаилом Константин Константинович, нареченный во святом крещении Василей Божиею милостию пресветлое Княже Острожское, воевода Киевский”. Под словом “Григорию” внизу подписано тою же рукою, но несколько другими чернилами: “Царевичу Московскому”; вероятно, эти слова прибавлены позже, причем, так как почерк подписи несходен с известным почерком Лжедмитрия, то следует признать, что она сделана кем-нибудь из его двух спутников. Во всяком случае, эта подпись служит свидетельством, что Григорий Отрепьев с Варлаамом и Мисаилом были летом 1602 года у князя Константина Константиновича Острожского и получили от него в дар книгу, причем именно этот Григорий Отрепьев стал считаться впоследствии царевичем Димитрием.



