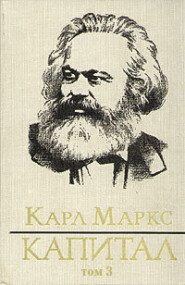 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Капитал. Том третий
Далее, если мы возьмём K, то оказывается, что оно, самое большее, такой же величины, а в действительности меньше той части постоянного капитала, которую пришлось бы употребить для купли и продажи производителю; но она составила бы тогда прибавку к тому постоянному капиталу, который употребляется производителем непосредственно в производстве. Тем не менее эта часть должна постоянно возмещаться из цены товара, или, что то же самое, соответственная часть товара должна постоянно расходоваться в этой форме, должна, если иметь в виду совокупный общественный капитал, постоянно воспроизводиться в этой форме. Эта часть авансируемого постоянного капитала так же ограничивающе влияла бы на норму прибыли, как и вся масса его, вложенная непосредственно в производство. Поскольку промышленный капиталист предоставляет торговую часть своего предприятия купцу, ему нет надобности авансировать эту часть капитала. Вместо него её авансирует купец. Но это только номинально; купец не производит, не воспроизводит потребляемый им постоянный капитал (вещественные торговые издержки). Следовательно, производство последнего является особым видом предпринимательской деятельности или, по крайней мере, частью деятельности известных промышленных капиталистов, которые, таким образом, играют такую же роль, как промышленные капиталисты, доставляющие постоянный капитал тем, кто производит жизненные средства. Следовательно, купец получает, во-первых, возмещение этого капитала и, во-вторых, прибыль на него. Таким образом, вследствие того и другого происходит сокращение прибыли промышленного капиталиста. Но благодаря связанной с разделением труда концентрации и экономии она сокращается в меньшей мере, чем в том случае, если бы ему самому приходилось авансировать этот капитал. Сокращение нормы прибыли меньше, потому что меньше авансируемый таким образом капитал.
Итак, продажная цена состоит пока из B + K + прибыль на B + K. После вышесказанного эта часть её не представляет никаких затруднений. Но вот появляется b, или переменный капитал, авансируемый купцом.
Вследствие этого продажная цена превращается в B + K + b + прибыль на В + К, + прибыль на b.
B возмещает только покупную цену, не присоединяя, однако, кроме прибыли на B, к этой цене никакой части. K присоединяет не только прибыль на K, но и самое K; однако сумма K + прибыль на K, т. е. часть издержек обращения, авансированная в форме постоянного капитала, плюс соответствующая средняя прибыль, была бы в руках промышленного капиталиста больше, чем в руках торгового капиталиста. Уменьшение средней прибыли проявляется так, что из полной средней прибыли, исчисленной на авансированный – без B + K – промышленный капитал, вычитается и выплачивается купцу средняя прибыль на B + K и, таким образом, этот вычет выступает в качестве прибыли особого капитала, купеческого капитала.
Но иначе обстоит дело с b + прибыль на b, или в данном случае, где норма прибыли предполагается = 10 %, с b + 1/10b. Здесь-то и кроется действительное затруднение.
Согласно предположению, купец покупает на b только торговый труд, т. е. труд, необходимый для опосредствования функций обращения капитала, для Т – Д и Д – Т. Но торговый труд есть труд, вообще необходимый для того, чтобы капитал функционировал как купеческий капитал, чтобы он опосредствовал превращение товара в деньги и денег в товар. Это труд, реализующий стоимости, но не создающий никаких стоимостей. И лишь поскольку какой-нибудь капитал исполняет эти функции, – следовательно, поскольку какой-нибудь капиталист выполняет со своим капиталом эти операции, этот труд, – постольку этот капитал функционирует как купеческий капитал и принимает участие в регулировании общей нормы прибыли, т. е. извлекает свой дивиденд из общей прибыли. Но в b + прибыль на b представляется оплаченным, во-первых, труд (потому что совершенно безразлично, платит ли промышленный капиталист купцу за его собственный труд или за труд приказчиков, оплачиваемых купцом) и, во-вторых, прибыль на сумму, уплаченную за тот труд, который должен был бы выполнить сам купец. Купеческий капитал получает обратно, во-первых, оплату b и, во-вторых, прибыль на него, следовательно, это происходит от того, что он, во-первых, заставляет заплатить себе за тот труд, благодаря которому он функционирует как купеческий капитал, а, во-вторых, он заставляет заплатить себе прибыль, потому что он функционирует как капитал, т. е. потому что он выполняет труд, который для него как функционирующего капитала оплачивается прибылью. Таков, следовательно, вопрос, который нам предстоит разрешить.
Предположим, что B = 100, b = 10 и норма прибыли = 10 %. Предположим, что K = 0, чтобы без надобности не вводить снова в расчёт этот элемент покупной цены, который сюда не относится и с которым мы уже покончили. Таким образом, продажная цена была бы = B + p + b + p (= B + Bp' + b + bp', где p' – норма прибыли) = 100 + 10 + 10 + 1 = 121.
Но если бы купец не расходовал b на заработную плату, – так как b уплачивается лишь за торговый труд, следовательно за труд, необходимый для реализации стоимости товарного капитала, выбрасываемого на рынок промышленным капиталом, – то дело обстояло бы таким образом: на то, чтобы купить или продать на B = 100, купец отдавал бы своё время, и мы предположим, что это всё время, которым он располагает. Если бы торговый труд, представляемый b или 10 единицами, оплачивался не заработной платой, а прибылью, то он предполагал бы другой купеческий капитал = 100, так как 10 % его = b = 10. Этот второй капитал В = 100 не входил бы дополнительно в цену товара, но 10 %, конечно, входили бы в неё. Поэтому были бы произведены две операции по 100, составляющие 200, чтобы купить товаров на 200 + 20 = 220.
Так как купеческий капитал есть абсолютно не что иное, как обособившаяся форма части промышленного капитала, функционирующего в процессе обращения, то все относящиеся к нему вопросы должны разрешаться так, чтобы проблема ставилась прежде всего в такой форме, при которой свойственные купеческому капиталу явления представляются ещё не самостоятельными, но стоящими в непосредственной связи с промышленным капиталом, как явления, свойственные разновидности этого капитала. Подобно конторе, в отличие её от мастерской, торговый капитал постоянно функционирует в процессе обращения. Таким образом, именно здесь, в конторе самого промышленного капиталиста, и до́лжно сначала исследовать интересующее нас b.
Прежде всего эта контора всегда чрезвычайно мала по сравнению с промышленной мастерской. Впрочем, ясно, что по мере расширения размеров производства увеличиваются торговые операции, которые приходится постоянно совершать в процессе обращения промышленного капитала как для того, чтобы продать продукт, имеющийся в форме товарного капитала, так и для того, чтобы снова превратить в средства производства вырученные деньги и всему вести счёт. Калькуляция цен, бухгалтерия, ведение кассы, корреспонденция – всё это сюда относится. Чем шире размер производства, тем больше, хотя отнюдь не в соответствующей пропорции, торговые операции промышленного капитала, следовательно, тем больше труд и прочие издержки обращения для реализации стоимости и прибавочной стоимости. Вследствие этого становится необходимым применение наёмных торговых рабочих, которые составляют собственно контору. Хотя расходы на них производятся в форме заработной платы, эти расходы отличаются от переменного капитала, который затрачивается на покупку производительного труда. Они увеличивают расходы промышленного капиталиста, массу авансируемого капитала, не увеличивая непосредственно прибавочной стоимости. Потому что они являются расходами на оплату труда, который употребляется только для реализации уже созданной стоимости. Как и всякий другой расход такого рода, этот расход тоже уменьшает норму прибыли, потому что возрастает авансированный капитал, но не возрастает прибавочная стоимость. Если прибавочная стоимость m остаётся неизменной, авансированный же капитал К возрастает до К + ΔK, то вместо нормы прибыли m/K получается меньшая норма прибыли m/K + ΔK. Следовательно, промышленный капиталист старается свести до минимума эти издержки обращения совершенно так же, как и свои затраты на постоянный капитал. Поэтому отношение промышленного капитала к его торговым наёмным рабочим не таково, как отношение к его производительным наёмным рабочим. При прочих равных условиях, чем больше он применяет последних, тем крупнее производство, тем больше прибавочная стоимость, или прибыль. И наоборот. Чем больше масштаб производства и чем больше подлежащая реализации стоимость, а потому и прибавочная стоимость, следовательно, чем больше произведённый товарный капитал, тем больше возрастают абсолютно, хотя и не относительно, конторские издержки и в тем большей мере они вызывают определённого рода разделение труда. В какой мере прибыль является предпосылкой таких расходов, это обнаруживается, между прочим, в том, что часто при увеличении жалованья торговым служащим часть его уплачивается в виде отчислений определённого процента с прибыли. По существу дела, труд, заключающийся только в посреднических операциях, связанных отчасти с калькуляцией стоимостей, отчасти с их реализацией, отчасти с обратным превращением реализованных денег в средства производства, размер которых зависит, следовательно, от величины произведённых и подлежащих реализации стоимостей, – такой труд действует не как причина, подобно непосредственно производительному труду, а как следствие соответствующей величины и массы этих стоимостей. Подобным же образом обстоит дело и с другими издержками обращения. Для того чтобы много измерять, взвешивать, упаковывать, транспортировать, должно быть налицо много товаров; масса труда по упаковке, транспорту и т. п. зависит от массы товаров, объектов такой деятельности, а не наоборот.
Торговый рабочий непосредственно не производит прибавочной стоимости. Но цена его труда определяется стоимостью его рабочей силы, следовательно издержками её производства, тогда как проявление этой рабочей силы в действии, её напряжение, расходование и износ, как и у всякого другого наёмного рабочего, отнюдь не ограничиваются её стоимостью. Поэтому его заработная плата никак не пропорциональна массе прибыли, которую он помогает реализовать капиталисту. То, чего он сто́ит капиталисту, и то, что́ он ему приносит, – это различные величины. Он приносит ему прибыль не потому, что непосредственно создаёт прибавочную стоимость, а потому, что помогает уменьшать издержки реализации прибавочной стоимости, поскольку он выполняет отчасти неоплаченный труд. Собственно торговый рабочий принадлежит к лучше оплачиваемому классу наёмных рабочих, к тем, труд которых есть квалифицированный труд, стоящий выше среднего труда. Между тем с прогрессом капиталистического способа производства заработная плата имеет тенденцию понижаться даже по сравнению с заработной платой среднего труда. Отчасти это происходит вследствие разделения труда внутри конторы, при котором необходимым является лишь одностороннее развитие способности к труду и издержки производства такого развития отчасти ничего не сто́ят капиталисту: искусство рабочего развивается самой функцией, и притом тем быстрее, чем одностороннее она становится с разделением труда. Во-вторых, вследствие того, что начальное образование, знание торговли и языков и т. д. с прогрессом науки и народного образования приобретаются всё быстрее и легче, становятся всё более общераспространёнными, воспроизводятся тем дешевле, чем больше капиталистический способ производства направляет методы обучения и т. д. на практические цели. Распространение народного обучения позволяет вербовать этого рода рабочих из таких классов, которым раньше был закрыт доступ к этим профессиям, которые привыкли к сравнительно худшему образу жизни. К тому же оно увеличивает наплыв и вместе с тем конкуренцию. Поэтому, за некоторыми исключениями, с прогрессом капиталистического способа производства рабочая сила этих людей обесценивается; их заработная плата понижается, тогда как их способность к труду увеличивается. Капиталист увеличивает число таких рабочих в тех случаях, когда необходимо реализовать больше стоимости и прибыли. Увеличение такого труда постоянно является следствием, но отнюдь не причиной увеличения прибавочной стоимости.[40]
* * *Итак, происходит раздвоение. С одной стороны, функции капитала как товарного капитала и денежного капитала (а потому в дальнейшем определении как торгового капитала) суть общие определённые формы промышленного капитала. С другой стороны, особые капиталы, следовательно, особые категории капиталистов занимаются исключительно этими функциями, и таким образом эти функции становятся особыми сферами увеличения стоимости капитала.
Только в торговом капитале торговые функции и издержки обращения оказываются обособленными. Та сторона промышленного капитала, которой он соприкасается с обращением, существует не только в том, что сам он постоянно пребывает в форме товарного капитала и денежного капитала, но и в том, что наряду с мастерской имеется контора. Но в торговом капитале эта сторона обособляется. Контора представляет собой его единственную мастерскую. Часть капитала, употребляемая в форме издержек обращения, оказывается у оптового купца значительно большей, чем у промышленника, потому что, кроме собственной конторы, которая находится при каждой промышленной мастерской, часть капитала, которую должен был бы употреблять таким образом весь класс промышленных капиталистов, концентрируется в руках отдельных купцов, которые, обеспечивая продолжение функций обращения, берут на себя вытекающие из этого издержки обращения.
Издержки обращения представляются промышленному капиталу и действительно являются непроизводительными издержками. Купцу они представляются источником его прибыли, которая, – если предположить общую норму прибыли, – находится в соответствии с их величиной. Поэтому расход, который приходится производить на эти издержки обращения, представляется торговому капиталу производительной затратой. Следовательно, и торговый труд, который он покупает, для него – непосредственно производительный труд.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
ОБОРОТ КУПЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА. ЦЕНЫ
Оборот промышленного капитала есть единство времени его производства и времени его обращения; поэтому он охватывает процесс воспроизводства, взятый в целом. Напротив, оборот купеческого капитала, так как он есть фактически только обособившееся движение товарного капитала, представляет лишь первую фазу метаморфоза товара, Т – Д, движение особого капитала, направленное к своему исходному пункту; Д – Т – Д с купеческой точки зрения представляет оборот купеческого капитала. Купец покупает, превращает свои деньги в товар, потом продаёт, снова превращает тот же самый товар в деньги; и таким образом это повторяется постоянно. В пределах обращения метаморфоз промышленного капитала всегда представляется как Т1 – Д – T2; деньги, вырученные от продажи T1, произведённого товара, употребляются на покупку Т2, новых средств производства; это – действительный обмен Т1 и Т2, и таким образом одни и те же деньги дважды переходят из рук в руки. Их движением опосредствуется обмен двух разнородных товаров, Т1 и Т2. Напротив, у купца в Д – Т – Д' дважды переходит из рук в руки один и тот же товар; товар лишь опосредствует возвращение к купцу денег.
Если, например, купеческий капитал составляет 100 ф. ст. и купец покупает товар на эти 100 ф. ст., потом продаёт этот товар за 110 ф. ст., то этот его капитал в 100 совершил один оборот, а число оборотов в течение года зависит от того, насколько часто в продолжение года повторяется это движение Д – Т – Д'.
При этом мы совершенно оставляем в стороне те издержки, которые могут заключаться в разнице между покупной и продажной ценой, так как эти издержки совершенно ничего не изменяют в той форме, которую нам прежде всего предстоит здесь рассмотреть.
Следовательно, в этом случае число оборотов данного купеческого капитала представляет полную аналогию с повторением оборотов денег как простого средства обращения. Подобно тому, как один и тот же талер, совершая десять оборотов, десять раз покупает свою стоимость в виде товаров, точно так же один и тот же денежный капитал купца, например в 100, оборачиваясь десять раз, десять раз покупает свою стоимость в виде товаров или реализует в общей сложности товарный капитал десятикратной стоимости = 1 000. Но есть и различие: при обращении денег как средства обращения одни и те же деньги проходят через различные руки, следовательно, несколько раз совершают одну и ту же функцию, и потому быстротой обращения здесь возмещается масса обращающихся денег. Но у купца один и тот же денежный капитал, – безразлично, из каких бы денежных единиц он ни состоял, – одна и та же денежная стоимость несколько раз покупает и продаёт товарный капитал на сумму своей стоимости и потому несколько раз возвращается в прежние руки, к своему исходному пункту, как Д + ΔД, как стоимость плюс прибавочная стоимость. Это характеризует её оборот как оборот капитала. Из обращения постоянно извлекается больше денег, чем вносится в него. Впрочем, само собой разумеется, что с ускорением оборота купеческого капитала (причём при развитом кредите преобладающей функцией денег становится их функция как средства платежа) одна и та же масса денег обращается быстрее.
Но повторение оборота товарно-торгового капитала выражает не что иное, как повторение актов купли и продажи, между тем повторение оборота промышленного капитала выражает периодичность и возобновление всего процесса воспроизводства (включая в него и процесс потребления). Напротив, для купеческого капитала это является только внешним условием. Промышленный капитал должен постоянно выбрасывать товары на рынок и снова извлекать их оттуда, чтобы для купеческого капитала сохранялась возможность быстрого оборота. Если процесс воспроизводства вообще происходит медленно, то медленно совершается и оборот купеческого капитала. Опосредствуя оборот производительного капитала, купеческий капитал сокращает время его обращения. Но он не оказывает прямого влияния на время производства, которое тоже является границей времени оборота, промышленного капитала. Это – первая граница для оборота купеческого капитала. Во-вторых же, – если оставить в стороне ту границу, которую ставит ему производительное потребление, порождаемое воспроизводством, – этот оборот в конце концов ограничен быстротой и размерами всего личного потребления, так как от этого зависит вся та часть товарного капитала, которая входит в фонд потребления.
Но (если совершенно оставить в стороне обороты в пределах купеческого мира, где один купец перепродаёт другому один и тот же товар, причём в период спекуляции обращение этого рода может иметь вид цветущего состояния дел) купеческий капитал, во-первых, сокращает фазу Т – Д для производительного капитала. Во-вторых, при современной кредитной системе он располагает значительной частью всего денежного капитала общества, так что он может производить свои закупки прежде, чем уже купленное будет окончательно продано; причём безразлично, продаст ли наш купец прямо окончательному потребителю или между ними обоими стоят 12 других купцов. При чрезвычайной эластичности процесса воспроизводства, который постоянно может быть выведен за каждый данный предел, в самом производстве он не находит никакой границы или только очень эластичную границу. Следовательно, кроме отделения актов Т – Д и Д – T, вытекающего из самой природы товара, здесь создаётся фиктивный спрос. Движение купеческого капитала, несмотря на его обособление, всегда есть не что иное, как движение промышленного капитала в сфере обращения. Но, в силу своего обособления, он совершает своё движение в известных границах независимо от пределов, полагаемых процессом воспроизводства, и потому заставляет даже процесс воспроизводства выходить из своих пределов. Внутренняя зависимость и внешняя самостоятельность приводят его к такому пункту, когда внутренняя связь восстанавливается насильственно, посредством кризиса.
Отсюда то явление, наблюдаемое в кризисах, что они сначала обнаруживаются и разражаются не в розничной торговле, которая имеет дело с непосредственным потреблением, а в сферах оптовой торговли и банков, которые предоставляют в распоряжение оптовой торговли денежный капитал общества.
Действительно, фабрикант может продавать экспортёру, а этот, в свою очередь, своему заграничному клиенту, импортёр может сбывать своё сырьё фабриканту, последний же свои продукты – оптовому торговцу и т. д. Однако в каком-нибудь одном незаметном пункте товар залёживается непроданным; или же иной раз мало-помалу переполняются запасы всех производителей и торговцев-посредников. Как раз в это время потребление обычно находится в состоянии наивысшего процветания, отчасти вследствие того, что один промышленный капиталист приводит в движение целый ряд других, отчасти вследствие того, что занятые ими рабочие, работая полное время, могут расходовать больше обыкновенного. С ростом дохода капиталистов увеличиваются и их расходы. Кроме того (даже, если оставить в стороне ускорение накопления), происходит, как мы видели («Капитал», кн. II, отд. III), постоянное обращение между постоянным капиталом и постоянным капиталом, которое, с одной стороны, независимо от личного потребления в том смысле, что оно никогда не входит в это последнее, но которое тем не менее ограничено в конечном счёте личным потреблением, ибо производство постоянного капитала никогда не совершается ради него самого, а совершается лишь потому, что этого постоянного капитала больше потребляется в тех отраслях производства, продукты которых входят в личное потребление. Однако это производство в течение некоторого времени может спокойно идти своим путём, возбуждаемое ожидаемым спросом, и потому в этих отраслях у купцов и промышленников дела идут очень бойко. Кризис наступает тогда, когда затраты купцов, продающих на отдалённых рынках (или тех купцов, запасы которых накопились и внутри страны), возвращаются столь медленно и в столь скудных количествах, что банки настаивают на платежах, или сроки уплаты по векселям под закупленные товары наступают раньше, чем совершится перепродажа. Тогда начинаются принудительные продажи, продажи с целью уплаты. И вместе с тем разражается крах, который сразу кладёт конец кажущемуся процветанию.
Но внешний характер и иррациональность оборота купеческого капитала усиливается ещё больше вследствие того, что оборот одного и того же купеческого капитала может опосредствовать одновременно или последовательно обороты очень различных производительных капиталов.
Однако оборот купеческого капитала может опосредствовать не только обороты различных промышленных капиталов, но и противоположные фазы метаморфоза товарного капитала. Например, купец покупает холст у фабриканта и продаёт его белильщику. Следовательно, в этом случае оборот одного и того же купеческого капитала, – в действительности один и тот же акт Т – Д, реализация холста, – представляет две противоположные фазы для двух различных промышленных капиталов. Поскольку купец вообще продаёт для производительного потребления, его Т – Д всегда представляет Д – Т какого-нибудь промышленного капитала, а его Д – Т всегда представляет Т – Д какого-нибудь другого промышленного капитала.
Если мы, как это сделано в настоящей главе, отбросим K, издержки обращения, т. е. ту часть капитала, которую авансирует купец, кроме суммы, расходуемой на покупку товаров, то, конечно, отпадает и ΔK, дополнительная прибыль, получаемая им на этот дополнительный капитал. Следовательно, этот приём исследования строго логичен и математически правилен, коль скоро речь идёт о том, чтобы узнать, каким образом прибыль и оборот купеческого капитала влияют на цены.
Если бы цена производства 1 ф. сахара составляла 1 ф. ст., то купец мог бы на 100 ф. ст. купить 100 ф. сахара. Если в течение года он покупает и продаёт такое количество и если средняя годовая норма прибыли 15 %, то он накинет на 100 ф. ст. 15 ф. ст., и на 1 ф. ст., цену производства 1 ф. сахара, 3 шиллинга. Следовательно, он продавал бы 1 ф. сахара за 1 ф. ст. 3 шиллинга. Напротив, если бы цена производства 1 ф. сахара упала до 1 шилл., то на 100 ф. ст. купец купил бы 2 000 ф. сахара и продавал бы по 1 шилл. 14/5 пенса за фунт. И в том и в другом случае годовая прибыль на капитал в 100 ф. ст., вложенный в сахарное дело, = 15 фунтам стерлингов. Только в первом случае он должен продать 100, а во втором – 2 000 фунтов. Высока или низка цена производства, это не имеет никакого значения для нормы прибыли, но это имеет очень большое, решающее значение для величины той части продажной цены каждого фунта сахара, которая составляет торговую прибыль, т. е. для величины той надбавки к цене, которую делает купец на определённое количество товара (продукта). Если цена производства товара незначительна, то незначительна и та сумма, которую авансирует купец на его покупную цену, т. е. на определённую массу товара, а следовательно, при данной норме прибыли, незначительна и общая сумма прибыли, которую он получает на это данное количество дешёвого товара; или, – что сводится к тому же, – он может в таком случае купить на данный капитал, например в 100, бо́льшую массу этого дешёвого товара и общая прибыль в 15, которую он получает на 100, распределяется на каждую отдельную штуку этой товарной массы незначительными долями. И наоборот. Это всецело зависит от большей или меньшей производительности того промышленного капитала, товарами которого он торгует. Если исключить случаи, когда купец является монополистом и в то же время монополизирует производство, как, например, в своё время Голландско-Ост-Индская компания {102}, то ничего не может быть нелепее, чем ходячее представление, будто от желания самого купца зависит, продаст ли он много товаров с меньшей прибылью на единицу товара или мало товаров с большей прибылью на единицу товара. Две границы существуют для его продажной цены: с одной стороны, цена производства товара, над которой он не властен; с другой стороны, средняя норма прибыли, которая совершенно так же находится вне его власти. Единственное, что от него зависит – будет ли он торговать дорогими или дешёвыми товарами, но и здесь известную роль играют величина капитала, находящегося в его распоряжении, и другие обстоятельства. Как поступит купец, это всецело зависит от степени развития капиталистического способа производства, а не от желания самого купца. Такая чисто купеческая компания, как старая Голландско-Ост-Индская, обладавшая монополией производства, вообразила, что при совершенно изменившихся условиях можно по-прежнему придерживаться метода, соответствующего самое большее зачаткам капиталистического производства.[41]



