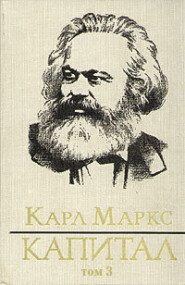 Полная версия
Полная версияКапитал. Том третий
Рассмотрим теперь другую сторону дела – спрос.
Товары покупаются или как средства производства или как жизненные средства для того, чтобы войти в производительное или личное потребление, причём дело не изменяется от того, что некоторые виды товаров могут служить обеим этим целям. Следовательно, спрос на них предъявляется со стороны производителей (в данном случае капиталистов, так как предполагается, что средства производства превращены в капитал) и со стороны потребителей. Кажется, что этим прежде всего предполагается на стороне спроса наличие определённых размеров общественной потребности, которой на стороне предложения соответствуют определённые размеры общественного производства в различных отраслях производства. Чтобы хлопчатобумажная промышленность могла вновь осуществить своё годовое воспроизводство в данном масштабе, необходимо обычное количество хлопка, а если принять во внимание ежегодное расширение воспроизводства вследствие накопления капитала, то, при прочих равных условиях, необходимо добавочное количество хлопка. То же самое и по отношению к жизненным средствам. Рабочий класс, чтобы сохранить свой обычный средний уровень жизни, должен вновь получить по меньшей мере прежнее количество необходимых жизненных средств, хотя, быть может, и несколько изменённое по характеру составляющих его товаров; если же принять в расчёт ежегодный рост населения, то необходимо и добавочное количество жизненных средств; то же самое с бо́льшими или меньшими поправками можно сказать и относительно других классов.
Итак, оказывается, что на стороне спроса имеется определённая общественная потребность данной величины, которая требует для своего покрытия наличия на рынке определённого количества товаров. Но количественная определённость этой потребности чрезвычайно эластична и изменчива. Она только кажется фиксированной. Если бы жизненные средства были дешевле или денежная заработная плата была бы выше, то рабочие покупали бы их больше, и обнаружилась бы более значительная «общественная потребность» в данных видах товаров, причём мы совершенно оставляем в стороне пауперов и т. д., «спрос» которых стоит ниже самых крайних границ их физической потребности. Если бы, с другой стороны, цена, например, хлопка, понизилась, то возрос бы спрос капиталистов на хлопок, больше дополнительного капитала было бы вложено в хлопчатобумажную промышленность и т. д. При этом не следует вообще забывать, что при наших предположениях спрос для производительного потребления есть спрос со стороны капиталиста, истинная цель которого – производство прибавочной стоимости, и что только ради прибавочной стоимости он производит известный вид товаров. С другой стороны, это отнюдь не препятствует тому, что капиталист, поскольку он выступает на рынке как покупатель, например хлопка, является представителем потребности в хлопке; точно так же для продавца хлопка ведь безразлично, превращает ли покупатель этот хлопок в ткань для рубашек, в пироксилин или же намерен затыкать им уши себе и всему миру. Но, конечно, это оказывает большое влияние на то, какого рода покупателем он является. Его потребность в хлопке существенно видоизменяется благодаря тому обстоятельству, что в действительности она прикрывает лишь его потребность в получении прибыли. Пределы, в которых представленная на рынке потребность в товарах – спрос – количественно отклоняется от действительной общественной потребности, конечно, очень различны для различных товаров; я имею в виду разницу между количеством товаров, на которое фактически предъявлен спрос, и тем количеством их, на которое был бы предъявлен спрос при иных денежных ценах товаров или при иных денежных, соответственно жизненных, условиях покупателей.
Нет ничего легче, как понять неравномерность спроса и предложения и вытекающие отсюда отклонения рыночных цен от рыночных стоимостей. Действительная трудность состоит в определении того, что́ следует понимать под выражением: предложение и спрос покрываются.
Предложение и спрос покрываются, если они находятся в таком отношении, что масса товаров определённой отрасли производства может быть продана по её рыночной стоимости – не выше и не ниже. Вот первое, что нам говорят по этому поводу.
И во-вторых, если товары могут быть проданы по их рыночной стоимости, то предложение и спрос покрываются.
Если предложение и спрос покрываются, то они перестают действовать, и именно потому товары продаются по их рыночной стоимости. Если две силы, равные по величине, действуют в противоположных направлениях, то они взаимно уничтожаются, вовсе не действуют вовне, и явления, происходящие при этом условии, должны быть объяснены как-нибудь иначе, а не действием этих двух сил. Раз спрос и предложение взаимно уничтожаются, они перестают объяснять что бы то ни было, не воздействуют более на рыночную стоимость и оставляют нас в полном неведении относительно того, почему рыночная стоимость выражается именно в этой сумме денег, а не в какой-либо иной. Действительные внутренние законы капиталистического производства, очевидно, не могут быть объяснены из взаимодействия спроса и предложения (если даже оставить в стороне более глубокий анализ обеих этих общественных движущих сил, который сюда не относится), так как законы эти оказываются осуществлёнными в чистом виде лишь тогда, когда спрос и предложение перестают действовать, т. е. покрываются. Спрос и предложение в действительности никогда не покрывают друг друга или если и покрывают, то только случайно, следовательно, с научной точки зрения этот случай должен быть = 0, должен рассматриваться как несуществующий. Однако в политической экономии предполагается, что они покрывают друг друга. Почему? Это делается для того, чтобы рассматривать явления в их закономерном, соответствующем их понятию виде, т. е. рассматривать их независимо от той их внешней видимости, которая порождается колебаниями спроса и предложения; с другой стороны, – для того, чтобы найти действительную тенденцию их движения, известным образом фиксировать её. Так как отклонения от равенства имеют противоположный характер и так как они постоянно следуют друг за другом, они взаимно уравновешиваются благодаря противоположности их направления, благодаря их взаимному противоречию. Итак, если ни в одном конкретном случае спрос и предложение не покрываются, то отклонения от равенства следуют друг за другом таким образом, – ведь отклонение в одном направлении вызывает как свой результат отклонение в противоположном направлении, – что, если рассматривать итог движения за более или менее продолжительный период, спрос и предложение всегда взаимно покрываются; однако результат этот получается лишь как средняя уже истёкшего движения и лишь как постоянное движение их противоречия. Этим путём рыночные цены, отклоняющиеся от рыночных стоимостей, если рассматривать их среднюю величину, выравниваются и дают среднюю, совпадающую с рыночной стоимостью, причём отклонения от этой последней взаимно уничтожаются как плюс и минус. И эта средняя имеет отнюдь не одно только теоретическое, но и практическое значение для капитала, затраты которого рассчитаны на колебания и выравнивания в течение более или менее определённого периода времени.
Следовательно, отношение между спросом и предложением объясняет, с одной стороны, лишь отклонения рыночных цен от рыночных стоимостей и, с другой стороны, тенденцию, стремящуюся уничтожить эти отклонения, т. е. уничтожить влияние отношения между спросом и предложением. (Те представляющие исключение товары, которые имеют цены, но не имеют стоимости, не входят здесь в наше рассмотрение.) Устранение этого влияния, которое оказывают спрос и предложение благодаря своим отклонениям от равенства, может осуществляться в очень различных формах. Если, например, падает спрос, а следовательно и рыночная цена, то это может привести к тому, что капитал будет извлекаться из данной отрасли, и таким образом предложение уменьшится. Но это может иметь также и тот результат, что сама рыночная стоимость благодаря изобретениям, сокращающим необходимое рабочее время, понизится и выравняется таким образом с рыночной ценой. Наоборот, если спрос растёт, а следовательно, рыночная цена превышает рыночную стоимость, то это может привести к избыточному приливу капитала в данную отрасль производства и к такому расширению производства, при котором рыночная цена упадёт даже ниже рыночной стоимости; или, с другой стороны, это может повести к такому повышению цен, которое сократит самый спрос. В отдельных отраслях производства это может также вызвать тот результат, что сама рыночная стоимость на более или менее значительный период возрастёт, так как в течение этого времени часть требуемого на рынке товара придётся производить при худших условиях.
Если спрос и предложение определяют рыночную цену, то, с другой стороны, рыночная цена, а при дальнейшем анализе рыночная стоимость определяет спрос и предложение. По отношению к спросу это очевидно, так как он изменяется в направлении, противоположном ценам: повышается, когда цены падают, и наоборот. Но то же самое применимо и к предложению. В самом деле, цены средств производства, входящих в товар, предлагаемый на рынке, определяют спрос на эти средства производства, а следовательно, – и предложение тех товаров, предложение которых включает в себя спрос на эти средства производства. Цены хлопка имеют определяющее значение для предложения хлопчатобумажных тканей.
Эта путаница – определение цен спросом и предложением и наряду с этим определение спроса и предложения ценами – осложняется ещё тем, что спрос определяет предложение и, наоборот, предложение определяет спрос, производство определяет рынок и рынок – производство.[31]
Даже заурядный экономист (см. сноску) понимает, что и без порождаемого внешними обстоятельствами изменения предложения или спроса отношение между ними может измениться вследствие изменения рыночной стоимости товаров. Даже он вынужден согласиться, что, какова бы ни была рыночная стоимость, спрос и предложение должны уравновеситься, чтобы она реализовалась. Это значит, что не отношение спроса к предложению объясняет рыночную стоимость, а, наоборот, эта последняя объясняет колебания спроса и предложения. Автор «Observations» вслед за местом, цитированным в сноске, продолжает:
«Однако отношение это» (между спросом и предложением), «если только мы будем понимать под „спросом“ и „естественной ценой“ то, что мы только что понимали, ссылаясь на А. Смита, всегда должно быть отношением равенства; потому что только в том случае, когда предложение равно фактическому спросу, т. е. тому спросу, который не желает оплачивать ни больше, ни меньше естественной цены, – только в этом случае естественная цена может быть действительно уплачена; следовательно, в различное время один и тот же товар может иметь две весьма различные естественные цены, и всё же отношение между спросом и предложением в обоих случаях может остаться неизменным, а именно – остаться отношением равенства» [стр. 61].
Итак, здесь допускается, что при двух различных «естественных ценах» одного и того же товара в различное время спрос и предложение могут и даже должны покрывать друг друга, чтобы товар в обоих случаях действительно был продан по его «естественной цене». Но так как при этом в обоих случаях ничуть не изменяется отношение спроса к предложению, но изменяется величина самой «естественной цены», то последняя, очевидно, устанавливается независимо от спроса и предложения и потому менее всего может определяться ими.
Чтобы товар мог быть продан по его рыночной стоимости, т. е. в соответствии с содержащимся в нём общественно необходимым трудом, для этого всё количество общественного труда, употреблённого на производство всей массы данного вида товаров, должно соответствовать величине общественной потребности в них, т. е. платёжеспособной общественной потребности. Конкуренция, колебания рыночных цен, соответствующие колебаниям отношения между спросом и предложением, всегда стремятся свести к этой мере общее количество труда, затраченного на каждый вид товаров.
В отношении между спросом и предложением товаров отражается, во-первых, отношение между потребительной стоимостью и меновой стоимостью, между товаром и деньгами, покупателем и продавцом; во-вторых, – отношение между производителем и потребителем, хотя оба последние могут быть представлены третьими лицами, торговцами. Чтобы вполне развить это отношение, достаточно противопоставить покупателя и продавца друг другу в отдельности. Трёх лиц достаточно для полного метаморфоза товара, а следовательно, для процесса купли-продажи, взятого в целом. A превращает свой товар в деньги B, которому он продаёт товар, и снова превращает свои деньги в товар, который он покупает у C; весь процесс протекает между этими тремя лицами. Далее, при исследовании денег мы допускали, что товары продаются по их стоимости, так как не было никакого основания рассматривать цены, отклоняющиеся от стоимости, раз дело шло исключительно о тех изменениях формы, которые претерпевает товар, становясь деньгами и превращаясь обратно из денег в товар. Если товар вообще продаётся и на вырученные деньги покупается новый товар, то мы имеем перед собой весь метаморфоз, и для него как такового совершенно безразлично, стоит ли цена товара выше или ниже его стоимости. Стоимость товара сохраняет своё значение основы, так как только из этого основания могут быть развиты в понятии деньги, а цена, по своему общему понятию, есть прежде всего лишь стоимость в денежной форме. Конечно, при рассмотрении денег как средства обращения предполагается, что происходит не только один метаморфоз товара. Напротив, рассматривается общественное сплетение этих метаморфозов. Только таким образом подходим мы к обращению денег и к развитию их функции в качестве средства обращения. Но, насколько эта связь важна для перехода денег к функции средства обращения и для вытекающего отсюда изменения их вида, настолько же безразлична она для сделки между отдельными покупателями и продавцами.
Между тем, рассматривая спрос и предложение, мы считаем, что предложение представляет сумму продавцов, или производителей, данного определённого товара, а спрос – покупателей, или потребителей (индивидуальных или производительных), этого же самого товара. И притом суммы эти действуют друг на друга как целое, как агрегатные силы. Отдельная личность действует здесь лишь как часть общественной силы, как атом всей массы, – именно в такой форме конкуренция обнаруживает общественный характер производства и потребления.
Та из конкурирующих сторон, которая в данный момент слабее, является вместе с тем и той стороной, где каждое отдельное лицо действует независимо от массы своих конкурентов, а зачастую прямо против них и как раз таким путём делает ощутительной зависимость отдельного конкурента от других; между тем более сильная сторона всегда противостоит своим противникам как более или менее сплочённое целое. Если спрос на данный вид товаров больше, чем предложение, то – в известных границах – один покупатель стремится перебить другого и поднимает таким образом для всех покупателей цену товара выше его рыночной стоимости, в то время как, с другой стороны, продавцы совместно стараются продать товар по высокой рыночной цене. Если, наоборот, предложение больше спроса, то один начинает продавать дешевле, а за ним вынуждены следовать другие, в то время как покупатели совместно стремятся возможно больше понизить рыночную цену по сравнению с рыночной стоимостью. Совместные действия интересуют каждого лишь до тех пор, пока он благодаря им выигрывает больше, чем без них. Единство действий прекращается, как только данная сторона как таковая оказывается слабее другой, и тогда каждое отдельное лицо старается возможно лучше устроиться собственными силами. Далее, если один из конкурентов производит дешевле других, может сбывать больше товара и отвоёвывать для себя больше места на рынке, продавая товар ниже господствующей в данный момент рыночной цены, или рыночной стоимости, то он так и поступает и начинает действовать таким образом, что мало-помалу принуждает других ввести более дешёвый метод производства и сводит общественно необходимый труд к новому, менее значительному количеству. Если одна из сторон получает преимущество, то выигрывает всякий, кто к ней принадлежит; дело происходит таким образом, как если бы все принадлежащие к ней осуществляли общую монополию. Если одна из сторон оказывается слабее другой, то каждый может попытаться своими собственными усилиями стать сильнее противника (например тот, кто работает с меньшими издержками производства) или по крайней мере отделаться возможно меньшими потерями, и в этом случае ему уже нет никакого дела до своих соседей, хотя действия его касаются не только его самого, но и всех его сообщников.[32]
Спрос и предложение предполагают превращение стоимости в рыночную стоимость, и, поскольку они действуют на капиталистическом базисе, поскольку товары являются продуктом капитала, спрос и предложение предполагают капиталистический процесс производства, а следовательно, совершенно иное сплетение отношений, чем простая купля и продажа товаров. Здесь речь идёт не о формальном превращении стоимости товаров в цену, т. е. не о простом изменении формы; речь идёт об определённых количественных отклонениях рыночных цен от рыночных стоимостей и, далее, от цен производства. При простой купле и продаже достаточно, чтобы производители товаров как таковые противостояли друг другу. Спрос и предложение при дальнейшем анализе предполагают существование различных классов и подразделений классов, которые распределяют между собой совокупный доход общества и потребляют его как доход, которые, следовательно, предъявляют спрос, образуемый этим доходом; между тем, с другой стороны, для понимания спроса и предложения, которые производители как таковые создают друг для друга, необходимо уяснение всего строя капиталистического процесса производства в целом.
При капиталистическом производстве речь идёт не только о том, чтобы за массу стоимости, брошенную в обращение в форме товара, выручить равную массу стоимости в другой форме, – денежной или товарной, – речь идёт о том, чтобы на капитал, авансированный на производство, извлечь такую же прибавочную стоимость, или прибыль, какую получает всякий другой капитал такой же величины, или pro rata {79} его величине, независимо от того, в какой отрасли производства он применяется; следовательно, речь идёт о том, чтобы продать товары по меньшей мере по ценам, доставляющим среднюю прибыль, т. е. по ценам производства. В этой форме капитал сам начинает сознавать себя как общественную силу, в которой каждый капиталист имеет свою долю, пропорциональную его участию во всём общественном капитале.
Во-первых, капиталистическое производство само по себе относится совершенно безразлично к определённой потребительной стоимости и вообще к специфическим особенностям того товара, который оно создаёт. В каждой сфере производства речь идёт для него лишь о том, чтобы произвести прибавочную стоимость, присвоить себе в продукте труда определённое количество неоплаченного труда. И равным образом наёмный труд, подчинённый капиталу, по самой своей природе относится безразлично к специфическому характеру своих работ, он должен видоизменяться сообразно потребностям капитала и допускать переброску его из одной сферы производства в другую.
Во-вторых, на деле одна сфера производства так же хороша или плоха, как и другая; каждая приносит одинаковую прибыль, и каждая не оправдывала бы своего назначения, если бы производимые ею товары не удовлетворяли какой-либо общественной потребности.
Но если товары продаются по их стоимостям, то, как было уже показано выше, в разных сферах производства возникают весьма различные нормы прибыли в зависимости от различия органического строения вложенных в них масс капитала. Но капитал извлекается из отрасли с более низкой нормой прибыли и устремляется в другие, которые приносят более высокую прибыль. Посредством такой постоянной эмиграции и иммиграции, – словом, посредством своего распределения между различными сферами производства, в зависимости от понижения и повышения нормы прибыли, капитал обусловливает такое соотношение между спросом и предложением, что в различных сферах производства создаётся одна и та же средняя прибыль, и благодаря этому стоимости превращаются в цены производства. Это выравнивание капиталу удаётся осуществить тем полнее, чем выше капиталистическое развитие в данном национальном обществе, т. е. чем больше условия данной страны приспособлены к капиталистическому способу производства. С прогрессом капиталистического производства развиваются и его условия; оно подчиняет своему специфическому характеру, своим имманентным законам всю совокупность общественных предпосылок, при которых совершается процесс производства.
Постоянное выравнивание постоянно возникающих неравенств происходит тем быстрее, чем, во-первых, подвижнее капитал, т. е. чем легче он может быть перенесён из одной сферы и из одного места в другие; во-вторых, чем скорее рабочая сила может быть переброшена из одной сферы в другую, из одного центра производства данной местности в другой. Пункт первый предполагает полную свободу торговли внутри общества и устранение всех монополий, кроме естественных, т. е. устранение монополий, которые возникают из самого капиталистического способа производства. Далее, предполагается развитие кредитной системы, которая концентрирует распылённую массу свободного общественного капитала, противопоставляя её отдельному капиталисту; наконец, – подчинение различных сфер производства капиталистам. Последнее уже включено в принятые нами предпосылки, раз мы допустили, что речь идёт о превращении стоимостей в цены производства во всех капиталистически эксплуатируемых сферах производства; однако само это выравнивание наталкивается на более крупные препятствия, если между капиталистическими предприятиями вклиниваются и с ними переплетаются многочисленные и носящие массовый характер сферы производства, которые ведутся некапиталистически (например, земледелие мелких крестьян). Необходима, наконец, значительная плотность населения. Пункт второй предполагает: отмену всех законов, препятствующих рабочим перемещаться из одной сферы производства в другую или из одного центра производства данной местности в другой; безразличное отношение рабочего к содержанию его труда; возможно большее сведение труда во всех сферах производства к простому труду; освобождение рабочих от всех профессиональных предрассудков; наконец, – и это в особенности – подчинение рабочего капиталистическому способу производства. Дальнейший анализ этого вопроса относится к специальному исследованию конкуренции.
Из сказанного следует, что каждый отдельный капиталист точно так же, как и совокупность всех капиталистов каждой отдельной сферы производства, участвует в эксплуатации всего рабочего класса всем капиталом и обусловливает своим участием определённую степень этой эксплуатации – и участвует не только в силу общей классовой симпатии, но и непосредственно экономически; потому что, – если предположить данными все прочие условия, в том числе стоимость всего авансированного постоянного капитала, – средняя норма прибыли зависит от степени эксплуатации совокупного труда совокупным капиталом.
Средняя прибыль совпадает со средней прибавочной стоимостью, производимой капиталом на каждую сотню, и по отношению к прибавочной стоимости только что сказанное понятно само собой. Что касается средней прибыли, то тут в качестве одного из моментов, определяющих норму прибыли, присоединяется ещё стоимость авансированного капитала. В самом деле, для капиталиста или для капитала определённой сферы производства специальный интерес в эксплуатации непосредственно занятых им рабочих ограничивается тем, чтобы при помощи исключительного чрезмерного труда, или при помощи понижения заработной платы ниже среднего уровня, или же при помощи исключительной производительности применяемого труда получить необычно высокую прибыль, – такую прибыль, которая превышает среднюю. Если же оставить это обстоятельство в стороне, то капиталист, даже вовсе не затрачивающий в своей отрасли производства переменного капитала, следовательно вовсе не применяющий труда (что в действительности, конечно, невозможно), был бы столь же сильно заинтересован в эксплуатации рабочего класса капиталом и совершенно так же извлекал бы свою прибыль из неоплаченного прибавочного труда, как и капиталист, который (опять-таки в действительности невозможное допущение) применял бы только один переменный капитал, затрачивая таким образом весь свой капитал да заработную плату. Но степень эксплуатации труда при данном рабочем дне зависит от средней интенсивности труда, при данной интенсивности – от длины рабочего дня. От степени эксплуатации труда зависит высота нормы прибавочной стоимости, следовательно, при данной общей массе переменного капитала – величина прибавочной стоимости, а потому и величина прибыли. Тот же специальный интерес, который капитал известной отрасли – в отличие от всего совокупного капитала – имеет в эксплуатации специально им занятых рабочих, отдельный капиталист – в отличие от всех капиталистов его отрасли – имеет в эксплуатации лично им занятых рабочих.



