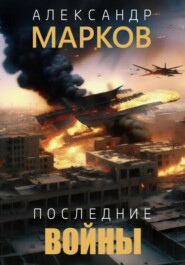скачать книгу бесплатно
– Нет, конечно. Раскатал губы. Но на камеру есть я ее не буду.
Как оказалось в последствии, на базаре за нераспечатанный пакет просили по доллару за штуку. Очень дешево. Дело в том, что американцы отчего-то прислали как раз те продукты, которые афганцы не едят. Хорошо еще, что не додумались упаковать в пакеты банки со свиной тушенкой. Афганцы оставляли себе чай и галеты, а все остальное скармливали ишакам и коровам, так что этот корм для животных на рынке продавали по демпинговым ценам.
Дино вернулся спустя пару часов. Он шел гордо выпятив грудь, глаза его сияли радостью, а следом за ним шел бача и вел за веревку ослика, нагруженного желтыми пластиковыми пакетами. Грек скупил их столько, сколько смогло поместиться на спину ослика. Дино часто оборачивался, боялся, наверное, что ослик с таким ценным грузом может исчезнуть, а такой потери грек уже не переживет и в голове его окончательно помутится.
– Нет там гамбургеров, – сказал Игорь, наблюдая за Дино.
– Ты его раньше времени то не разочаровывай, – сказал Сергей, – а может он не любит гамбургеры. Может банка шоколадной пасты с галетами для него тоже в радость будет.
– Он столько этих галет и пасты купил, что от них аллергия начнется. Кожа у него сыпью пойдет.
Следующую неделю Дино тоже почти не выбирался из своего подвала. Он, кажется, съел содержимое всех купленных пакетов за один присест. Такой нагрузки его, отвыкший от пищи, желудок не выдержал, взбунтовался и теперь Дино и двух шагов ступить не мог – его все время тянуло в туалет, куда он и бегал постоянно.
– Во, как мучается бедняга, – переживал Игорь, кивая в сторону бегущего Дино.
– Бедняга, не пошла ему впрок американская гуманитарная помощь, – говорил Сергей.
– Американская гуманитарная помощь вообще никому впрок не идет, – продолжал Игорь.
– Потому что обычно – это ракеты? – догадался Сергей.
– Да, – подтвердил Игорь.
– «У вас все еще нет демократии? Тогда мы летим к вам?» – пересказал Сергей анекдот времен бомбардировок Югославии.
– Да, – опять подтверждал Игорь.
Утром к ним пришел водитель. Сергей сказал ему, что на съемку они поедут не раньше обеда.
– В доме надо прибраться, – начал он объяснять, – ты, кстати, можешь нам помочь.
– Я вот, что сказать хотел, – начал водитель, взор у него при этом был потуплен, смотрел он себе под ноги и глаз на Сергея не поднимал, – я новую работу нашел.
Он понимал, что подводит русских, но ему явно предложили больше денег, нежели могли ему дать Сергей с Игорем. Повышать ему гонорар Сергей не хотел. На бирже труда, где они повстречали этого водителя, ведь нанять можно было кого угодно, хоть киллера, а уж переводчиков с русского и водителей здесь было как грязи.
– Ты нам на последок веник достать можешь? – спросил Сергей без всякой злобы. Выспрашивать водителя – где тот нашел работу, и какую – ему абсолютно не хотелось. Лишняя все это информация.
– Постараюсь, – сказал водитель.
Он действительно принес минут через десять веник, сказал, что взял его в гостинице и его надо вернуть.
– Обязательно, – сказал Сергей, – ладно, давай, удачи тебе, если что – приходи.
Они пожали друг другу руки.
– Мы теперь еще и средства передвижения лишились, – сказал Игорь, смотря вслед водителю.
– Точно, – сказал Сергей, – я об этом как-то забыл.
В словарном запасе Сергея уже были и водитель и машина. Водитель здесь звучал, как древар, что очень напоминало английское драйвер. Машина – «мутар». Теперь Сергей мог блеснуть знанием местного языка.
– Будем искать на базаре древара с мутаром, – сказал он Игорю, – хотя этот любитель Есенина меня вполне устраивал. А то выберешь какого-нибудь кота в мешке, который и переводить будет плохо и гидом окажется никудышным.
– Тогда мы его уволим без выходного пособия.
– Без выходного пособия – опасно. Затаит злобу и придет ночью мстить.
Пришлось вновь отправляться на биржу труда. В отделение МИДа, что располагалось рядышком с биржей, они заглядывали чуть ли не каждый день, клянчили там хоть какие-нибудь официальные бумаги со штампами министерства. Они подтверждали, что афганцы предоставляли им услуги переводчиков и водителей и за это получали соответствующую оплату. Без таких бумаг все траты пришлось бы компенсировать за свой счет, и тогда поездка в Афганистан встала бы журналистам никак не меньше, чем двухнедельных отдых на хорошем курорте.
Каждое утро на площади собиралась толпа безработных, и все это напомнило Сергею какой-нибудь курортный город российский или ближнего зарубежья, где на базаре стоят бабушки и предлагают гостям по льготной цене комнату или квартиру. Да и в Москве такое он постоянно встречал на Садовом кольце возле Курского вокзала.
Придирчиво разглядывая людей на базаре, Сергей вдруг поймал себя на мысли, что ведет себя как рабовладелец, который пришел сюда купить нового слугу взамен того, что умер накануне от плохого обращения. Вот только физические данные раба его нисколько не интересовали, так что он не просил никого показать ему зубы или напрячь мышцы.
Кто-то знал английский, кто-то французский, но каста переводчиков с русского была самой многочисленной.
– Кто русский знает? – спрашивал Сергей у переводчиков.
– Я. Я знаю, – подбежал к нему молодой парень, схватил за руку и уже не хотел отцепляться, преданно смотря Сергею в глаза, как собака.
– Можешь? – переспросил его Сергей.
– Могу. Могу, – закивал головой парень, потом добавил, – плохо-плохо, но говорю.
Парень стал отводить Сергея чуть в сторону, чтобы работодателя не перехватили конкуренты. Он сказал, что зовут его Абдул Мунир, но для краткости к нему можно обращаться просто Муни. Уже это говорило о том, что парень хоть немного знаком с русской действительность. Муни сказал, что ему двадцать четыре года и дальше поведал длинную историю о своей трудной судьбе – в то время, когда в Афганистане находился ограниченный контингент советских войск, его вместе с большой группой афганских детей вывезли в Советский союз. В Таджикистане он получил среднее образование, потом учился на телевизионного мастера, а, затем устроился в Душанбе на работу.
– А что в Душанбе не остался? – спросил его Сергей.
Выходцы из Афганистана не плохо могли устроиться в бывших среднеазиатских республиках СССР, язык то был схожим.
– Плохо, что Советский Союз развалился, – грустно сказал Муни, этой фразой он записал на свой счет еще несколько баллов, – не стало Союза, не стало работы. Пришлось возвращаться.
Он замолчал, вероятно, вспоминая при каких обстоятельствах его выгнали на родину, но похоже рассказывать об этом он не хотел, как и о том, когда он вернулся в Афганистан, где тут обретался и что делал. Муни уставился на Сергея, ожидая что же тот ему ответит. Наверняка, каждый, кто владел здесь русским, когда-то изучал его в Советском Союзе и на этой площади отыщешь и бывшего стоматолога, и поэта, а то и космонавта, проходившего подготовку к полету на станцию «Мир» в Звездном городке. Но в космос полетел только один афганец, а с развалом Советского Союза – афганские космонавты стали никому не нужны, если уж российские с трудом находили себе работу.
Космонавт в качестве переводчика был, конечно, предпочтительнее, нежели телемастер, но и он подойдет, пусть он и не владеет в совершенстве русским. Сергею ведь главное было понимать общий смысл того, что будут ему говорить люди, которых он намеревается опросить во время съемок. Да и не плохо было бы помочь этому парню немного подзаработать.
– Ладно, – сказал Сергей, – мы тебя берем. Сколько хочешь денег в день?
– Долларами? – спросил Муни.
– Хочешь – афгани дадим, – предложил Сергей.
Внутри страны ходили две местные валюты – одна государственные афгани, а другая называлась дустумовки, получившие такое прозвище в честь генерала Дустума. Внешне они были очень похожи. Но дустумовки были менее ценными и в обмен их давали побольше.
– А доллары можно? – спросил Муни.
– Может, рублями возьмешь? – пошутил Сергей. У него просто не было с собой столько российских денег, сколько придется платить переводчику.
Отказываться от рублей Муни не стал, посчитав, что таким ответом нанесет оскорбление Сергею, и вновь попросил платить ему в долларах. Сколько стоят услуги переводчика он знал, и назвал сумму чуть большую той, на которую настроился Сергей. Ему не составило никакого труда сбить цену, потом они ударили по рукам, заключая, таким образом, договор совсем как русские купцы, которые верят не бумажкам, а на слово.
– Так, что можешь нам предложить для съемок? – спросил он у Муни.
Каждый из переводчиков, набивая себе цену, утверждал, что только он может провести съемочную группу до самой первой линии обороны. Муни пошел по этому же пути, а Сергей на эту уловку повелся и согласился ехать, предвкушая, что удастся создать очень интересный репортаж, который в Москве все будут смотреть, затаив дыхание. Муни был менее ценным кадром, нежели любитель Есенина, у него ведь не было машины, но раздобыть древара с машиной было еще проще, чем переводчика. На ходу здесь в основном были «Тойоты», «Датсуны» и «Нисаны», все с правым рулем, совсем как на Дальнем востоке России и вплоть до Уральских гор. Афганистан был превосходной мусорной свалкой, куда японцы разными путями сплавляли свои старые машины. Попадали они сюда через Пакистан, где чувствовалось тяжелое наследие британских колонизаторов, и движение на дорогах было левосторонним.
Афганцы, независимо от фирмы производителя, называли свои машины «Дог сан». Собачье солнце – по-английски, а уж на местном и не понятно, как это словосочетание переводилось.
К первой линии обороны поехали в тот же день. Редакция начинала требовать сюжеты. Но когда наконец-то добрались до этой линии, то встретили там несколько групп своих коллег. Те что-то вяло снимали, а, увидев вновь прибывших, засмеялись.
– Что вам тоже сказали, что это первая линия?
– Ага, – сказал Сергей, понимая, что его облапошили, вернее сказать, переводчик чуть преувеличил свои возможности, – милейший, что же это ты нам говорил, что сюда никто доехать кроме тебя не сможет, – подозвал Сергей переводчика, – а вот это что такое? – и он махнул рукой в сторону трех русских операторов, бродивших между окопами.
– Эх, – развел руками переводчик, пытаясь состроить удивленную гримасу на лице, – сам ничего понять не могу. Только вчера это была первая линия обороны, а теперь, выходит, вторая.
– Или третья?
– Все может быть. Наши войска очень быстро наступают на талибов. Скоро будем в Кабуле, – заулыбался Муни.
Тут он, конечно, хватил маху, потому что Сергей превосходно знал, что наступление идет ни шатко, ни валко и такими темпами они не то, что в Кабуле скоро окажутся, а будут здесь же встречать Новый год. Вернее те, кто приедет им на смену. Сергей все-таки наделся, что его командировка не продлиться слишком долго и на Новый год он окажется в Москве дома.
Сюжет все равно пришлось бы делать, никуда они в этот день не успели бы. Вот и пришлось стоять на фоне окопов, чуть сгорбившись, чтобы создалось впечатление, будто репортер, выходя на открытое место, подвергается опасности, и его в любой момент могли обстрелять талибы, до которых было буквально рукой подать. Совсем как во времена первой мировой война на западном фронте. На самом то деле до окопов талибов было километров десять. Но Сергей с серьезным видом стал рассказывать о том, что за его спиной буквально несколько минут назад шел бой, сейчас он приутих на какое-то время и вот именно этим затишьем он и воспользовался, чтобы записать свой «стенд-ап».
На следующий день, дабы реабилитировать себя, Муни предложил поехать на бывшую Советскую базу, где проходили обучение солдаты афганской армии. Он все еще боялся, что после первой неудачи ему дадут от ворот поворот, и пойдут искать на бирже другого переводчика, благо недостатка в них не было. А пятьдесят долларов в день – умопомрачительные деньги, которые переводчик может заработать разве что переквалифицировавшись в наемного убийцу.
– Валяй, – махнул Сергей, – Сусанин-герой.
Муни не так хорошо разбирался в русском фольклоре, чтобы понять смысл этой фразы, поэтому дивлено уставился на Сергея.
– Все нормально, – сказал Сергей, – поехали.
К базе шла грунтовая дорога, выложенная камнями. Валуны были разных размеров, но их не обтесывали, как на Красной площади, а и по ней ехать не очень комфортно – машину трясет, а эта дорога стала сущим наказанием. На колдобинах машина вздрагивала, как раненное животное. Чувствовалось, что трассу подправляли. В некоторых местах местные дорожники умудрялись положить нечто схожее с бордюрными камнями, а над речушками и арыками высились хлипкие мосты.
Спустя полчаса от такой езды Сергей стал чувствовать, что все у него внутри тела перемешалось, а сердце вполне могло оказаться не в левой части груди, а где-то в другом месте. Его буквально выворачивала наизнанку.
Водитель, краем глаза, замечая, как мучаются его пассажиры, съехал на обочину, но оказалось, что такая идея пришла ему в голову далеко не первому. Видимо, все машины съезжали на обочину. Их следы густо избороздили землю по обе стороны от дороги. Обочина была разъезжена на добрую сотню метров. От этого дорога казалась невообразимо широкой, как центральный проспект какого-то очень крупного города, где установился тоталитарный режим.
Трясти стало поменьше, но на них свалилась новая напасть. Машина поднимала тучи пыли, видимость упала до нуля, машину окружила непроглядная тьма. Где-то далеко впереди пылила еще одна машина. Водитель держал дистанцию не меньше полукилометра и сокращать ее не собирался, потому что в такой пыли и не заметишь, как въедешь в зад впереди идущей машине.
В первые дни Сергей и Игорь спасались от пыли с помощью марлевых повязок, но они быстро выходили из строя, буквально за день, отстирать их не получалось и когда они вновь их надевали, то сразу же чувствовали на губах, а вскоре и во ртах эту противную пыль. Потом они научились завязывать голову и рты пуштунскими платками, а когда пыли не было, то убирали край платка, приоткрывая рот. Афганцы отчего-то любили зажимать этот краешек зубами, совсем как матросы ленточки своих бескозырок, чтобы их не унес ветер.
Когда-то воинскую часть опоясывал высокий забор, но от него почти ничего не осталось, как от построек времен Александра Македонского. От самой базы сохранились остовы нескольких двух и трехэтажных зданий с пустыми глазницами окон и еще невероятной, чуть ли не до небес, высоты флагшток, на который когда-то каждое утро поднимали советский флаг, а теперь на его верхушку был надет сапог. Надо было обладать поистине феноменальными способностями альпиниста, чтобы забраться на эту верхотуру и водрузить на покоренной вершине этот старый, пробитый во многих местах, сапог.
Оказалось, что сапог здесь висит вместо мишени и каждое утро афганские солдаты обстреливая его, тренировались в меткости. Видимо, стреляли они не очень хорошо, потому что автоматная очередь могла изорвать этот сапог в клочья, а он все еще висел, но возможно его меняли каждое утро.
В брошенных зданиях гулял ветер, жить в них было нельзя и, вероятно, афганцы где-то неподалеку разбили палаточный городок, там ночевали и готовили себе пищу.
В октябре здесь темнело очень быстро, и когда Сергей с Игорем добрались таки до базы, на нее начали опускаться сумерки. Игорь с тревогой поглядывал на небеса и на нескольких солдат, что бездельничали на площади.
– Скоро темно совсем будет, – сказал он Сергею, – мы тут ничего не снимем. Ничего не видно будет.
– Тогда надо все быстрее снимать, – сказал Сергей, понимая, что времени у них осталось совсем мало.
Он начал подозревать, что никакого репортажа на этой базе снять не удастся. Несколько отдыхающих солдат – для этого слишком мало. Муни бросился к солдатам, чтобы их немного взбодрить, умолял их – пострелять. Солдаты смотрели на него, как на какого-то полоумного, не понимаю, что же он от них хочет, а потом огорошили Муни, сообщив, что учения на сегодня закончились.
Второй прокол за два дня существенно понижал рейтинг переводчика. На бирже труда было полно переводчиков, которые просто желали продать свои знания заезжим журналистам. Над Муни замаячила угроза лишиться своей работы. Он это чувствовал, чувствовал, что эта оплошность может оказаться той каплей, что переполнит чашу терпения его работодателей. Терять такую работу он не хотел. Но как он ни старался, солдаты не хотели имитировать учения перед камерой. Муни подавленно оглянулся, видом своим показывая, что он сделал все, что мог. Еще немного и он, наверное, предложил бы Сергею дать солдатам немного денег, по доллару на брата, или стал бы сам раздавать их, тратя гонорар за прошлый день, а чтобы успокоить себя, приговаривал, что эти расходы еще окупятся.
«Русские пробудут здесь еще несколько дней», – думал он.
« Как же их заставит чуть на камеру поработать?» – мучился Сергей, но солдаты сами пришли ему на помощь.
– Надо к генералу идти, – наконец сказали они.
Мысль была до простоты гениальна. Вообще-то каждый офицер в афганской армии, звание которого было выше лейтенанта, а то и лейтенанты тоже, считали себя генералами и подчиненные к ним так и обращались. Командиру части должны были уже сообщить о том, что приехали журналисты, но отчего-то он к ним не выходил. Видимо, тут проявлялся тонкий восточный этикет. Не он должен был идти на поклон к пришельцам, а они к нему.
– Где генерал? – спросил Сергей через Муни, хотя звание это на всех языках звучит очень похоже, и солдаты поняли бы его и без переводчика.
– Да вон он, – стали махать солдаты в сторону одного из разрушенных зданий, – с бородой.
Там и вправду сидел на ковре, скрестив ноги по-турецки, какой-то военный и мирно трапезничал, не обращая никакого внимания на суету мира, потому что ничто его не могло отвлечь от вечернего приема пищи. Это была святая церемония. Вокруг него стояла многочисленная свита, готовая выполнить любой каприз своего начальника. На их лицах застыли подобострастные выражения, как будто они без всяких слов, произносили фразу «что изволите?» и подливали воду в пиалу, когда та начинала пустеть.
То, как ел командир части, являло собой настоящее шоу, от которого было трудно оторваться. Обычно на одного человека насыпали в плошку несколько горстей плова, а поверх них водружали один кусок мяса. Но этот военный, которого все именовали генералом, вовсе не был обыкновенным человеком. Здесь он был богом. Перед ним стояла овальное железное блюдце с низкими бортиками, над которыми высилась гора плова, а на ней лежал не один, а три куска мяса, каждый из которых был уже покусан.
Командир части плевал на пальцы, сложенные горстью, затем водил ими по бокам плошки, собирая рис в комочек, чуть катал его в пальцах, делая рисовые колобки, затем отправлял его в рот, с удовольствие облизывал пальцы и запивал водой из плошки. Отпив немного, начальник принимался за один из кусков мяса, вгрызался в него, откусывал приличный кусок, медленно пережевывал и вновь запивал водичкой. С пальцев у нег стекал жир, жиром была заляпана и плошка.
Муни пошел первым наводить мосты, подобострастно встал перед командиром части, что-то сказал ему, показывая на стоящих чуть в отдалении Сергея и Игоря.
Командир части кивнул и что-то сказал в ответ. Приободренный Муни помчался к журналистам.
– Просит присесть, – сказал переводчик, – отведать угощение.
– Какое на хрен угощение отведать, – процедил сквозь зубы Сергей, – нам снимать надо. Мы не успеем, если с ним есть будем.
– Закон гостеприимства. Надо поесть с хозяином. Обидите, если откажетесь.
– Обидим, – согласился Игорь, посмотрев на Сергея, – тогда он нам вообще снимать ничего не даст.
– Обидим, – сказал Сергей, – пошли есть.
Радушный хозяин указал жестом, что гости могут присаживаться напротив него, а когда они сели, тоже, как и генерал, скрестив по-турецки ноги, им принесли огромные плошки с рисом и кусками мяса. Сергей, увидев это угощение, почувствовал, что живот его начинает недовольно ворчать. До той поры они с Игорем все старались исключить из своего рациона местную пищу, видели ведь, что с коллегами стряслось, у них еще хватало консервов, чтобы с голоду не помереть. Но ведь когда-то и они бы закончились и им волей-неволей все-таки пришлось бы отведать местных яств. К ним надо было приучать желудок постепенно, съедая каждый день по маленькому комочку риса. Постепенно увеличивая эту порцию, так люди, которые боялись, что их когда-нибудь попытаются отравить, приучали свой организм к мышьяку. Метод был проверенным и действенным, но напасть свалилась на головы Сергея с Игорем неожиданно, не успели они еще подготовить свои желудки к такому испытанию.
«Будь, что будет», – мысленно прошептал Сергей.
– Давайте кушать, – расплылся в улыбке генерал.
Его свита не принесла журналистам ни вилок, ни ложек. Может они просто не подозревали о существовании таких столовых приборов, привыкнув есть руками. Но есть руками было очень неудобно. Масло и жир пачкали пальцы, стекали по губам и подбородкам.
Рис готовили на очень специфическом масле, от него появлялся ужасный привкус, прогорклый какой-то. Складывалось впечатление, что это и не масло вовсе, а дизельное топливо, которое слили из бака ближайшей грузовой машины и на нем то и готовили этот рис. От него в лучшем случае будет изжога, а в худшем – им частенько придется останавливать машину на обратном пути и за неимением на обочине кустов, справлять нужду где попало, как в пошлой песенке о том, что хорошо в деревне летом, пристает кое-что к штиблетам, выйдешь в поле, ну и так далее – насчет того, что процесс этот виден издалека.
Но в грязь ударить лицом было нельзя. По тому, как они себя вели в таких ситуациях – местные будут судить обо всех русских. Советские солдаты, что здесь воевали в восьмидесятых, оставили о себе отличные воспоминания и местные, многие из которых были в отрядах душманов в то время, теперь чмокали губами и говорили, что с русскими воевать было приятно. Это настоящий противник. Не то, что американцы.