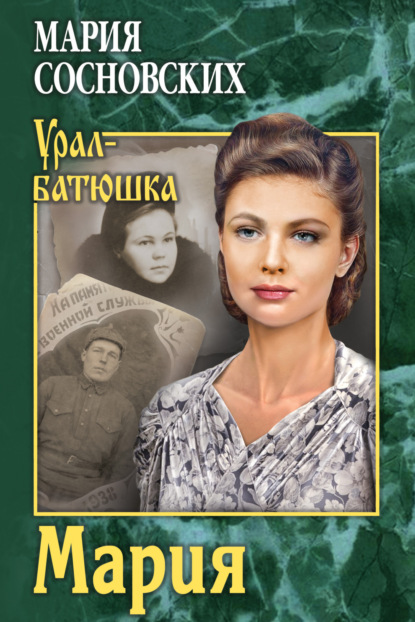
Полная версия:
Мария
Я никогда ещё не видела отца таким страшным: в лице ни кровинки, глаза горят… Братья понуро и молча смотрели в пол, мама с Любой, ну и я, конечно, плакали.
В ту ночь никто не ложился спать. Калиновцы резали скотину… Женщины и дети ревели навзрыд, жалея коров-кормилиц.
Народ обезумел. Все что-то хватали, тащили, что надо и не надо. Мешки с зерном растаскивали по ямкам, деньги и одежду – по подпольям.
…Ранним утром к нам заявились с описью домашней живности. Мать встретила пришедших в фартуке, запятнанном кровью: она резала ночью молочных поросят.
– Ты чё это делаешь, тётка Парасковья? Смотри, ответишь за самоуправство по закону, – заикнулся было кто-то из активистов.
– Будьте же вы все прокляты! Подавитесь нашим добром! – вне себя закричала мать.
Из пригона вышел отец:
– Ладно, мать, тут криком не поможешь… Пусть грабят – их сила!
В то утро у нас описали лошадей, коров, свиней, овец, гусей и даже куриц.
Зашли в амбар, в завозню, посмотрели, сколько там зерна, муки, и, опечатав двери, ушли.
Мои родители не спали уже вторую ночь. Мама, бледная и осунувшаяся за эти кошмарные дни, без устали обрабатывала окровавленные тушки поросят. В широком зеве печи кипел ведёрный чугун, в котором варились скотские осердия[77]. Из таза укоризненно смотрела голова нашей семейной любимицы коровы Тагилки. Её отец покупал ещё маленькой тёлочкой…
По хутору уже пошёл слух, что мясо забитого скота будет конфисковано коммуной. «Повальные обыски, слышь-ко, учинить собираются, – шептались хуторские старухи и бабы, – и в каждом дворе, где хозяева скотину держали. Ой, беда!»
Глубокой ночью раздался осторожный стук в окно.
– Отец! Кто это к нам в такую непогодь? – шёпотом, боясь разбудить детей, спросила Парасковья.
Тятя быстро оделся и вышел. Было слышно, как скрипнули большие ворота.
Через минуту, весь засыпанный снегом, в избу зашёл Егор Осипович:
– Здорово живёте!
– Милости просим, проходи, грейся, – поприветствовала ночного гостя Парасковья. – Чё ж ты в такую непогодь?
– Дело одно есть, – сказал Егор и понурился.
Зашёл и отец:
– Воронка-то твоего я выпряг и сена дал, пусть поест, поить ещё рано, шибко ты, брат, его спарил. Разве можно так животину мучить?
– А теперь уж всё одно. Скоро всё прахом пойдёт, – махнул рукой Егор Осипович. – Панфил, выручи меня… Я только на тебя надеюсь. Никого больше, кроме вас, у меня нету! Уж я бы в долгу не остался, только бы сундучок спрятать где понадёжнее. Понимаешь, ведь золото! – он наклонился к уху отца и зашептал.
Мама ушла на кухню ставить для позднего гостя самовар. А я притворилась, что сплю, и мне было отлично слышно разговор отца с дедушкой Егором.
– Понимаешь, ведь ты, Панфил, с золотом нигде, никогда не пропадёшь, ни при какой власти. А эта коммуния[78] ихняя ненадолго! Народ-от вконец обозлят, в скором времени чё-то будет. Не допустят люди над собой такого глумления.
– Нет, Григорий Осипович! Не стану я твоё золото прятать да в тюрьме за него сидеть. Меня теперь самого-то хотят раскулачить – всё описали. Не смей, говорят, теперь это всё не твоё. Самого вот гонят на работы – лес рубить! Вернусь ли? Может, и семью свою больше не увижу. Навечно там закабалят! А ты золото жалеешь… Да чёрт с им, пусть берут! Лишь бы самим остаться живыми.
– Лошадь отдам! Лучшую! Воронка оставлю с кошёвкой, с упряжкой! Ну будь, Панфил, отцом родным, пожалей нас с бабкой, сирых и одиноких…
– А вы, Григорий Осипович, пожалели меня в 1911 году, когда я от вас в никуда уезжал? Дармоедом да нищим называли! – глаза у отца зло сверкнули, голос сорвался. – Были мне отцом родным? А теперь просите, чтоб я ваше золото прятал. И в тюрьме за него подох, как собака.
– Виноват! Каюсь, виноват, Панфил, я перед тобой! Вот она, наша жисть неразумная! Бабка! Всё она, змея подколодная!
– Нечё на бабку валить! А ты где был?
– Виноват… Прости меня, Панфил! Возьми всё так, даром: и золото, и лошадей с упряжкой. Уплетусь домой пешком, аки[79] пёс бездомный.
– Нет! Нет! Ты уедешь домой на своём Воронке и увезёшь золото! Пожалей мою семью – не вводи в беду!
Мама принесла и поставила на стол кипящий самовар, картофельные шаньги, топлёное молоко, чашки и сахар. Но гость сидел, словно каменное изваяние, и за стол так и не сел.
Про золото больше не было помянуто ни слова. Зато дедушка Егор рассказал жуткие истории:
– Самые последние люди теперь у власти – Каиновы братки всем командуют, ну и приезжие какие-то ещё. Отца Алексея с семьей арестовали, увезли куда-то. Церковь разрушили, всё выбросали, иконы жгли на площади целый день. Старики и старухи в голос ревут… Ужас чё творится! Всё описывают, увозят, отбирают…
Перед самым рассветом метель поутихла, и ночной визитёр собрался домой.
– Езжай, Егор Осипович, от греха подальше домой, пока наши хуторские басурмане не увидели. Время сейчас самое тревожное, хуже войны. Любого человека остерегайся. Лучше уж сиди дома. Куда тебе, старику, ишо трястись? Отдай им всё, пусть берут, подавятся когда-нибудь. Ты старый, тебя не тронут. Отберут лошадей – заботы меньше. Дом отберут – в малухе, в бане живи… Чё поделаешь! На веку – как на долгом волоку!
– Простите меня, ради Христа! Не поминайте лихом! – Егор встал с лавки.
– Бог простит, – сказал отец.
Егор поклонился в пояс и пошёл к дверям. Было слышно, как он, нащупывая ступеньки, спустился с крыльца.
Через два дня у него в доме был обыск, искали золото. Но золота нигде не нашли.
Егор Осипович во время обыска безучастно сидел на лавке, прислонившись к стене.
– Собирайся, Егор, в сельсовет, допрос проведём. Расскажешь, где золотишко припрятал, – ехидно улыбаясь, подошел к Егору Каин и толкнул его в плечо. Егор беззвучно повалился и, как сломанная кукла, раскинув руки, упал на дощатый пол.
Приглашённый фельдшер объявил, что Пономарёв Григорий Осипович умер от разрыва сердца. А через неделю умерла и его жена, Мария Максимовна.
Слово «коммуния» не сходило теперь с языка. Время настало тревожное, люди стали бояться ближайших соседей. Даже днём закрывали ворота на запор и спускали собак. Калиновцы чувствовали себя так, словно чума или другая какая смертельная опасность зашла в хутор.
Утром отец ещё не успел позавтракать, как к нашей ограде подъехал на кошёвке Кузнецов-старший. И прямо с порога:
– Одевайся, Панфил, поедем в сельсовет – может, хоть там правду найдём. Семья-то у меня ревмя ревёт! Как я их оставлю одних, если в Богословский завод придётся ехать? Поедем, поспрошаем, что и как, небось в лоб-то не ударят… Председатель сельсовета Баталов – человек вроде добрый, с понятием!
– Зря только время потеряем… Вон чё творится – всё с ног на голову! Лентяи и безхозяйственники сейчас у власти, чё ждать хорошего? Поди, не миновать нам с тобой Богословского завода, – усмехнулся отец. – Ну, была не была – поедем!
У сельсовета уже собралась целая толпа. Шум, гам, каждый орёт, как может… Еле протиснулись внутрь.
– Ну, а вам чё надо? – поморщился при виде калиновцев председатель.
Кузнецов начал:
– Да вот, вишь ли, посылают на работы в Богословский завод. А у нас ведь семьи!
– Ну и чё – у всех семьи. А у вас сыновья взрослые. Можете их послать, коли сами не хотите!
– Дак ведь сын-то у меня в Красной Армии… Дома сноха с малым робёнком…
– Товарищ Кузнецов! У вас и помимо Фёдора взрослые сыновья есть! Так что, товарищи, ничем я вам помочь не могу. Назначал вас не я, а общее собрание в Калиновке. Ну а на будущий год другие по разнарядке поедут. Надо, товарищи, индустрию поднимать!
– Вот и выхлопотали! – невесело хохотнул отец, усаживаясь в кошеву. – А я чё тебе говорил? Стало быть, скоро поедем мы с тобой «стрию»[80] эту самую подымать… Словом, подорожники[81] нам готовить надо!
В день отъезда отец старался быть весёлым. На прощанье сказал: «Ты уж, мать, не горюй шибко-то, не переживай, если даже всё отберут, и сильно не противься! Видно, коммуну эту не обойдёшь, не объедешь… Не одне мы бедствуем!
А вам, ребята, вот мой сказ: мать берегите да слушайтесь её беспрекословно… Ну, с богом!»
Отец расцеловался со всеми, помолился на образа и вышел.
Рыжко уже стоял во дворе, запряжённый в дровни с коробом, в котором лежала котомка с подорожниками.
…Каин Овчинников с приспешниками продолжал бесчинствовать в Калиновке. Век мне не забыть этих горьких для нашей семьи дней!
Сначала из амбара выгребли весь хлеб – зерно и муку. Потом пришли за скотиной.
Мама, не помня себя, с железными вилами встала перед ватагой мужиков:
– Душегубы! Ироды окаянные, куда стельну-то корову в такой мороз гнать?! Ей же вот-вот телиться!
– Брось-ка вилы, тётка Парасковья! Не машись напрасно! – глумливо переглядываясь, заржали грабители. – Вон амбар-то, затворим тебя, чтоб опамятовалась!
Мужики втроём отобрали у мамы вилы и толкнули её на кучу навоза.
– Здесь тебе самое место, – сквозь зубы процедил один из них.
После грабежа у нас осталась одна чудом сохранившаяся курица, пёс Мальчик да кошка Муся…
Лесозаготовки
Богословский завод от Ирбита далеко. Калиновцы долго топтались на станции, ждали своей очереди погрузиться в вагоны. Для себя были продукты у каждого, взятые из дома, а вот с лошадьми – дело хуже.
Вся привокзальная площадь была забита зимогорами[82]. Мужики бегали, кричали, требовали для лошадей корма.
– Фуража не присылают, где я его возьму?! – кричал обозлённый начальник отправки.
Наконец, дали вагоны, погрузились. Ехали в теплушках. В дороге ухаживали за лошадьми, получали на станциях смёрзшиеся тюки прессованного сена. «Если таким сеном и дальше снабжать нас будут, много не наробим, заморим лошадей», – переживали мужики.
Но вот и Богословский завод, на станции такое же столпотворение, как и в Ирбите. Прибыли эшелоны с юга – привезли раскулаченных.
Исхудалые женщины с грудными детьми протягивают руки:
– Подайте, Христа ради, с голоду пухнем.
«Что же это такое? – с состраданием смотрел на голодающих Панфил. – Что за бедствие народное? Это ещё похуже, чем голодный 1921 год. Тогда хоть засуха да неурожай по всей стране. Да и то, если бы умно да по-хозяйски поступить, можно было прокормить народ. В этом году и урожай не так уж плох, а русский народ всё мрёт и мрёт с голоду».
Лесосека, куда отправили наших лесорубов, находилась на берегу реки Вагран[83], недалеко от железнодорожной станции.
– Вот вам жильё, подремонтируйте, приберитесь и живите, другого не имеем, – сказал десятник, показывая рукой в сторону трёх длинных приземистых строений, похожих на конюшни.
Окна в бараках были маленькие, как в бане. Стёкла местами были выбиты, а пробоины заткнуты грязными тряпками. На всю длину мрачного полутёмного помещения тянулись грязные нары, часть из которых были уже заняты – на нестроганых досках сидели, лежали уставшие мужики.
Для лошадей условия были ещё хуже. Завалившийся набок навес никак не мог защитить их от ветра и мороза.
Полную противоположность баракам представляли видневшиеся на расстоянии с полверсты добротные дома, в которых жило начальство, руководившее работами по заготовке древесины.
В первую очередь калиновцы решили утеплить стойла. Дотемна рубили ельник, возили и стоймя ставили в несколько рядов, получилось что-то вроде стен, которые не пропускали пронизывающий холодный ветер. Потом, когда лошади были накормлены, принялись за своё жильё. Вымели мусор. Даже вымыли нары и пол, а утром на костре нагрели воду, разогрели смёрзшуюся, как камень, глину и переложили заново полуразвалившуюся печь.
Вскоре наши новосёлы приступили к своим прямым обязанностям. Десятники давали распоряжения: куда, какой лес отвозить. Деловую древесину отправляли сразу, а отходы складывали в большие штабеля. Тяжёлые лиственничные стволы грузили отдельно.
Для сельского мужика-труженика всякая работа по плечу. Но вот кормёжка – что для лошадей, что для лесорубов – была уж крайне плоха. Хлеба давали мало, только ржаной, чёрный, влажный, скрипящий на зубах. Изредка привозили просо, овсяную, ячневую крупу и перемороженную картошку…
Народу становилось всё больше – вновь прибывшие пристраивали для лошадей еловые стойла, а вот в бараках была ужасающая теснота; смрад от прогорклого самосада смешивался со зловонием грязных пропотевших портянок и нестираного белья.
В дни, когда выдавали зарплату, любители выпить теряли последний разум – гнали на своих заморённых клячах, порой хватали чужих лошадей, искали, где бы купить что-нибудь спиртное. Пропившись вконец, голодали, воруя у остальных продукты и корм для лошадей. Хорошо то, что хоть получка была раз в месяц, но без драк и увечья не обходилась ни одна пьянка.
Калиновцы держались все вместе. Бок о бок варили кашу, поровну делили хлеб, рядом спали на нарах.
Из дому письма приходили самые неутешительные, особенно Максиму. Афанасия без конца жаловалась на свою несчастную долю. Жаловалась на сноху, на детей, на соседей, на Каина и на коммуну, на всех и вся, как будто муж мог чем-то изменить её жизнь. Максим, получая такие письма, совсем раскисал, ныл, плакал, сидя на нарах. Вспыльчивый Еварест сердился, ругал и даже материл Максима: «И чё ты ноешь, как старая баба? Не вой, не томи душу! И без тебя тошно! Как будто у одного тебя семья дома бедствует. Сейчас все одинаково живут – так чё теперя сядем все да завоем в голос, как волки?»
Панфил, проводя на нарах бессонные ночи, тяжело вздыхая, думал о своём. Этот закопчённый грязный барак, невыносимая вонь табака и грязных мужичьих тел живо воскрешали в его памяти австрийский плен, холодные сырые каменные блоки лагерей, колючую проволоку, злой окрик охраны и лай собак. Но тогда было легче тем, что он был один, без лошади. А теперь на холоде мёрзнет голодный Рыжко, на котором чуть свет надо ехать в лес и выполнить норму. И Панфил вставал, ощупью брал свою пайку хлеба и нёс лошади.
А самое главное, ни днём, ни ночью не покидала его одна дума. Эта мысль не давала ему покоя ни в бараке, ни на работе в лесу. «Как же быть? Что предпринять? Каин пришёл к власти, бывший колчаковец-белобандит, а об этом никто не знает. Ещё год-два, и он пролезет в партию, тогда уж никакая сила его не сковырнет… Нужно всё тщательно разузнать до мельчайших подробностей, чтобы комар носу не подточил, а то у Каина ни стыда, ни совести, вдруг отопрётся. Брать его нужно внезапно, сразу и наверняка».
Панфил вспомнил, как в прошлом неожиданность и напористость выручили его. Тогда он продавал на рынке гусей и поросят. Покупатели, бегло осмотрев товар, сказали: «Нам, дядя, некогда, мы торопимся ехать». Не торгуясь, сунули ему сотенную бумажку, он дал сдачи семнадцать рублей, надо было доплатить ещё пятьдесят копеек. Но мелочи у него не оказалось, он долго рылся в карманах, подходил к одному, к другому продавцу. Но ему так никто рубль не разменял. Покупатели махнули рукой: «Не надо».
Так как Панфил продал весь товар, он сел на подводу и тронулся следом за покупателями. Поехали они сразу очень быстро, и скоро между санями покупателей и подводой моего отца затесался какой-то возница в большой кошеве, одетый в собачью ягу.
Скоро бы Панфил потерял из виду эту подводу, ведь он и не следил за своими покупателями. Они с ним рассчитались, он получил деньги, чего же еще? Но он как-то механически запомнил, что они остановились у ворот дома совсем недалеко от рынка. Один из них вылез из саней, зашёл в калитку, Панфил же проехал дальше. Уже на выезде из города вспомнил, что позабыл купить чугунную вьюшку к печи, завернул в скобяную лавку. Вьюшка со ставеньком стоила намного дороже рубля. Подосадовав, что нет мелких денег и придётся менять сотенную (а так хотелось её целиком привезти домой, похвастаться)… Ну что ж, придётся менять, и он достал бумажку и подал продавцу.
Продавец – пожилой мужчина в очках – долго и внимательно разглядывал бумажку на свет:
– Нет! Не приму – фальшивая! Откуда ты взял её?
– На базаре, – у отца упало сердце и потемнело в глазах. Дыхание перехватило, в горле пересохло. – Целый воз гусей и поросят продал да ещё сдачи дал семнадцать рублей.
– Подумать только, прохвосты, до сих пор фальшивые деньги делают где-то! И кого сволочи надувают, крестьянина! Беги, парень, немедля, ищи их, это дело подсудно. А я ничем помочь не могу.
– А ты не ошибся?
– Как можно ошибиться, я всю жизнь в торговле, сколько уж сотенок перевидал на веку-то.
В лавку зашли двое: хорошо одетый мужчина в драповом пальто и шляпе и молодой парень в сермяге и фартуке. Сотенная всё ещё лежала на прилавке, а Панфил замер в потрясении, не зная, что предпринять. Лицо его покраснело, покрылось обильным потом. Он пытался что-то сказать, но не мог – от волнения пересохло горло.
В это время продавец обратился к новому покупателю:
– Вот взгляните, пожалуйста, человек не верит, что фальшивая! Обратите внимание на водный знак.
Мужчина посмотрел купюру на просвет и сказал:
– Сомнения нет, действительно деньги фальшивые. А где ты их взял?
Панфил рассказал подробно.
– Ну, братец ты мой, базар есть базар. Считай, пропал твой товар да ещё и деньги – семнадцать рублей. Впредь никогда не бери сотенных, пусть меняют.
Словно блеск молнии, Панфила осенила мысль:
– Да я ведь знаю, где они остановились! Постой! Постой! Может, они ещё не уехали! – схватил фальшивые деньги, сел на подводу и погнал к дому у рынка.
Ёкнуло сердце, когда постучал в калитку. Открыли нескоро.
– Кто ты? Чё надо? – спросила старуха, высунувшаяся из притвора.
– Где у вас постояльцы?
– Которы?
– Из заводов!
– Из Тагила, чё ли?
– Ну, двое. Одному лет под сорок, а другому, черноватому, меньше. Гусей и поросят у меня купили.
– А, эти?! Из Алапаихи! Сёдни уехали, уж даже чай пить не стали.
– А как их зовут, баушка?
– Фамилии ихни я не знаю. Только тот, который помоложе, Петро, а постарше – Никита Афанасьевич. Да нашто оне тебе?
– Да так… Спасибо, баушка!
Панфил решил догонять: «Но вот беда, – думал он, – на Алапаевск две дороги, которой же они поехали? Лошадь у них добрая, не чета моему Рыжку. Я бы на их месте поехал вот этой дорогой. Рискну! Беда только в том, что прошло уж много времени. Могу не догнать. Будь что будет! Двум смертям не бывать, а одной не миновать!» Война, плен, неоднократные побеги из лагерей для военнопленных, странствия по всей Европе кое-чему его научили. В нём теперь боролись два чувства, как два человека с противоположными характерами. Один – решительный, бесшабашный и смелый приказывал: «Догони и любой ценой отними. За правду надо бороться крепко, не жалея ни сил, ни жизни. Только смелый побеждает». Второй же, более благоразумный, говорил: «Брось! Езжай домой, слишком большой риск и скользкий путь, можно и головой поплатиться. Люди не это теряют! Переживёшь и ты эту потерю как-нибудь, не обеднеешь, и они богаче не станут. У них боком вылезет». А ещё он вспомнил своего товарища по плену Тимофеева, который не раз говорил ему: «Не связывайся с заводскими. Они люди отчаянные, есть среди них такие головорезы – за грош убьют, рука не дрогнет».
Но какая-то сила всё равно толкала Панфила вперёд и вперёд, и он полностью покорился первому чувству. «Нечего поддаваться страху. Моё дело справедливое!»
Не долог зимний день. Дорога знакомая. Сколько раз он ходил по ней – гонял в молодости у богатых мужиков гурты скота. Но то всё было не своё, чужое, там был старший при обозе. И никакой тебе заботушки: шагаешь за возом день-деньской, ночью на постоялом спишь как убитый, если не твоя очередь ухаживать за лошадьми и караулить возы. Теперь дело другое. Надо самому думать, соображать, выкрутиться, не растеряться при опасности.
На закате солнца подъехал к Шатровой горе. Дорога тут всегда опасная и скользкая. Хорошо, что Рыжко подкован недавно. Благополучно миновав подъём в целую версту, стали спускаться. В долине, как на ладони, открылся вид на деревню Шатровая, или попросту Шатры, названной так, должно быть, по названию горы.
Запыхавшийся конь заторопился, увидав жильё. Всё та же, старая, но опрятная пожарница у дороги. Колодец с жаравцом[84], на длинном шесте болтается, раскачиваемая ветром, деревянная бадья.
Панфил подворачивает к пожарнице, проезжающих – ни души. Надевает Рыжку на голову торбу с овсом, поить ещё рано, пусть отдохнёт и поест.
В пожарнице сидит старый дед – караульщик.
– Здорово, дядя, пустишь ли погреться?
– А проходи, погрейся, добро жаловать, пожарница для того и есть, чтоб в ей грелись и отдыхали проезжающие. Откуда бог несёт?
– Из Ирбита, догоняю вот своих товарищей, поотстал малость, дела задержали. Не заезжали тут двое алапаевских?
Дед подумал, поскреб за ухом:
– Днём народу здеся множина была, может, и были, только никто никого тут не ждал.
– А ты подумай, вспомни.
– Погодь, погодь, парень, вспомнил двоих. Энти уж под вечер подъезжали. Заходили, грелись, лошадь кормили. С возом оне. Один мне ишо табаку на цигарку дал. А ты, парень, вот што, если пошибче поедешь, может, даже их догонишь у Крутого перевала. Оне беспременно там на кордоне заночуют, лошадь-то им кормить, поить надо, да и самим отдохнуть.
– Как ты думаешь, дядя, в Шатрах они не могли ни у кого остановиться?
– Нет, не думаю, рано ишо было на ночлег. Да и, сам подумай, к чему бы им тоды в пожарнице останавливаться, сами тут ели и лошадь кормили, но недолго, видно, что спешат.
– А на кордоне у Крутого перевала кто теперь живёт? – делая беспечный вид, спросил Панфил.
– А хто может жить на кордоне, известное дело, лесник да баба его, старый-то умер, а теперь, говорят, новый какой-то.
Панфил, напоив лошадь, попрощался со словоохотливым сторожем и тронулся в путь, но на выезде из деревни остановился у предпоследнего дома и попросился переночевать. Догонять фальшивомонетчиков ночью, да ещё в лесу было более чем опасно и безрассудно.
Утром, отдав за ночлег последние деньги, Панфил выехал со двора. По его расчётам, преследуемые находились от него теперь верстах в двадцати. Но догнать их надо только в селе Ялунинском. Места теперь пойдут лесные, глухие, топи, болота, озёра и реки на пути. Так что с преступниками раньше времени встречи искать опасно, да и не нужно.
Подул южак, погода сразу изменилась, стало теплее. Когда проезжал мимо кордона, совсем уже стало светло, и Панфил подвернул к дому, чтобы напоить лошадь и погреться. Хозяина в избе не было.
– Ночевал ли у вас кто-нибудь этой ночью? – спросил Панфил у хозяйки.
– У нас часто останавливаются проезжие. И в эту ночь на двух подводах были. Один ялунинский, а двое других из Алапаихи. Будь они неладны, пили всю ночь да болтали без умолку. В погреб за огурцами ночью пришлось из-за них идти, да два раза самовар ставить, и мой-то с ними связался, – жена лесничего, увидев благодарного слушателя, была рада поболтать.
– А не скажешь ли, хозяюшка, как зовут того ялунинского мужика и где он там живёт? Мне позарез надо его видеть.
– Да, батюшка, я вить не тутошняя, не знаю. Вот мужик мой он местный, он всех там знает, дак он теперя до вечера не приедет домой. Кажется, что те двое его Яковом Лукичем величали. Фамиль не знаю, а где живёт, спросишь, – и лесничиха затараторила: – Всю-то ноченьку проболтали, только под утро угомонились. Я чуть не проспала корову доить. А оне поздно уехали и всё утро дрыхли.
– Спасибо, хозяюшка, за тепло и за воду, нагрелся и лошадку напоил.
– Не за что! Езжай с богом! Доброй тебе дороги!
В сумерках показалось Ялунинское – большое богатое село, раскинувшееся вдоль дороги.
Пока обстоятельства складывались в пользу Панфила, но основное было впереди. «Если его покупателей нет в пожарнице, то они непременно должны быть у этого мужика, с ним они, скорее всего, давно знакомы. Раз они вместе распивали у лесника, то этот Яков Лукич должен их пригласить к себе ночевать», – размышлял он.
– Девушка, есть у вас тут дом приезжих? – спросил Панфил у повстречавшейся ему по пути женщины.
– Нету-ка никакого, – ответила она, уставившись свиными глазками.
– А скажи, пожалуйста, любезная, где тут Яков Лукич живёт?
Баба подумала-подумала, собралась с мыслями:
– А какого тебе Якова Лукича? Потанина али Ялунина? Один молодой, а другой шибко старой.
– Ну, конечно, молодого.
– А! Тогда Потанин. Вон туда езжай. Той улицей! – показала направление баба. – Там будет проулок, от него первый дом.
Панфил быстро нашёл проулок, а затем и дом. Осторожно толкнул калитку – заперто. В доме горит свет, но окна закрыты на ставни. Припал глазами к щели ставня, прислушался: говорили несколько мужчин, но о чём, не разобрать. На столе блестит никелем самовар, на противоположной стене качаются тени, вот потянулась со стаканом рука. Ставень открыть нельзя – закрыт изнутри на пробой. Стоять так и глядеть – нет смысла, да и увидит кто-нибудь. Осторожно, бесшумно перемахнул через заплот во двор. Нигде никого. Слышно, как под крышей лошадь похрустывает сеном. Ага! Вот их сани, и все покупки тут, и лошадь стоит под навесом. Обследовав до малейшей подробности двор, нашёл калитку, открыл её настежь и подвёл к ней Рыжка.

