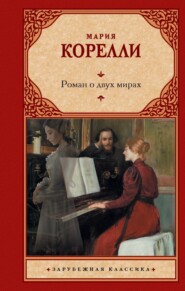
Полная версия:
Роман о двух мирах

Мария Корелли
Роман о двух мирах
Школа перевода В. Баканова, 2022
© ООО «Издательство АСТ», 2023
Пролог
Мы живем в эпоху всеобщего просвещения, а следовательно, и всеобщего скептицизма. Каждый день в жизнь воплощаются пророчества поэтов, мечты философов и ученых: все то, что когда-то считалось сказками, становится частью нашего бытия. Однако, несмотря на чудеса, которые мы ежечасно наблюдаем благодаря своей эрудиции и науке, человечество ко всему относится с недоверием. «Бога нет! – кричит один ученый муж. – А если и есть, мне не получить доказательств Его существования!» «Нет никакого Создателя! – заявляет второй. – Вселенная – лишь поток атомов». «Бессмертие невозможно, – вторит ему третий. – Ибо мы прах и в прах возвратимся». «То, что идеалисты называют душой, – утверждает еще один, – это всего-навсего жизненное начало: оно состоит из тепла и воздуха, а после смерти покидает тело, чтобы вновь смешаться с родной средой. Свеча при горении выделяет пламя: задуй свечу – пламя исчезнет. Куда? Все-таки душа, или жизненное начало человеческого существования, не более чем пламя свечи».
Если вы зададите этим ученым мужам извечный вопрос «Зачем?» – зачем существует мир? зачем существует Вселенная? зачем мы живем? зачем мы думаем и строим планы? зачем мы, в конце концов, погибаем? – они напыщенно ответят: «Из-за Закона всеобщей необходимости». Они не в состоянии ни объяснить этот Закон, ни глубже исследовать его, чтобы найти ответ на еще более важное «Зачем?» – зачем нужен этот самый Закон всеобщей необходимости? Они довольны результатом своих измышлений, если не в полной мере, то хотя бы отчасти, и редко пытаются выходить за пределы великой, необъяснимой, но вездесущей Необходимости, чтобы их ограниченные умишки ненароком не скатились в безумие похуже смерти. Я вижу, что в наш прогрессивный век мыслители всех наций выстраивают все более высокую стену из скептицизма и цинизма против любого проявления Сверхъестественного и Незримого, а потому осознаю, что рассказ мой о событиях, недавно мною пережитых, будет воспринят с большой подозрительностью. Во времена, когда великую империю христианской религии подвергают нападкам, а правительства, известные особы и учителя с холодной вежливостью игнорируют ее, я в полной мере понимаю всю отчаянность любых попыток доказать, пусть даже простым рассказом о случившейся со мной череде странных происшествий, существование вокруг нас Сверхъестественного и воскрешение души, что происходит после краткого оцепенения, в котором погибает тело и которое известно нам как Смерть.
Я не тешу себя надеждой, что все поверят в настоящее повествование, намеренно названное романом, ведь в нем я полагаюсь только на опыт, пережитый мною лично. Знаю, что теперь мужчины и женщины должны сначала получить доказательства или то, что они пожелают воспринять как доказательства, прежде чем убедятся в существовании так называемых сверхъестественных сил – нечто потрясающее, некое чудо выдающегося порядка, которое, согласно пророчеству, они получить недостойны. Немногие признают скрытое влияние и неоспоримую, пусть и загадочную, власть, которыми обладает над их жизнями чей-то высший разум, – невидимый, неизведанный и все же ощутимый. Да! Его осязают даже самые беспечные и циничные: в грозном предчувствии опасности; во внутренних предвестниках будущей вины – моральной и духовной пытке, что терпят те, кто ведет долгую битву за победу добра над злом внутри себя самого; в тысяче неожиданных призывов, обращенных к компасу человеческой жизни, Сознанию; в чудесных и поразительных актах щедрости, храбрости и самопожертвования, что заставляют позабыть о последствиях и ведут нас вперед, к великим и благородным деяниям, слава о которых весь мир превращает в одно громовое эхо победы, деяниям, в которых мы удивляемся себе даже в момент их совершения, актам героизма, когда жизнь ничего не стоит, а главную роль на мгновение занимает Душа, слепо ведомая чем-то родственным и, однако же, более возвышенным в царстве Мысли.
Почему такое случается, непонятно, но сам факт таких моментов бесспорен. Сегодняшние чудеса незаметны и происходят только в сердце и разуме человека. Неверие теперь возведено в крайнюю степень. Даже если посреди большой и людной площади с небес спустится ангел, народ решит, он проделал это с помощью блоков и веревок, и попытается раскрыть его устройство. А если ангел в гневе станет истреблять людей, пронзая пламенем своих крыл и умерщвляя тысячу одним взмахом длани, то выжившие заявят, что произошел взрыв большой бомбы или что площадь была построена на спящем вулкане, который неожиданно пробудился. Все что угодно, только не ангелы: девятнадцатый век протестует против любого свидетельства их существования. Он не видит чуда и не придает значения никаким попыткам найти эти чудеса.
«Дай знак, – говорит он, – докажи, что все сказанное – правда, и я поверю, невзирая на Прогресс и теорию атомов». Ответ на такое требование звучал еще 1800 лет назад и ранее: «Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет, и знамение не дастся ему»1.
Могу ли я утверждать, что это знамение дали мне – одной из тысяч тех, кто его требует? Такое смелое с моей стороны утверждение встретит самое рьяное сопротивление у читателей этих страниц: у каждого человека есть собственные представления обо всем на свете, и он, конечно же, считает их самыми разумными, если не единственно верными. Однако же я желаю сказать вот что: в этой книге я не выдвигаю новых теорий в религии или философии и не несу ответственности за мнения, высказанные моими героями. Моя цель – дать фактам говорить за себя. Если они покажутся подозрительными, надуманными и даже невероятными – могу лишь сказать, что предметы невидимого мира всегда являются таковыми тем, чьи мысли и желания сосредоточены исключительно на собственной жизни.
Глава I
Мастерская художника
Зимой 188* года меня терзали сразу несколько душевных недугов, вызванных переутомлением и чрезмерной тревожностью. Главным среди них была невыносимая длительная бессонница, сопровождаемая крайним упадком духа и смутностью сознания. Во всем я видела самые мрачные предвестники зла, а мое душевное состояние из-за физического и морального возбуждения оказалось настолько хрупким, что даже самый тихий и спокойный из голосов друзей вызывал во мне лишь недовольство и раздражение. Работать было невозможно: музыка, моя единственная страсть, стала невыносима, книги только наводили на меня тоску и даже короткая прогулка на свежем воздухе приносила такую слабость и изнеможение, что скоро я возненавидела саму мысль выходить из дому. При таком состоянии здоровья без помощи медицины было никак не обойтись, так что многие недели меня наблюдал, однако без особого успеха, доктор Р., специалист опытный и очень любезный, с хорошей репутацией в области лечения психических недугов. Но этот бедняга совершенно не виноват в том, что не смог меня излечить. У него существовал лишь один метод, который с переменным успехом он применял ко всем своим больным. Кто-то умирал, кто-то выздоравливал – это была лотерея, в которой мой ученый друг поставил свою репутацию и выиграл. Об умерших пациентах больше никто никогда не слышал, а те, что выздоровели, везде и всюду пели спасителю дифирамбы, отправляли серебряные подносы с подарками и корзины с вином, чтобы засвидетельствовать ему свою признательность. Его слава была невероятна, мастерство считалось чем-то магическим, а полная неспособность хоть как-то помочь именно мне происходила, насколько я могу судить, из некоего изъяна или скрытого сопротивления моего организма, что стало для эскулапа совершенно новым опытом. Бедный доктор Р.! Вы оказались к такому не готовы. Как много склянок искусно приготовленного вами довольно дорогого снадобья не стала я глотать, слепо веруя в себя и не ведая о преступлениях, что совершаю, отказываясь от лекарств, против принципов той Природы во мне, что, возможно, уже никогда не воспрянет с былой силой. Предоставленная самой себе, она всегда героически борется ради восстановления своего равновесия, то есть моего здоровья, а подвергаясь экспериментам с разными ядами и лекарствами, часто теряет мощь в противоестественной схватке и в изнеможении гибнет.
Сбитый с толку тщетными попытками вылечить мои недуги, доктор Р. наконец прибег к обычному плану всех целителей, который берегут для случаев, когда лекарства не имеют никакого действия. Он рекомендовал мне иной климат, а именно – сменить темный от туманов унылой зимы Лондон на праздность, солнце и розы Ривьеры. Подобная мысль не вызывала у меня неприязни, и я решила воспользоваться советом. Узнав об этом намерении, мои друзья из Америки, полковник Эверард и его очаровательная молодая жена, решили составить мне компанию и разделить со мной путевые траты и отель. Мы покинули Лондон все вместе сырым и туманным вечером, когда холод был настолько пронизывающим, что казалось, плоть раздирают острые зубы какого-то животного, и через два дня пути, во время которых я чувствовала постепенное улучшение, а мои дурные предчувствия развеивались одно за другим, мы прибыли в Канны и поселились в отеле Л. Это было чудесное место с невероятно красивыми видами: сад пестрел цветущими розами, а вдоль улицы росли апельсиновые деревья, что тоже только-только вошли в цвет и наполняли теплый воздух легким ароматом.
Миссис Эверард была в восторге.
– Если ты и здесь не поправишься, – сказала она мне полушутя на второе утро после нашего приезда, – боюсь, твой случай безнадежен. Какое солнце! Какой теплый ветер! Тут и калека отбросит костыли подальше, позабыв о своих увечьях. Тебе так не кажется?
В ответ я лишь улыбнулась и незаметно вздохнула. Какими бы прекрасными ни были здешние пейзажи, воздух и царящая тут атмосфера, от меня самой не укрылось, что мое временное улучшение, вызванное новыми ощущениями и радостью от поездки в Канны, медленно, но верно отступает. Безнадежная апатия, с которой я столько месяцев боролась, вновь овладевала мною с неодолимой силой. Я всей душою пыталась ей противиться: гуляла, каталась на лошадях, смеялась и болтала с миссис Эверард и ее мужем, принуждала себя к общению и с другими постояльцами отеля, выказывающими нам свое дружеское внимание. Я собрала все силы, чтобы дать отпор подкрадывающимся физическим и душевным мукам, угрожавшим лишить меня самого источника жизни, и в некоторых устремлениях даже преуспела. Однако весь ужас моего состояния обрушивался на меня по ночам. Сон не касался моих глаз, тупая пульсирующая боль обвивала голову, словно терновый венец, все тело сотрясал страх, отрывки моих собственных музыкальных сочинений отдавались в ушах с болезненной настойчивостью – отрывки, всегда оставлявшие меня в состоянии невыносимых мук, ведь я никогда не могла вспомнить, чем они оканчиваются, и все терзала и терзала себя нотами, что никак не ложились в приемлемый финал. Шли дни – для полковника Эверарда и его жены они были полны веселья, прогулок и развлечений. Для меня же, внешне разделявшей всеобщую праздность, они были отягощены нарастающим отчаяньем и унынием: я начала терять надежду, что однажды смогу восстановить некогда крепкое здоровье и душевные силы, а что еще хуже – я словно навсегда потеряла возможность творить. Я была совсем молода, и несколько месяцев назад моя судьба представала в самом радужном свете, суля в недалеком будущем блестящую карьеру. И что сталось со мной теперь? Я разбитая жизнью калека – обуза для себя самой и всех остальных – сломленный рангоут, плавающий с другими обломками потерпевшего крушение корабля в великом океане Времени, что однажды унесет меня в забвение. Но помощь уже близко: помощь неожиданная и чудесная, о которой я не могла мечтать даже в своих самых смелых фантазиях.
В одном отеле с нами жил молодой итальянский художник, Рафаэлло Челлини. Его картины привлекали к себе все больше и больше внимания и в Париже, и в Риме – и не столько своей безупречной композицией, сколько изумительными цветами. Оттенки на его полотнах были такими глубокими, теплыми и насыщенными, что другие художники, менее удачливые в передаче своей палитры, утверждали, будто он изобрел особый раствор, который и помог сделать цвета глубже и ярче, впрочем, эффект этот лишь временный, и все картины Челлини лет через восемь-десять выцветут, не оставив после себя ни мазка. Другие же, более великодушные, поздравляли его с раскрытием секрета старых мастеров. Иными словами, им восхищались, его осуждали, ему завидовали и льстили – все зараз, в то время как сам он, будучи человеком необыкновенно невозмутимым и рассудительным, беспрестанно трудился, нисколько не заботясь ни о похвале, ни о порицании нашего мира.
Челлини занимал в отеле Л. роскошные комнаты. Мои друзья, полковник и миссис Эверард, отнеслись к нему очень тепло. Он не замедлил откликнуться на их предложение о дружбе, и так получилось, что его мастерская стала нам чем-то вроде салона, где мы собирались выпить по чашке чаю, поболтать, посмотреть на картины или обсудить планы будущих забав. Как ни странно, эти визиты в мастерскую Челлини производили на мои расстроенные нервы невероятно успокаивающий эффект. Его величественная и элегантная комната была обставлена и украшена с присущим художникам «восхитительным беспорядком» и пестрой роскошью: тяжелыми бархатными портьерами, сияющими белизной мраморными бюстами и полуразрушенными колоннами, яркими и ароматными цветами, растущими в крошечной оранжерее, через которую из мастерской можно было выйти прямо в сад, где мелодично журчал фонтан, – все это радовало меня и возбуждало любопытство, а что еще лучше – вызывало чувство полного покоя. По тем же самым причинам меня притягивал и сам Челлини. В качестве примера вспомню случай, когда я, покинув миссис Эверард, торопилась в самую уединенную часть сада, чтобы прогуляться в одиночестве в попытках унять приступ внезапно охватившего меня нервного возбуждения. Расхаживая по тропке в лихорадочном беспокойстве, я увидела идущего мне навстречу Челлини – он склонил голову, словно в раздумье, и сложил руки за спиной. Приблизившись, он поднял взгляд – ясный и горящий – и с доброй улыбкой посмотрел прямо мне в глаза. Затем с учтивым поклоном, свойственным одним лишь итальянцам, галантно приподнял шляпу и прошел мимо, не сказав при этом ни единого слова. Вот только эффект от его секундного присутствия оказался для меня невероятно примечателен – он был электрическим. Мое возбуждение тут же спало. Спокойная, умиротворенная и почти счастливая, я вернулась к миссис Эверард и нырнула в ее планы на день с таким рвением, что она несказанно удивилась и обрадовалась.
– Такими темпами, – сказала она, – ты уже через месяц будешь полностью здорова.
Я была совершенно не в состоянии объяснить исцеляющее воздействие, оказанное на меня присутствием Рафаэлло Челлини, однако не могла не почувствовать благодарность за подаренную им передышку от моих мучений, так что с того момента визиты в мастерскую художника, ставшие теперь ежедневными, превратились для меня в удовольствие и привилегию, от которой ни в коем случае нельзя было отказываться. Более того, я никогда не уставала смотреть на его картины. Все сюжеты были оригинальны, некоторые даже чудны и фантастичны. Особенно меня привлекало одно большое полотно. Оно называлось «Властители нашей жизни и смерти». В окружении клубящихся облаков, где-то с серебряными гребнями, где-то пронизанных красным пламенем, был изображен Мир в виде шара – одна его половина на свету, вторая – во тьме. Над ним парил чудесный Ангел, на спокойном и благородном лице которого застыло выражение глубокой печали, томительной жалости и бесконечного сожаления. Казалось, на прикрытых ресницах этого прекрасного, хотя и угрюмого существа блестели слезы, а могучая правая рука, державшая обнаженный меч, меч разрушения, всегда указывала вниз, на приговоренный к гибели шар. Под Ангелом и миром, над которым он парил, простиралась тьма – непроницаемая безграничная тьма. Однако облака над Ангелом расступались в стороны, и через прозрачную пелену золотистого тумана проступало лицо неземной красоты – лицо, светившееся молодостью, здоровьем, надеждой, любовью и самозабвенной радостью. Оно было олицетворением Жизни – не той, которую знаем мы, краткую и полную тревог, а Вечной Жизни и Торжества Любви. Все чаще и чаще оказывалась я перед этим шедевром гения Челлини, разглядывая его не только с восхищением, но и с чувством истинного отдохновения. Однажды, сидя в своем любимом креслице напротив картины, я вдруг очнулась от грез, повернулась к художнику ‒ в этот момент он показывал свои акварельные зарисовки миссис Эверард ‒ и спросила:
– Вы сами придумали лицо Ангела Жизни, синьор Челлини, или вам кто-то позировал?
Он посмотрел на меня и улыбнулся.
– У этого относительно неплохого портрета и правда есть оригинал.
– Я полагаю, это женщина? Должно быть, она очень красива!
– У настоящей красоты нет пола, – ответил он и погрузился в молчание. Выражение его лица стало рассеянным и мечтательным, он передал свои работы миссис Эверард с таким видом, что стало ясно: его мысли сейчас совсем не о рисовании.
– А Ангела Смерти вы тоже рисовали с натуры? – продолжила я расспросы.
В этот раз на его лице отразилось облегчение, даже радость.
– Вообще-то нет, – ответил он с готовностью, – это полностью плод моего собственного воображения.
Я хотела было сделать ему комплимент относительно грандиозности и мощи его поэтического воображения, когда Челлини остановил меня легким жестом руки.
– Если картина вам и правда нравится, – сказал он, – умоляю: не произносите этого. Если это истинное произведение искусства, пусть оно говорит с вами только как искусство, и избавьте бедного мастера, создавшего ее, от позора признания в том, что картина не выше человеческой похвалы. Единственно верная критика высокого искусства – молчание, молчание величественное, как сами небеса.
Речь его была страстной, темные глаза сверкали. Эми (миссис Эверард) посмотрела на него с любопытством.
– Вот это да! – воскликнула она, заливисто смеясь. – А вы настоящий чудак, синьор! Словно длинноволосый пророк! В жизни не встречала художников, что не выносят похвалы: обычно я диву даюсь от того, сколько подобной опьяняющей сладости они могут поглотить зараз и не пошатнуться. Но вы, должна заметить, составляете исключение. Поздравляю!
Она шутливо сделала реверанс, Челлини отвесил ей радостный поклон и, повернувшись ко мне, сказал:
– Я хочу попросить вас об услуге, мадемуазель. Не могли бы вы позировать мне для портрета?
– Позировать для портрета? – изумленно воскликнула я. – Синьор Челлини, даже представить не могу, почему бы вам вдруг захотелось так беспечно тратить свое драгоценное время. В моем лице нет ничего достойного и минуты вашего внимания.
– Прошу меня простить, мадемуазель, – серьезно ответил он, – я посмею с вами не согласиться. Мне уже не терпится перенести ваши черты на холст. Знаю, вы сейчас нездоровы, и лицо ваше утратило привычную округлость и цвет. Только я не поклонник красоты пышных молочниц. Во всем я ищу ум, вдумчивость и внутреннюю утонченность – в общем, мадемуазель, у вас лицо человека, снедаемого внутренними терзаниями, а посему могу я еще раз попросить вас уделить мне немного времени? Вы не пожалеете, уверяю.
Последние слова он произнес тихо и очень вкрадчиво. Я поднялась с кресла и посмотрела прямо ему в глаза – он ответил мне не менее уверенным взглядом. Меня вдруг охватил странный трепет, а вслед за ним – непередаваемое ощущение абсолютного спокойствия, которое мне уже довелось испытать. Я улыбнулась, не могла не улыбнуться.
– Я приду завтра.
– Тысяча благодарностей, мадемуазель! Сможете быть у меня в полдень?
Я вопросительно посмотрела на Эми, восторженно хлопающую в ладоши.
– Конечно! В любое подходящее время, синьор. Мы перенесем экскурсии так, что они не будут совпадать с вашими встречами. Как же интересно будет понаблюдать за ежедневным продвижением рисунка! Как вы его назовете, синьор? Как-то причудливо?
– Это зависит от того, что в итоге получится, – ответил он, открывая перед нами двери мастерской и кланяясь со своей привычной учтивостью. – Au revoir, мадам! A demain2, мадемуазель! – И бархатные фиолетовые портьеры мягко сомкнулись, как только мы вышли.
– Есть в этом юноше что-то странное, да? – сказала миссис Эверард, пока мы шли по длинному коридору отеля Л. обратно в свои комнаты. – То ли что-то дьявольское, то ли ангельское, а может, и то и другое.
– Мне кажется, отчаявшись постигнуть поэтические капризы гения, люди называют таких чудаками, – ответила я. – Он определенно незаурядная личность.
– Что ж! – продолжила моя подруга, задумчиво наблюдая свое хорошенькое личико и грациозную фигуру в высоком зеркале, что заманчиво стояло в углу залы, по которой мы как раз проходили. – Скажу только, что свой портрет я бы ни за что не позволила ему рисовать, если бы он вдруг попросил! Я бы до смерти перепугалась. Видимо, находясь в состоянии душевного расстройства, ты его совершенно не боишься.
– А я думала, он тебе нравится, – сказала я.
– Он и нравится. И супругу моему тоже. Челлини всегда до безобразия мил и остроумен – но его высказывания!.. Теперь-то, моя дорогая, ты не можешь не признать, что он слегка чудаковат. Только сумасшедший может заявить, что единственная критика для искусства – молчание! Разве это не полнейшая чушь?
– Единственно верная критика, – осторожно поправила ее я.
– Да все равно. Какая вообще критика может быть в молчании? Судя по его словам, когда что-то очень сильно нравится, надо расхаживать с вытянутыми лицами и кляпами во рту. Это же совершенно невообразимо! А что за ужасы он наговорил тебе?
– Я не совсем тебя понимаю. Не помню, чтобы он говорил что-то ужасное.
– Зато я напомню! – порывисто продолжила Эми. – Возмутительно! Он сказал, у тебя лицо человека, снедаемого внутренними терзаниями. Выглядело это невероятно жутко! И сам он в этот момент выглядел страшно! Интересно, что он имел в виду?
Я промолчала, однако мне показалось, я знаю ответ. Я как можно быстрее сменила тему разговора, и уже скоро моя беспечная американская подруга была поглощена обсуждением платьев и украшений. Тот вечер стал для меня благословением – я освободилась от терзаний и спала, как младенец, а во сне мне улыбался Ангел Жизни и вселял в меня покой.
Глава II
Загадочное зелье
Ровно в полдень следующего дня, верная своему обещанию, я вошла в мастерскую. Со мной никого не было, поскольку Эми, после некоторых угрызений совести относительно необходимости сопровождения, соблюдения приличий и прочей ереси в духе старой доброй миссис Гранди, уступила моим мольбам и отправилась на прогулку с друзьями. Несмотря на опасения, испытываемые ею по поводу мефистофелевского характера Рафаэлло Челлини, в одном мы с ней оказались единодушны: еще никогда на эту землю не ступала нога более честного и благородного джентльмена, чем он. Под его защитой даже самая прекрасная и самая одинокая женщина в мире была бы в полной безопасности, словно принцесса из сказки, запертая в высокой башне, ключом от которой владел бы лишь неуловимый змий. Когда я вошла, в комнатах не было ни души, если не считать великолепного ньюфаундленда. При виде меня пес тут же встал, содрогаясь всем своим лохматым телом, сел прямо передо мной и протянул огромную лапу, непрестанно виляя хвостом в самой дружелюбной манере. Я тотчас же ответила на такое сердечное приветствие и, гладя его по благородной голове, гадала, откуда этот зверь взялся: хотя мы посещали мастерскую синьора Челлини каждый день, здесь никогда не было ни намека на этого величественного кареглазого компаньона на четырех лапах, ни единого упоминания о нем. Я села, и пес тотчас лег у моих ног, то и дело поглядывая на меня нежным взором и виляя хвостом. Рассматривая знакомую комнату, я заметила, что картина, которой я так восхищалась, прикрыта восточной материей, вышитой золотыми нитями и шелками разных блестящих цветов. На рабочем мольберте стоял большой квадратный холст, уже подготовленный, как я решила, для того, чтобы запечатлеть на нем мои черты. Утро выдалось невероятно теплым, и, хотя окна и стеклянные двери оранжереи широко отворили, воздух мастерской показался мне очень душным. На столе я заметила искусный графин из муранского стекла, в котором соблазнительно поблескивала прозрачная вода. Поднявшись со стула, я взяла с каминной полки старинный серебряный кубок, наполнила его прохладной жидкостью и уже собиралась отпить, как вдруг кубок вырвали у меня из рук, а слух мой поразил голос Челлини – обычно спокойный, он вдруг стал внушительным и властным.
– Не пейте, – сказал он. – Вы не должны! Вы не посмеете! Я запрещаю!
Я смотрела на него в немом изумлении. На его бледном лице от едва сдерживаемого негодования сверкали большие темные глаза. Мало-помалу ко мне возвращалось самообладание, и я спокойно сказала ему:

