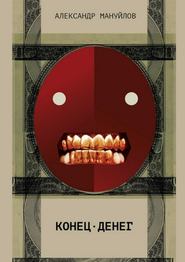
Полная версия:
Конец денег
Денежное мышление находится в образно-знаковой системе, но результаты его активности выражаются не в продуктах творчества (наука, религия, искусство), способных обобщить познавательный опыт человечества, а в воспроизводстве знаковых ценностей, вернее, в смещении функций денег из сферы применения в сферу теории, то есть обозначения. Отныне не ценности являются основой денег, а денежное мышление порождает ценности. Деньги больше не величина, они превратились в функцию. Теперь они выражаются не конкретной суммой, а в виде акций, ценных бумаг, информация постоянно меняет величину, стоимость денег – константу в недавнем прошлом. В действительности денежное мышление обнаруживает в себе законы, по которым действует современная экономика (к примеру, закон конкуренции, стоимости). Деньги – это представление, воспроизводство того, что в наличии, что уже известно, но в то же время они – воображаемое, специфика которого заключается в перманентном отчуждении. Субъект идентифицирует себя не только через другого, но и через денежный знак, который позволяет ему произвести ложную самоидентификацию, оказаться в мире упрощенных явлений, которые по природе своей иллюзорны. Речь идет о смещении механизма идентификации: когда предметом подражания становится не модный тренд, а возможность его приобрести или соответствовать ему, наличие средств становится более модным и значимым, чем цель, ради которой они зарабатываются. Происходит познание и осмысление мира через деньги, через те возможности, которые они дают. Пространство денег продолжает расширяться, занимая все большую территорию в социуме. С этической точки зрения деньги не соответствуют моральному закону, о котором говорит Иммануил Кант:
«Осуществление морального блага предполагает согласие между чувственно воспринимаемой природой (следующей своим законам) и сверхчувственной природой (следующей своему закону)»43.
В качестве чувственно воспринимаемой природы может выступать желание блага, которое скрывается за понятием «деньги», но сверхчувственная природа – это субъективный эффект морального закона, стремление содействовать высшему благу практически, что предполагает возможность его наличия. Идея экономического изобилия стимулирует данный закон, предлагая изобилие наличия, но не изобилие владения. По сути, деньги участвуют в этом процессе, формируя свою собственную этику. Описанный Максом Вебером в книге «Протестантская этика и дух капитализма»44 предприниматель-протестант отличается скромностью в потребностях, трудолюбии, но самое главное – любовью к деньгам как факту, то есть деньги зарабатываются ради денег, а не ради возможностей. Необходимость – единственная объективная категория, вытесняется целью, которая в свою очередь нарушает логическую цепочку, хронологию мысли: не деньги ведут к цели, а цель ведет к деньгам. Подобный подход формирует благоприятные условия для потери контроля над деньгами, выделения их собственного механизма управления субъектом. Во-первых, человек вынужден постоянно определять собственное положение к окружающему миру посредством количества денег, которые есть у него в наличии, что характеризует деньги как идентифицирующее звено, и именно с этого момента вступает оппозиция свое/чужое, выходящая за рамки любой этики. Желание овладеть наибольшим количеством знаков (атрибутов) действительности выходит на первый план в системе потребления современного общества. Как раз в данном случае субъект воспринимает себя через власть над знаком, который он приобретает и транслирует в социуме, а главный катализатор производства знаков – деньги (престижная недвижимость как знак, предпочтение товарам определенных фирм, обозначающих эксклюзивность, соотносящую субъект с определенной социальной группой). Во-вторых, деньги обладают обширной символикой, охватывая как чувственные единства, впечатления, так и зону принадлежности (социальной), статуса. В этом смысле выбраться из плена символа практически невозможно, потому как он является продуктом культуры, активно взаимодействовавшей с деньгами на протяжении многих эпох (к примеру, глобализация, использующая экономику для захвата территории и пространства культуры, начиная с архаических цивилизаций (межплеменной торговли и обменом), Древнего Китая, Римской империи и заканчивая сегодняшней активностью крупнейших корпораций). В-третьих, деньги работают как ассоциации, воображаемое, что, с одной стороны, мотивирует, но, с другой стороны, выстраивает иллюзорный мир, который охотно питается социальными мифами и рекламой, многократно воспроизводящей каждый из них. Основой этики денег является принцип дистанцированности, отчуждения. Они в равной степени удалены от материальных и эмоциональных форм выражения (того, что можно купить на них), поскольку являются универсальной единицей обмена, но в то же время создают дистанцию между реальным и воображаемым, между финансовыми мирами субъектов из разных групп (банкир, медсестра и т. д.) как в их сознании, так и в действительности, что и отличает их от других критериев дифференциации (происхождение, уровень образования и пр.), отвечающих чаще всего требованиям одного из параметров. Например, когда речь идет об идеологии, которая реализуется в основном теоретически, и лишь затем малая часть идей осуществляется на практике, соединяя реальное и воображаемое, деньги являются постоянным связующим звеном между воображаемым и реальным, наиболее быстрым способом увеличения дистанции между ними.
Обращая внимание на функцию денег в социуме, стоит отметить, что деньги – это общественная единица, требующая постоянных ответных действий и реакции от субъекта. В этой функции с деньгами сопоставим язык, носителем которого может быть один человек, но применение языка становится невозможным в такой ситуации, как и использование денег, когда отсутствует вариант обмена (деньги/товар, деньги/услуга). Любой денежный вклад предполагает эффективность, то есть ответную реакцию в виде прибыли; простая покупка в магазине требует ответного действия – обмена товара на денежные средства, выраженные наличными, чеком, кредитными или электронными деньгами. Этот принцип в большей степени объединяет людей, потому как построен на потребности. Однако выйти из него невозможно, даже если минимизировать собственные потребности, так как данный процесс неизбежно захватывает каждого, кто становится частью общества (что мы видим и на примере языка). Вне зависимости от того, на что идут деньги, какие цели преследуются, будь то коммерция или благотворительность, схема материального обмена (возможно, обмена услугами, за которыми, по сути, стоят те же деньги, они просто не материализуются в определенной ситуации) не меняется глобально, как остаются неизменными и механизмы смены политических сил в поле власти.
Рассматривая деньги как абстракцию, отвлеченный знак, реализуемый посредством обмена, нельзя забывать, что, как и любая абстракция, деньги не имеют точного значения, лишь формальное числовое, они подвержены прямому воздействию некоторых субъектов (наиболее влиятельных), корпораций и правительств, которые реализуют конкретные интересы (к примеру, центробанки), находясь в дискурсе власти и знания о ней. Современная демократия стирает грань между финансами и политической властью, ставит знак равенства между ними (лоббизм в США, избирательные кампании в России). Взаимная конвертируемость денег и власти очевидна. Но, в отличие от власти, деньги могут быть посчитаны (измерены) точно для достижения определенной цели, в то время как политическая власть всегда сохраняет потенциал (строго говоря, в этом и есть ее сила), а значит, она никогда не реализуется на 100%, даже если речь идет о тоталитарном режиме, иначе это означало бы ее неизбежный конец (тоталитарное общество распадается, когда власть достигает своего максимума, все пространство уже захвачено, она лишена потенциала; к примеру, режим Франко в Испании, Гитлера в Германии, Сталина в СССР). Но репрессивность языка в значительной степени отличается от репрессивности денег, так как деньги – это прежде всего условие возможного существования пространства для реализации политической власти, а язык – природное явление, ориентирующее политическую власть на взаимопонимание (за исключением внеязыковых посредников), заставляя говорить как управляющего, так и подчиненного, потому как молчание – это внутренний язык, который распространяется вовне, но он недостаточен для активной коммуникации. Парадоксально: при этом уменьшается степень репрессивного давления политической власти, которая тоже должна говорить и не может молчать. Но благодаря времени, языку и деньгам, политическая власть не ограничивает себя теми институтами, в которых она открыто представлена. Она активно взаимодействует со знанием (знание о самой политической власти), традициями и культурой, опираясь на триаду. А политическая система, внутри которой отсутствует добрая воля, но неизменно присутствуют в той или иной степени вполне соотносимые друг с другом язык и деньги (несмотря на то что язык имманентен, а власть, как и деньги, действует извне, не только формируя, но и заимствуя режимы и нормы поведения, тесно связанные со знанием и культурой), порождает общий репрессивный аппарат, частью которого должно стать и пространство личного времени – психологической зоны интима.
В диапазоне психики деньги представляют собой особый способ взаимодействия с действительностью, специфический взгляд изнутри, используемый психикой как инструмент мышления и неотъемлемый компонент бытия. Речь уже шла о воображаемом и проблеме самоидентификации, связанной с денежным мышлением. Но помимо отчуждения, деньги усиливают инстинкт владения (в некотором смысле либидо по З. Фрейду), но суть проблемы заключается в том, что человек овладевает не напрямую тем, чего желает, а посредством использования денег (медиатор удовольствия), что неизбежно нарушает ход процесса, так как конкретный объект желания смещается в поле денег, происходит перенос, что осложняет логику действия: человек овладевает тем, что неизвестно (деньгами). С этого момента деньги превращаются в самоцель, что является показательной тенденцией.
Возвращаясь к автономии времени, языка и денег, их реализации в пространстве, стоит отметить, что господствующее положение в той или иной сфере достигается данными феноменами в большей степени благодаря имманентному характеру развития. И степень проникновения в жизнь субъекта обусловлена тем, как функционируют данные феномены. Формально время, деньги и язык обладают схожими свойствами и функциями, позволяющими им осуществлять подобные действия. И пришло время рассмотреть подробнее эту составляющую.
Итак, одной из главных функций денег является мера стоимости. Именно она связывает объекты, конструирует причинно-следственные связи в экономическом пространстве. К примеру, «Портрет в фетровой шляпе» Ван Гога, курс доллара и последствия наводнения в скромном немецком Хафельберге. Кажется, что представлены разные поля жизнедеятельности субъекта, но каждое из них имеет свою стоимость, а значит, принадлежит пространству денег. Деньги как средство обращения – еще одна функция – наращивает свое влияние не только в сфере финансовой коммуникации, но и в повседневности. К примеру, игра в карты на деньги или уличные авантюристы, предлагающие сыграть в наперстки, не говоря уже об особой статье денежных отношений – проституции. Безусловно, это периферия повседневности в некотором смысле, однако именно в этой сфере первоначальный финансовый контакт перерастает в общение, а не наоборот (не общение приводит к финансовому взаимодействию, а финансовое взаимодействие рождает контакт). Следующей функцией денег является возможность совершить платеж. Эта функция вновь возвращает субъект в поле финансовой коммуникации, делая общение максимально формальным. В этом смысле речь идет в большей степени о западном сообществе, создавшем ряд институций (банки, электронные платежные системы и пр.), но не об африканском рынке, где продажа и покупка вещи – это целый ритуал, в определенных случаях обряд, который необходимо соблюдать. Простой обмен товара/услуги на деньги в некоторых странах является абсолютно неприемлемым оскорблением (к примеру, страны Восточной Африки, Индия и др.). Однако едва ли подобную ситуацию можно представить, когда субъект пользуется услугами банка, останавливается в гостинице или покупает авиабилет. Накопление – это главная функция денег, способствующая развитию сегодняшней макроэкономической системы с ее валютными рынками и банковским взаимодействием. Экономика постмодерна позволяет не только накапливать деньги, производя из условных 100 долларов 110, но и дает возможность покупать право на использование этих денег посредством биржи (фьючерсы, акционы и т. д.). Любопытно, что такой потенциал, как накопление, может быть и не реализован в условиях инфляции и нестабильности на мировых биржах. Наконец, мировые деньги – это еще одна функция, как бы спорно она ни называлась. Прежде всего это валюты, возможность международных торгов. Постмодернистские тенденции (тиражирование и воспроизводство знаков, отказ от реальности) проявляются как раз в рамках денежной функции: если до 1971 года по Бреттон-Вудской системе деньги были обеспечены золотым запасом (на самом деле, тоже весьма сомнительный вариант), то на сегодняшний день деньги обеспечены другими деньгами (резервными валютами), то есть помимо производительности денег к ним добавляется и фиктивное страхование (не страхование вкладов в банке).
В поле языка происходят не менее интересные процессы, отражающие его функциональность. Во-первых, это коммуникация. Нетрудно себе представить, что, не зная языка, общаться значительно сложнее: в результате акт коммуникации становится достаточно примитивным. Эта функция схожа с функцией денег как средства обращения, потому как обе они преследуют одну цель – связь между людьми, и используют при этом схожие методы – к примеру, действуют репрессивно, заставляя субъекта принять заведомо введенные правила (язык и деньги как система). Во-вторых, язык является средством передачи опыта и знаний. В первую очередь, это характерно для письменного языка, но и бесписьменные цивилизации успешно использовали устную речь для передачи необходимой информации, знаний, способствующих развитию отдельно взятой цивилизации (бесписьменные языки, такие как полабский, скифский, галльский, прусский, парфянский). Будучи средством платежа, деньги соотносятся с этой функцией языка, поскольку также воздействуют на денежный оборот и стимулируют таким образом рост экономики (стимулирование экономики через возросший объем денежной массы, который влияет на совокупный спрос). В-третьих, еще одной важнейшей функцией языка является мышление (изначально язык – продукт мышления). Благодаря языковому мышлению субъект дает оценку окружающей действительности, природе явлений и вещей, окружающих его:
«Так же как и мышление, язык составляет какую-то сторону (элемент) общественной деятельности человека и не может быть отделен от ряда других сторон этой деятельности, в частности от мышления и процессов общения: определенные звуки, письменные знаки и движения могут быть и являются знаками языка лишь тогда, когда в них выражены определенные мысли и они служат целям взаимного общения. Так же как и мышление, язык не может быть реально отделен от других сторон общественной деятельности человека, но в то же время в отличие от мышления, во всяком случае с какой-то одной стороны, как система субстанциальных знаков, как субстанциальные изменения, язык представляет собой нечто доступное непосредственному восприятию»45.
Это сложный фундаментальный аспект языка, который соотносится с деньгами как мерой стоимости. Именно при помощи денег происходит сопоставление тех или иных вещей, услуг, даже событий, так они становятся полноправным эквивалентом. Ко всему прочему возникает и меновая стоимость. В-четвертых, язык как средство хранения опыта (возможность фиксировать определенные достижения, события) вполне сопоставим с деньгами, выполняющими функцию накопления. В обоих случаях этот потенциал, который может быть реализован в зависимости от условий и процессов, возникающих в данный момент. В-пятых, мировой язык абсолютно аналогичен мировым деньгам, это идентичная функция языка и денег. Именно схожие цели и реализация этих функций максимально сближают их, однако пространство денег значительно расширилось за последние десятилетия, что привело к захвату территории в пространстве языка и личного времени. Во многом мировые деньги выступают в роли мирового языка, потому как язык – это инструмент, который используется как социально-политическая категория, обслуживающая финансовый сектор отношений между субъектами, но благодаря ощутимому влиянию экономики на политику, а в условиях современной цивилизации именно экономика управляет политикой, деньги не столько подтверждают основу власти, как делает это язык (к примеру, новояз 20-х годов в Советском Союзе), сколько формируют ее. Таким образом деньги, будучи искусственным изобретением, плодом человеческого интеллекта, постепенно начинают формировать новые пространства посредством своих функций, в то время как язык, будучи естественным следствием развития природы субъекта, начинает терять свои позиции, во многом, по причине глобализации – еще одном денежном механизме. По статистике, к концу XXI века в мире останется около половины существующих сегодня языков46.
Стоит отметить и еще один факт – деньги, как и язык, являются активом, однако язык достается субъекту бесплатно (речь идет о родном языке), в отличие от денег, которые не принадлежат априори субъекту. С этой точки зрения нагляден пример того, как оценивается тот или иной актив в обществе. Инстинкт – один из наиболее парадоксальных феноменов в человеке. С одной стороны, его ценность принижается, потому что это знание не является приобретенным, а заложено в нас с рождением, с другой стороны, инстинктам невозможно научиться, их можно только развить. Еще одним фактором, объединяющим язык и деньги, является наличие определенных групп населения, сообществ, имеющих как свой язык, так и собственные альтернативные валюты (профессиональные языки, к примеру, язык шахтеров, журналистов; языки субкультур, к примеру, хипстеров; валюта Time Dollars, Community Service Dollars, LETS и др.). Тем не менее в обоих случаях речь не идет о создании другого языка или принципиально новых платежных средств (на смену денег приходит другой эквивалент), и специфические языковые отклонения, и новые валюты так или иначе вписаны в текущие процессы, контекст развития цивилизации и остаются как частью языковой системы (речь об одном и том же языке), так и валютной. Индивидуальность языка, впрочем, как и индивидуальность денег, недостижима, потому как каждый субъект с рождения вынужден интегрироваться в систему законов, созданных еще до его рождения; он вынужден отказаться от своей индивидуальности, чтобы выжить.
«Язык, согласно формуле Вайнрайха, это по существу „неоднородная реальность“. Нет материнского языка, но есть захват власти языком, доминирующим в политическом многообразии. Язык устанавливается вокруг прихода, епархии или столицы»47.
В некотором смысле это проявление фашизма, о чем говорил Р. Барт при вступлении в должность заведующего кафедрой литературной семиологии в Коллеж де Франс48. И даже художественный текст, экспериментальный по своей сути, сохраняет связь на разных уровнях с общепринятым и общеупотребляемым языком. Существует большое количество языковых экспериментов, многие из которых можно отнести к шедеврам мировой литературы (например, «Поминки по Финнегану» Д. Джойса). Но начать стоит с хрестоматийного примера академика Л. В. Щербы:
«Гло́кая ку́здра ште́ко будлану́ла бо́кра и курдя́чит бокрёнка»49.
Эта фраза составлена по всем принципам грамматики русского языка, только корневые морфемы заменены на бессвязные сочетания звуков. Однако общий смысл фразы все равно понятен: некое субъект женского пола что-то делает с другим субъектом мужского рода, а затем делает еще что-то с его детенышем. Подобные попытки создать фразы на индивидуальном языке принадлежали и Льюису Кэрроллу в «Алисе в Зазеркалье», лингвист Чарльз Фриз и Генри Аллан Грисон активно экспериментировали с языковой структурой. Людмила Петрушевская в цикле лингвистических сказок «Пуськи бятые» исследует языковые границы грамматики и смыслов. Это пример утопии – языковой индивидуальности, доведенной до предела:
«Сяпала Калуша с калушатами по напушке. И увазила бутявку, и волит:
– Калушата! Калушаточки! Бутявка!
Калушата присяпали и бутявку стрямкали. И подудонились.
А Калуша волит:
– Оее! Оее! Бутявка-то некузявая!
Калушатa бутявку вычучили.
Бутявка вздребезнулась, сопритюкнулась и усяпала с напушки.
А Калуша волит калушатам:
– Не трямкайте бутявок, бутявки любые и зюмо-зюмо некузявые. От бутявок
дудонятся.
А бутявка волит за напушкой:
– Калушата подудонились! Калушата подудонились! Зюмо некузявые! Пуськи бятые!»50В качестве успешно интегрированной индивидуальности в общеупотребляемый язык можно привести пример авангардной поэзии начала XX века. Футуристы совершили попытку создать новый язык, но часто за основу брали старорусские корни. Велимир Хлебников активно использовал в своем творчестве изобретенные слова, придававшие нормативному языку определенную индивидуальность: «свиристели», «времиреи», «поюнна», «вабна» и т. д.
Там, где жили свиристели,Где качались тихо ели,Пролетели, улетелиСтая легких времирей.Где шумели тихо ели,Где поюны крик пропели,Пролетели, улетелиСтая легких времирей.В беспорядке диком теней,Где, как морок старых дней,Закружились, зазвенелиСтая легких времирей.Стая легких времирей!Ты поюнна и вабна,Душу ты пьянишь, как струны,В сердце входишь, как волна!Ну же, звонкие поюны,Славу легких времирей!51В поэзии Игоря Северянина, к примеру, встречаются неологизмы, связанные с грамматическими экспериментами: «осенокошен», «онебесен», «онездешен» и пр.
В осенокошенном июлеИюль блестяще осенокошен.Ах, он уходит! Держи! Держи!Лежу на шелке зеленом пашен,Вокруг – блондинки, косички ржи.О небо, небо! Твой путь воздушен!О поле, поле! Ты – грезы верфь!Я онебесен! Я онездешен!И бог мне равен, и равен червь!52Стоит отметить, что подобные эксперименты характерны в основном для художественной речи, реже для науки, хотя каждый субъект в определенной степени внедряет собственные слова в речь, но это лишь малая часть его речи, в лучшем случае два-три десятка слов. Полноценно применить такой язык в обществе практически невозможно, потому как язык принадлежит одновременно всем (носителям) и каждому в отдельности, тогда как деньгами можно обладать только как потенциалом (возможность приобрести товар, услугу), в остальном они также принадлежат всем субъектам (например, белорусский рубль). К примеру, если валюта не котируется, то есть ее не признает определенная банковская система, как и не понимают язык, на котором разговаривают в определенном закрытом сообществе, она «умирает» (такой же процесс происходит и с языком), потому как не является общепризнанной. Данный процесс происходит вне зависимости от субъекта, который владеет языком, и которому принадлежат деньги, это слом в развитии валюты и языка, когда в их поля вмешивается власть, политика и экономика, что приводит в необратимым последствиям. Подобная схема реализуется и в репрессивной модели глобализации, способствующей исчезновению целых этносов (на грани исчезновения находятся каро в Африке, калам в Папуа-Новой Гвинее, гороко в Индонезии и др.). В некоторых случаях политическая и экономическая элита пользуется своим положением и присваивает язык, определенную валюту, либо создает новую. Например, глаголица вместо кириллицы как тайнопись53, валюты банкиров Италии XIII века, которые позднее вошли в обращение. Но в целом это касается лишь отдельно взятых языков и валют. Однако поле языка, как и поле денег, по-прежнему остается влиятельным, масштабы их распространения и роль остаются определяющими в жизни субъекта. И если носителем языка является лишь один человек, он исчезает, если валюта не ликвидна, она также выходит из оборота. Впрочем, с деньгами ситуация несколько отличается. Допустим, что товарообмена не существует, – необходимость в деньгах пропадает. В этом случае не важно, кто обладает деньгами (потенциалом), каким объемом. Подобная ситуация маловероятна, особенно в текущих условиях информационного взаимодействия между субъектами и государствами, зато она показательна.
Помимо схожих функций, деньги и язык обладают и определенными производными функциями, которые легко соотносятся друг с другом. Их можно обозначить как свойства, которые отвечают за то, как реализуются те или иные задачи в условиях конкретных экономических, политических и социальных процессов. Одной из главных производных функций денег является информационная функция. Она полностью реализуется в рамках экономического поля и действует на уровне банковской системы. Речь идет о центробанках, которые контролируют количество денег и пытаются влиять на скорость их обращения. По сути дела эта производная функция денег позволяет осуществлять в определенных пределах контроль над механизмом их распространения и распределения, однако сам механизм является частью поля денег, которые давно вышли из-под контроля институций (технология и изобретатель, ч. I, гл. II), и причина не в том, что количество инстанций численно увеличивается или улучшается их работа, дело в том, что деньги, будучи искусственным явлением человеческого интеллекта, его изобретением, постепенно начинают автономно развиваться, точно так же, как это происходит и с языком, который имманентен, а большинство языковых реформ, сводов правил, выпускаемых Академией Наук, являются лишь средством, влияющим в незначительной степени на язык и скорее зависящим от него, но не наоборот. В качестве примера можно привести архаизмы, тенденцию большинства языков к аналитизму и со временем меняющиеся грамматические правила. Язык наделен схожей производной функцией – функцией регулятора. В основном она направлена на осуществление контакта, на побуждение и запрет к действию, установление оппозиции власть-подчинение. Эта функция регулирует взаимодействие между носителями языка, позволяет определить роли в диалоге. Во многом она является основой социального дискурса, потому как способствует распределению ролей между субъектами (к примеру, национальный язык способствует формированию социума, в том числе в среде эмигрантов). Обе функции основаны на попытке регулировать развитие действительности, будь то языковая или финансовая реальность. Производительная функция денег влияет прежде всего на обращение денег и задействует их серьезное преимущество – ликвидность (учитывая, что возможно и накопление). Деньги не требуют серьезных ресурсов и снижают число оценочных операций, как средство накопления максимально ликвидны. К тому же деньги – общая счетная единица. С точки зрения производных функций языка с ней коррелирует номинативная функция. Эта функция является означающим, она соотносит вещи со словами (предметы называются словами), способствует накоплению субъективных знаний об объективном мире, которые в свою очередь со временем становятся объективными, после того как получают подтверждение в сообществе субъектов. Можно сказать, что данный актив также весьма ликвиден, но естественным образом уступает деньгам в этом компоненте. Данная функция, иными словами, способствует производству смыслов и их распространению. Означающее становится масштабнее означаемого. Эта языковая функция напрямую соотносится с регулирующей функцией денег, в рамках которой, к примеру, реализуется бюджетно-налоговая политика государства или денежно-кредитная (монетаризм). Сеньоражная производная функция денег стоит особняком, поскольку деньги изначально требуют монополизации производства, сами по себе являясь монополией центробанка, в то время как язык – это монополия коммуникации (в данном случае речь идет о глобальном понимании языка – язык программирования, язык символов и т. д.). Две производные функции языка в том числе находятся в стороне: экспрессивная функция отображает субъективное представление субъекта об окружающей действительности, следствием чего является художественная речь (индивидуализация языка); эмотивная функция языка позволяет говорящему или пишущему выражать отношение к тому, что он говорит, пишет (интеллект и воля). Данные функции сложно сопоставить с деньгами, потому как они репрезентируют индивидуальные проявления субъекта, а деньги приобретают индивидуальность лишь тогда, когда становятся потенциалом в руках того же субъекта. Тем не менее существует еще одна важная параллель между производными функциями языка и денег – институциональная функция. В языковом плане она связана с национальными государствами, этническими группами внутри этих государств, объединенными между собой языком. Он не столько объединяет этнос по формальным признакам (языковое, территориальное, экономическое единство; к примеру, на языке могут говорить и другие народности, как в случае с испанским или английским языком), сколько формирует национальное самосознание. В отношении денег данная функция в свою очередь способствует объединению жителей тех или иных стран (национальные валюты), в том числе отражает политическую и экономическую ситуацию в регионе (формирование и развитие денежного обращения, сыгравшего важную роль в становлении демократии в Древней Греции, когда гражданин получил высокий уровень свободы выбора; выпуск государственных монет в Древней Греции). И в результате схожих закономерностей функционирования рождается совершенно новый язык – язык денег, которому Борис Гройс посвятил статью с одноименным названием54. Деньги, согласно Гройсу, обеспечивают внутреннее единство современного мира, заменяя собой в определенном смысле религию. Все это становится возможным благодаря одной из функций денег – меры стоимости.

