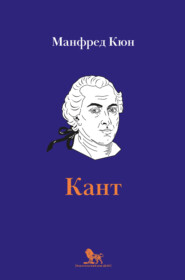
Полная версия:
Кант. Биография
Эмануилу богословие давалось не слишком легко – по крайней мере, создается такое впечатление. В Пасху 1735 года, в начале третьего года в школе, он ходил в третий класс по латыни и по греческому и только во второй по арифметике и религии[155]. И все же, хотел он того или нет, он прошел серьезную подготовку по богословию, прежде чем покинуть школу. Поскольку у него была невероятно хорошая память вплоть до последних лет жизни, можно предположить, что он никогда не забывал доктрин, которые вбили в него в самом ее начале.
Другие уроки тоже велись в интересах религиозного образования. Это справедливо в особенности для древнееврейского и греческого. Что касается древнееврейского, которому учили в трех классах, то от учеников ожидали, что они прочитают Пятикнижие Моисея, а также исторические книги и псалмы Давида. Четвертый и пятый год греческого были посвящены не только повторению грамматики, но и чтению Нового Завета. Только после прочтения целиком всего Нового Завета на греческом учеников знакомили с классическими греческими авторами. При этом они учились по «Хрестоматии» Иоганна Матиаса Геснера (1691–1761), впервые вышедшей в 1731 году. В ней содержались выдержки из Аристотеля, Секста Эмпирика, Геродота, Фукидида, Ксенофонта, Теофраста, Плутарха, Лукиана и Геродиана. Ученики также читали кое-что из Гомера, Пиндара и Гесиода. Хотя они таким образом и получали некоторое представление о классической античности, главный упор ставился все-таки на богословие.
Основой обучения во Фридерициануме была латынь[156]. Ученики не просто проводили большую часть времени, изучая латинский язык, это была самая важная дисциплина. Всего было шесть классов латыни, занимавших до 18 часов в неделю на начальных годах обучения и до шести на последних. На большинстве из этих уроков внимание уделялось словарному запасу, спряжению, склонению и правилам грамматики. К третьему году от учеников ждали, что они будут читать Корнелия Непота, на четвертом году всего Непота повторяли и читали что-то из Цицерона и поэзии. На пятом году читали Цезаря и снова Цицерона, на шестом – Цицерона (De officiis, среди прочих работ), Мюре, Курция и Плиния. Большое внимание уделялось устной речи и навыкам письма на латыни. Поэтому в двух старших классах ученикам разрешалось говорить друг с другом и с учителями только на латыни.
Эмануилу легко давался латинский, и те, кто знал его тогда, думали, что он изберет античную литературу для дальнейшего изучения. Рункен говорит, что с Пасхи 1739 до сентября 1740 года его самого больше интересовала философия, а Эмануила – античность[157]. Эмануил и Давид вместе с Иоганном Кунде (1724/1725-1759), еще одним другом, читали классических авторов после уроков, восполняя тем самым скудный школьный список чтения. Рункен, у которого было больше денег, чем у двух его бедных друзей, покупал книги. Уже подумывая о писательстве, они хотели назваться латинизированными именами: Кантиус, Рункениус и Кундеус[158]. Кант остался высокого мнения о древних авторах и читал их всю жизнь. Сенека и, возможно несколько неожиданно, Лукреций и Гораций оставались его любимыми авторами, но и других латинских классиков он знал хорошо. Боровский и другие рассказывали, что даже в старости Кант цитировал по памяти длинные отрывки из своих любимых произведений[159]. Греческой литературой он интересовался меньше. В его опубликованных работах можно найти всего несколько греческих слов, и он никогда не пользовался греческим в эпиграфах своих книг. Это не означает, что он не умел читать по-гречески. Не означает это и того, что он не интересовался греческой философией. Совсем напротив. Как мы увидим, именно открытие заново греков и их философского наследия помогло ему прояснить собственные взгляды в решающий момент его философского развития.
Неудивительно, что любимым учителем Канта был тот, кто научил его латыни. Его звали Иоганн Фридрих Гейденрейх[160]. Ничего не говоря о других учителях, Кант хвалил Гейденрейха даже под конец жизни. Этот «хороший человек» не только укрепил любовь Канта к классическим латинским авторам, но во многом именно благодаря ему Кант хорошо знал античность. Кроме того, Кант был благодарен ему за то, что тот старался научить его ясно мыслит[161]. Когда Кант впоследствии жаловался, что лучше было бы, если бы в школе учили «духу», а не просто «фразам» древних авторов, он говорил вовсе не о Гейденрейхе. Этот учитель был для Канта близок к идеалу и вдохновлял его и его друзей изучать латинских авторов даже вне уроков.
Были еще уроки географии и истории, но они не были столь важны. Более того, поскольку на уроках истории изучали по большей части историю Ветхого и Нового Заветов, ученикам они казались продолжением религиозного обучения. Каллиграфия, искусство красиво писать от руки, кажется, не входила в число любимых предметов Канта. Это был единственный предмет, где его перевели из более высокого года обучения на более низкий.
Французский не был обязательным предметом. Ученики могли изучать его по выбору на трех дополнительных занятиях по средам и субботам. Кант так и сделал. Перед учителем не стояло задачи научить учеников бегло говорить по-французски, но они могли научиться довольно неплохо читать любого французского писателя. Таким образом, мы можем предположить, что Кант умел читать по-французски и понимал устную речь, даже если говорил он, возможно, не так хорошо[162]. Примечательно, впрочем, что Кант записался на французский, ведь за него надо было платить отдельнц[163]. Английский не входил в учебную программу. На самом деле, даже в Кёнигсбергском университете он стал отдельной дисциплиной значительно позднее, чем Кант начал там учиться. Поэтому маловероятно, чтобы Кант где-то формально обучался английскому. Он, наверное, мог бы расшифровать, о чем идет речь в том или ином англоязычном пассаже, но действительно прочесть его – вряд ли.
Арифметика тоже считалась не столь важной, как латынь. Было всего три класса, и они не выходили за пределы элементарных основ. Mathesis, более продвинутая математическая дисциплина, тоже была по выбору (и за нее тоже надо было платить отдельно). Она была построена так, чтобы познакомить учеников с основными принципами математики в виде арифметики, геометрии и тригонометрии. На уроках использовался учебник Вольфа Auszug aus den Anfangsgründen aller mathematischen Wissensch («Выдержки из первых начал всех математических наук»)[164]. От учеников не ждали особых успехов в этой дисциплине, поэтому учителей просили только проследить, чтобы ученики научились понимать, доказывать и решать все «самое важное». Учитель должен был дать им «представление о математическом учении, чтобы их рассудок был подготовлен и натренирован для изучения других наук»[165]. И даже этот уровень, по-видимому, был выше того уровня, которого можно было ожидать от студента-богослова. Благодаря этим урокам Эмануил знал математику лучше, чем средний ученик в Пруссии, но его начальное образование по этой дисциплине значительно отставало от более поздних стандартов.
То же самое можно сказать и о философии. Хотя это был обязательный предмет, а не факультатив, кажется, его преподавали только один год. Если считать школьную библиотеку для учителей показателем того, чему учили в классе, то эта дисциплина была полностью вольфианской по взглядам. Философия была одним из уроков, где ученикам позволялось «вступать в спор» друг с другом. Как бы то ни было, сам Кант позже сказал одному из школьных друзей (Кунде): «Эти господа не смогли раздуть пламя из той искры, что тлела в нас к философии или к математике» – на что его друг, говорят, ответил: «Но им неплохо удавалось ее задуть»[166].
Образовательный дух этой школы хорошо подытоживает утверждение ее директора Шифферта: «повторение – это душа учения: чтобы то, что однажды было выучено, уже никогда не забылось». Специально для повторения выделялись еженедельные классные часы; каждый урок начинался с повторения материала, изученного в прошлый раз. За три недели до экзаменов повторяли весь материал, изученный за полгода. Шифферт считал, что если что-то повторить три раза, то это «твердо запечатлится в памяти»[167]. Вероятно, он был прав, но едва ли уроки от этого становились увлекательнее. Кант много позже одобрил такой подход, утверждая, что «культура памяти очень важна» и что мы знаем столько, сколько удерживаем в памяти. Не был он против и механических методов заучивания слов и другого материала[168]. Впрочем, он считал, что «нужно взращивать понимание» и что «знать, что» постепенно должно связаться со «знать, как». Он считал, что лучше всего для этого подходит математика. Поскольку во Фридерициануме не очень хорошо учили математике, можно предположить, что он едва ли думал, что школа преуспела в обучении пониманию.
Пиетисты не были противниками телесных наказаний, но и не считали их лучшим способом дисциплинарного воздействия на детей. Как отмечает Мелтон, дисциплина «в школах Франке была относительно мягкой для тех дней. Теория наказания Франке отражала усилия пиетистов по субъективизации принуждения, переводу его извне вовнутрь индивида». Пиетисты уделяли большое внимание «интроспекции как инструменту развития самодисциплины»[169]. Во Фридерициануме каждый ученик, шедший на причастие, был обязан заранее «составить отчет о состоянии своей души». Этот отчет сдавали одному из надзирателей, и тот проверял, готов ли ученик к причастию. Если этого было недостаточно, ученику велели принести надзирателю запечатанный отчет от учителей, где излагалось, существуют ли проблемы, которые не позволяют допустить ученика к причастию[170]. Если отчеты учителя и ученика заметно отличались, ребенку делали выговор.
Взрослый Кант питал откровенную неприязнь к того рода интроспекции, которой обязаны были заниматься ученики. Он утверждал, что подобное «наблюдение за собой» или такое «методическое сопоставление воспринятого нами в самих себе, дающее материал для дневника человека, наблюдающего за самим собой, легко может привести к энтузиазму и безумию»[171]. Несомненно, его отвращение к такому самонаблюдению отсылает к тому самому времени принудительных докладов о «состоянии души».
В идеале задачей было научить учеников самодисциплине, но на практике, по всей видимости, дела обстояли совершенно иначе. Один из первых биографов Канта, Иоганн Кристоф Мортцфельд, говорит о «свинцовой атмосфере наказания», царившей во всей школе[172]. Сам Кант подтверждает этот факт, когда рассказывает Яхману, что все его учителя, за исключением одного, пытались поддерживать дисциплину тем, что были очень строгими, но им этого не удавалось[173]. Поскольку Кант был трудолюбивым и старательным и почти всегда заканчивал класс как Primus (учеником с самыми высокими оценками), его, вероятно, наказывали не часто[174]. Однако если, например, он не мог по указанию учителя достать учебники, потому что забыл их, когда остановился поиграть, его, вероятно, каким-то образом наказывали[175]. Позже он расскажет историю о том, как «когда он еще был школьником, один нахальный мальчишка подошел к инспектору Шифферту и спросил его: это школа пиетистов? Услышав это, инспектор основательно его поколотил, ответив: теперь ты знаешь, где школа пиетистов»[176]. Даже если к самому Канту никогда не применяли телесных наказаний, они были частью его повседневного опыта.
В то время Кант потерял мать. Она умерла за три года до того, как он закончил школу. С тех пор они с сестрами и братом могли положиться только на отца. К «свинцовой атмосфере» в школе прибавился не слишком радостный климат дома. Неудивительно, что Кант не любил вспоминать школьные годы.
Под конец учебы в школе Эмануил был отлично подготовлен к тому, чтобы пойти на курс обучения богословию, праву, философии или античной литературе. Хотя теоретически он мог бы учиться медицине или естественным наукам, он не был достаточно подготовлен к этим дисциплинам и не получал для этого поддержку в школе. С другой стороны, Фридерицианум хорошо подготовил его к жизни в Пруссии XVIII века, обеспечив надежным фундаментом для карьеры в лютеранской церкви или в прусском государстве при Фридрихе Вильгельме I.
К критическому или независимому мышлению Канта побудило не образование. Оно было типичным для своего времени, но во Фридерициануме, вероятно, уделялось больше внимания послушанию и дисциплине, чем в аналогичных школах в других немецких землях. Одним из главных идеалов пиетистского образования было культивирование самодисциплины. Пиетисты стремились подчинить не только тело, они хотели управлять умом, прививая определенные религиозные и моральные принципы. В конечном счете их целью было «обратить» учеников из «детей мира» в «детей Бога». Ради этого они считали необходимым тренировать не только их разум, но и волю. Кроме того, Франке, вдохновивший пиетистов Кёнигсберга в их образовательных практиках, считал:
…прежде всего, необходимо сломить природное своенравие ребенка. Учитель, который пытается сделать ребенка более образованным, заслуживает похвалы за взращивание его способности понимания, но этого недостаточно. Он забывает о самой важной задаче: подчинить волю[177].
Может казаться противоречивым, что добровольного обращения можно добиться, сломив своенравие ребенка, но в глазах пиетистов это не выглядело противоречием. Они рассматривали этот слом лишь как первый шаг в так называемой Bußkampf (борьбе покаяния) по направлению к Durchbruch (прорыву). Соответственно, религиозные взгляды, которые школа пыталась привить ученикам, были несколько необычными. Все другие школы того времени тоже уделяли большое внимание формальной стороне религии, но не требовали того рода пиетистской убежденности, которой желали добиться некоторые кёнигсбергские пиетисты.
Неудивительно, что Кант хорошо понимал эту сторону их взглядов – и отвергал ее целиком. Это была «гипотеза», что
…водораздел между добром и злом (то, чем амальгамирована природа человеческая) происходит с помощью сверхъестественной операции сокрушения и надрыва сердца в покаянии, то есть граничащей с отчаянием и достигающей необходимой степени лишь с помощью небесного духа скорби, о которой человек сам должен молить, сокрушаясь о том, что он все еще недостаточно страдает[178].
Это отвращало Канта. Он считал это лицемерием, поскольку горевание и раскаяние в конечном счете не являются ответственностью того, кто должен быть обращен. Ему казалось невозможным то, что, как считалось, должно было привести к радикальному обращению, отличающему истинного христианина от христианина лишь на словах. Следуя этой гипотезе, мы никогда не можем знать, действительно ли мы обращены, потому что это предполагало бы знание непознаваемого сверхъестественного воздействия. Более того, пиетиста можно отличить от других людей по тому, что он целиком и полностью во всем полагается на Бога и отказывается от любой нравственной автономии. В то же время пиетист склонен проявлять некоторую ложную гордость, как тот, кто принадлежит к немногим «избранным», к тем, кто будучи детьми Божьими, спасен и составляет христианскую элиту. Зрелый Кант отрицал оба аспекта образа жизни пиетистов. Первый был для него проявлением «рабского (knechtische) состояния духа»[179]. Второй оправдывал в его глазах «некоторое презрение», с которым «всегда связывалось» слово «пиетизм»[180]. Неясно, думал ли он так о пиетизме уже в 1740 году, но это вполне вероятно, учитывая, что его друг Рункен писал, что они оба «стонали» от жестокой дисциплины фанатиков в 1732–1740 годах. Если пиетизм и повлиял на Канта, то только отрицательно. Возможно, именно из-за того, что он был знаком с пиетизмом, он почти полностью отрицал роль чувства в морали. Как бы то ни было, взгляды Канта на нравственность и религию выдают определенную антипиетистскую направленность. Упор Канта на автономию как ключ к морали – это и отказ от упора пиетистов на необходимость сверхъестественного воздействия на человеческую волю. Зрелая философия Канта характеризуется, по крайней мере отчасти, борьбой за легитимацию автономной морали, основанной на свободе воли, и на это также нужно смотреть как на борьбу против тех, кто стремится поработить нас, сломив нашу волю. Эта борьба началась в юности Канта, пусть даже ему потребовалось немало времени, чтобы сформулировать аргументы против тех, кто стремился к выработке раболепного состояния духа и к принижению человеческой природы как низкой по сути. Абсурдно утверждать, что пиетизм оказал большое влияние на его моральную философию[181].
Учителя Фридерицианума не сломили волю Эмануила, но это не означает, что они не пытались. Эмануил сопротивлялся давлению, которому почти невозможно было сопротивляться. Можно не сомневаться, что он реально не испытал требуемого преображения и не сделал вид, что испытал его, как многие из других учеников. «Потрясение и ужас», которые он испытывал, «вспоминая о своем рабстве в молодости», больше относились к давлению, предназначенному подтолкнуть его к обращению, чем к интеллектуальным требованиям, предъявляемым ему учителями. В том периоде его жизни таятся истоки его отвращения к молитве и распеванию гимнов и его сопротивления любой религии, основанной на чувстве и сантиментах. В этом смысле воспитание Эмануила не слишком отличалось от воспитания Фридриха II, которое тоже было охарактеризовано как «хроника страдания»[182]. Набожный, но суровый отец Фридриха хотел вырастить мужчину из женоподобного, по его мнению, мальчика, пользуясь теми же методами, что и пиетисты. Хотя обстоятельства юности Канта гораздо менее драматичны, все говорит о том, что он так же сопротивлялся обращению. Как и принц, который был на двенадцать лет его старше, Кант отвернулся от самокопания и самобичевания пиетистов к другим образцам. Эмануил нашел их в латинской классике; молодой Фридрих отыскал их в современной французской литературе. Оба отказались от религиозного образа жизни родителей.
Это одна из причин, почему Кант высоко ценил Фридриха и называл период его правления не только «временем Просвещения», но и «веком Фридриха». Как и Фридрих, он считал, что в юности с ним «обращались как с рабом», но, как и Фридриха, его не сломили. Подчиниться учителям означало бы «руководство со стороны кого-то другого» всю жизнь. Мы не знаем, сформулировал ли Кант эту мысль для себя в школьные годы, но позже он в этом глубоко убедился[183]. Он признавался, что
…каждому отдельному человеку трудно выбраться из состояния несовершеннолетия (Unmündigkeit), ставшего для него почти естественным. Наставления и предписания – эти механические орудия применения разума или, вернее, злоупотребления его природными дарованиями – представляют собой кандалы постоянного несовершеннолетия. Даже тот, кто сбросил бы их, сделал бы лишь неуверенный прыжок через небольшую канаву, так как он не привык к такого рода свободному движению. Вот почему лишь немногим удалось благодаря совершенствованию своего духа выбраться из состояния несовершеннолетия и сделать твердые шаги[184].
Кант в 1740 году был еще далек от «неуверенного прыжка через небольшую канаву», и, возможно, сама канава была не столь узкой, как ему казалось, когда он писал этот текст.
Следует добавить, что во времена молодости Канта мужчины и женщины в Кёнигсберге вели раздельный образ жизни, и атмосфера была довольно чопорной. Так, молодой женщине считалось неприличным произнести даже слово «беременная», а показывать открытую «шею, спереди или сзади» было строго verboten[185]. Образование, особенно в среде ремесленников, получали лишь мужчины. Вообще, девушки редко получали хорошее образование, их учили только самым основам чтения, письма и счета. Девиз Kinder, Küche, Kirche действительно во многом определял жизнь женщины. Соответственно, у Канта, как почти у всех его современников, редко был повод для социального взаимодействия с противоположным полом.
Кёнигсберг: «Подходящее место для расширения, знания о мире»?
Юность Канта характеризовалась разительным контрастом между любящим домом, где его поощряли и принимали, и суровой и мрачной школьной жизнью, где природные задатки по большей части подавлялись. Хотя и семья, и школа были религиозными, и более того – пиетистскими, контраст между ними был на редкость разителен. Канту повезло больше, чем некоторым его друзьям. Ему не нужно было жить во Фридерициануме, он мог сбегать по вечерам домой; и поскольку ему приходилось ежедневно преодолевать долгий путь по улицам Кёнигсберга, он узнал жизнь еще с одной стороны.
Кёнигсберг часто описывают как пустынный и изолированный «захолустный городок» Германии XVIII века или «пограничный город» Пруссии. И то и другое неверно. Кёнигсберг носил в каком-то смысле «островной» характер, будучи расположен в северо-восточном углу Пруссии возле русской границы, и ближе к Польше, чем к Западной Пруссии. И все же это был очень важный город. Основанный в 1255 году тевтонскими рыцарями, он присоединился к Ганзейскому союзу в 134° году и был столицей всей Пруссии до 1701 года. Когда родился Кант, Кёнигсберг был столицей только Восточной Пруссии, но все еще одним из трех или четырех самых важных городов королевства[186]. Там оставалось значительное число правительственных учреждений, а также большой контингент военных. Расположенный в заливе Балтийского моря, он был важной торговой точкой, связывающей всю Восточную Европу с другими морскими портами Германии и Европы. В Кёнигсберге велись дела главным образом с Польшей, Литвой, Англией, Данией, Швецией и Россией. Основными товарами из Восточной Европы были зерно, конопля, лен, поташ, дерево, деготь, воск, кожа и шкуры, а с Запада— соль, рыба, сукно, цинк, свинец, медь, специи и южные фрукты[187]. Оживленный портовый город, Кёнигсберг можно сравнить с Гамбургом и другими ганзейскими городами. Его главным соперником был Данциг.
Кёнигсберг рос на протяжении всего XVIII века. В 1706 году там проживало около 40000 жителей, в 1770 – около 50 000, а в 1786 – почти 56 000[188]. Он также оставался одним из главных урбанистических центров королевства[189]. Кёнигсберг был более прусским городом, чем большинство остальных городов Пруссии. Прусское государство все еще было слабым. В самом деле, большинство его жителей считали себя не «пруссаками», а скорее «берлинцами», «вестфальцами» или гражданами Клеве или Миндена. Кёнигсберг был исключением. Собственно говоря, единственными, кто заслуживал имя «пруссаков», были жители Кёнигсберга и окрестностей. Поскольку прусский король жил в Берлине, Кёнигсберг был теснее связан с Берлином, чем большинство других городов.
Длань короля простиралась далеко. Как можно увидеть по спору между пиетистами и ортодоксальными священниками, у Кёнигсберга были тесные связи и с Галле, и с Берлином. Более того, там находились некоторые важные учреждения Пруссии, и правительственные чиновники имели немалое влияние в городе. Фридрих Вильгельм I был набожным, но суровым монархом. Никто, кроме его армейских офицеров, не был застрахован от его палки. Он жестоко наказывал тех, кто, как он считал, плохо выполнял свой долг. Хотя Кёнигсберг был слишком далеко, чтобы действовать лично, декреты, указы и законы исполнялись здесь почти немедленно. Фридрих Вильгельм I разработал очень подробные правила почти для всего, от воспитания учеников и экзаменов в университетах до «обучения садовников, мельников, фонарщиков» и проповедников. Штрафы, которые он ввел, были иногда чрезмерными, иногда просто странными. Пастор, проповедовавший более часа, должен был заплатить два талера штрафа; любого, кто экспортировал сырую шерсть за границу, могли приговорить к виселице (потому что Пруссии был выгоден экспорт только обработанной шерсти). В 1731 году в Кёнигсберге повесили чиновника, взявшего небольшую сумму из бюджетных денег, хотя финансовое управление подало прошение о помиловании. Виселицу поставили прямо перед дворцом, дабы все чиновники могли ее видеть. Тело чиновника провисело там весь день, после чего его сняли и бросили за городские ворота на растерзание воронам[190]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Заявление было опубликовано 28 августа 1799 года. См.: Immanuel Kant, Gesammelte Schriften, 12, издание Прусской Академии наук (Berlin: Walter de Gruyter, 1902-), p. 370–371 (далее ссылки на это издание обозначаются Ak с номером тома и страницы); Иммануил Кант, “Заявление по поводу наукоучения Фихте (1799)”, в: Иммануил Кант, Собрание сочинений: в 8 томах, т. 8 (Москва: Чоро, 1994), с. 263 (далее ссылки на это издание обозначаются Собр. соч. с номером тома и страницы).



