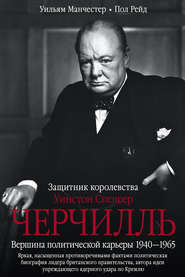
Полная версия:
Уинстон Спенсер Черчилль. Защитник королевства. Вершина политической карьеры. 1940–1965
Но самым мощным щитом в предстоящие решающие месяцы было суждено стать радару. С самого начала Даудинг был одним из сторонников радаров. Перед назначением на пост командующего истребительной авиацией он руководил научными исследованиями и внимательно следил за опытами Роберта Уотсона-Уотта, ученого из Национальной физической лаборатории. Уотсон-Уотт убедил Даудинга и его окружение, что радиолучи отражаются от корпуса самолета. Но, проталкивая идею с радаром, Даудинг занял неправильную позицию в отношении хорошего друга Черчилля, профессора Фредерика Линдемана. За что позже поплатился. В отличие от англичан немцы, рассматривавшие радар как средство разведки, поручили их разработку флоту, а там дело практически застопорилось.
Еще до войны Даудинг верил в то, что радар может стать бесценным оборонительным оружием. В 1937 году по его приказу началась работа по установке на юго-восточном побережье цепи стационарных береговых радиолокационных станций, с дальностью обнаружения порядка 50 миль и порядка 120 миль. К весне 1940 года Великобританию охватывала сетка радиолучей, как позже назвали ее англичане, «невидимый бастион» против вражеских самолетов. К счастью для британцев, Гитлер запретил расходовать средства на технологические исследования, поскольку считал, что они не будут способствовать достижению его цели – быстрой победе; к этим технологиям относился и радар. В июле 1940 года немецкий технический персонал даже не был уверен, для чего предназначены высокие башни, установленные вдоль побережья Великобритании, хотя многие подозревали, что это радарные башни. Таким образом, люфтваффе начали кампанию, не владея полной информацией.
Пятьдесят радарных станций наблюдали за небом над всем Островом, с севера Шотландии до Уэльса. Большинство станций, расположенные на восточном и юго-восточном побережье, были обращены к Северному морю и Ла-Маншу, в его самом узком месте, шириной всего в 21 милю. Передатчик, установленный на 360-футовой вышке, посылал радиосигнал в цель; обратный сигнал приходил на приемник, установленный на 240-футовой башне. Сидевший за мониторами в деревянных ангарах под вышками технический персонал сообщал по телефону информацию о расстоянии, направлении и размерах приближающихся нацистских самолетов в оперативный центр в Бентли-Прайори, где одетые в синюю униформу члены Женской вспомогательной службы военно-воздушных сил определяли местоположение самолетов на огромной настольной карте, передвигая лопаточками, какими пользуются крупье, цветные фишки, обозначавшие британские и немецкие самолеты. Офицеры Королевских ВВС радировали приказы в девять оперативных центров 11-й авиагруппы – зоны ответственности авиагрупп делились на секторы, каждый из которых имел свою базу с оперативным штабом, таким же, как и в штаб-квартире авиагруппы. Оттуда приказы радировались командирам эскадрилий истребителей. Немецкие летчики приходили в замешательство, слушая, как британские летчики получают новейшую информацию об их местоположении. Каким образом, задавались они вопросом, кто-то на земле может знать, где находятся немецкие самолеты и в каком направлении движутся? Они не понимали, что в Битве за Британию столкнулись с двумя противниками: летчиками Королевских ВВС в небе и радарными командами на земле[345].
Теперь британцы могли обнаружить самолеты противника, направляющиеся к побережью Великобритании, когда они находились еще на расстоянии 120 миль и летели на высоте до 30 тысяч футов. Поскольку волны, посылаемые радарами, отражались от земли и воды, низколетящие цели были им недоступны. Так что самолеты, приближавшиеся к Англии на малой высоте, могли пролететь незаметно для радаров. Точное вычисление времени, расстояния, набора высоты истребителя и его скорости было крайне важно и определило исход воздушного сражения над Ла-Маншем. Операторам на станциях секторов, получившим информацию из Бентли-Прайори, требовалось примерно пять минут, чтобы радировать приказы эскадрильям истребителей, а за это время немецкие истребители поднимались еще на 6–8 тысяч футов. «Спитфайру» требовалось почти пятнадцать минут, чтобы подняться на высоту 20 тысяч футов. Немцы, следовательно, имели фору порядка двадцати минут. «Практический потолок» (максимальная высота над уровнем моря, на которой возможен полет) и немецких, и британских истребителей, составлял 35 тысяч футов, а немецких средних бомбардировщиков – 26 тысяч футов. Мало того что операторы не могли «видеть» ниже определенных высот, так они еще теряли самолет из вида на огромных высотах. И все проблемы Королевских ВВС усугублялись тем, что эскадрильи люфтваффе могли за пять минут пересечь Канал в самом узком месте.
Против Королевских военно-воздушных сил готовились выступить три немецких Luftflotten (воздушный флот)[346].
3-й Luftflotten базировался во Франции, 2-й Luftflotten – в Бельгии под командованием фельдмаршала Альберта Кессельринга и 5-й Luftflotten – на территории Дании и Норвегии. Из-за расстояния, которое надо было преодолеть 5-му, и недостаточной дальности полета лучшего немецкого истребителя «Мессершмитт» Bf-109, бомбардировщики 5-го Luftflotten должны были лететь без сопровождения. Таким образом, основная тяжесть немецкого нападения пришлась на 2-й и 3-й Luftflotten, в состав которых в общей сложности входило 750 бомбардировщиков, 250 пикирующих бомбардировщиков «Штука» (Юнкерс-87), 600 истребителей Bf-109 и 250 истребителей Bf-110 с двумя двигателями. 30 июня Герман Геринг разослал свои «Общие директивы по боевым действиям люфтваффе против Англии». Это был первый шаг, кодовое название Kanalkampf («Сражение над Каналом»), в борьбе за господство в небе над Ла-Маншем – «Действуя согласованно, воздушные флоты должны воевать, используя максимум сил. Их соединения должны атаковать заранее определенные группы целей».
Над Ла-Маншем, а не там, где, как думал Хью Даудинг, будет вестись борьба. Он считал, что сражения будут происходить над Юго-Восточной Англией, в зоне 11-й группы. Немцы держали наготове гидропланы – выкрашенные в белый цвет, с красными крестами для спасения летчиков люфтваффе, сбитых над Ла-Маншем. Британские пилоты, оказавшись в воде, могли только надеяться, что британский катер или местный рыбак случайно обнаружат их, прежде чем они утонут, и многие утонули. Геринг планировал выманить в небо над Каналом «Спитфайры» Даудинга своими Bf-109, шедшими на большой высоте. Пикирующие бомбардировщики «Штука», истребители Bf-109, несущие одну 550-фунтовую бомбу, и истребители Bf.100, имевшие бомбовую нагрузку 2200 фунтов, должны были, используя тактику «ударил – убежал»[347], атаковать Королевский флот, торговые караваны и порты, в которых они останавливались.
Налеты на корабли, по его мнению, позволят выманить британские истребители под удар немецких истребительных соединений. Еженедельно по Каналу проходили торговые суда, общей грузоподъемностью миллион тонн, в сопровождении Королевского флота. Хотя Битва за Британию отложилась в коллективном сознании как первая в истории крупнейшая схватка военно-воздушных сил – а так оно и было, – цель немцев состояла в том, чтобы добиться господства над морями, добившись господства в воздухе. Цель будет достигнута в июле, обещал Геринг, подготавливая почву для операции Adlerangriff («Орлиная атака») – массированной воздушной наступательной операции с целью уничтожения военных объектов, железнодорожных узлов, портовых сооружений, складов горючего и авиационных заводов и, в первую очередь, аэродромов, расположенных на побережье Великобритании[348].
Даудинг считал, что только радары и одномоторные истребители Королевских ВВС способны спасти Англию от уничтожения. Он отдал приказ истребителям по возможности избегать стычек с немецкими истребителями и сосредоточиться на большей опасности, которую представляли собой немецкие бомбардировщики. Этой тактики удержания в небе «Спитфайров» и «Харрикейнов» предстояло придерживаться до осени, когда ухудшение погодных условий исключило любую возможность морского наступления нацистов через Канал.
Операция Kanalkampf началась 10 июля, когда двадцать немецких средних бомбардировщиков в сопровождении порядка двадцати двухмоторных истребителей Bf-110 и сорока Bf-109 атаковали конвой в районе Дувра. Истребительное командование Королевских ВВС бросило в бой две эскадрильи (порядка 30 самолетов) «Харрикейнов».
В этот день немцы потеряли тринадцать самолетов, а англичане – семь, и это соотношение будет удерживаться на протяжении следующих двух месяцев. Тяжелая борьба – а эти первые схватки Королевских ВВС и люфтваффе были смертельными – продолжалась на протяжении целого месяца, по большей части над Каналом и южным побережьем Англии. Это было время пробы сил для обеих сторон, время маневров, изучения противника, изменения тактики.
А для Королевского флота это было время страшных потерь – от мин, подводных лодок, с воздуха. 4 июля «Штуки» атаковали и потопили у Портленда корабль ПВО Foylebank; погибли 170 из 300 членов команды. Немецкая подводная лодка потопила эсминец Whirlwind; погибли 47 человек. 18 июля были выведены из строя два противолодочных траулера и тральщик; 19 и 22 июля люфтваффе потопили патрульные корабли; погибло 11 человек. В том же месяце у берегов Англии затонули две английские подводные лодки; потери составили 77 человек. 26 июля эсминец Boreas был обстрелян люфтваффе; погиб 21 человек. На следующий день эсминец Wren был потоплен у Дувра и эсминец Codrington у Суффолка; погибли 36 человек. Воздушная атака на Дувр была настолько сильной, что командование вывело эсминцы из порта. Именно на это делал ставку Геринг. 29 июля эсминец Delight был тяжело поврежден у Портленда, отбуксирован в порт, где затонул в ночь с 29 на 30 июля; шесть погибших. Остальные члены команды спаслись, но, лишившись корабля, они фактически выбыли из строя. В июле Королевский флот потерял матросов больше, чем Королевские ВВС потеряли летчиков в течение следующих двух месяцев. Новых матросов можно было обучить за несколько недель, но строительство даже самой маленькой канонерской лодки занимало несколько месяцев.
Несмотря на тяжелые потери, Королевский флот не собирался без борьбы уходить из Дуврского пролива. Но Даудинг занял жесткую позицию в отношении патрулирования в дневное время для защиты торговых судов и эсминцев эскорта. Адмиралтейство неохотно запретило эсминцам выходить в пролив в дневное время. Торговым судам предоставили выбор: либо они заходят в Дувр в сумерки, либо следуют по Каналу без сопровождения.
8 августа на рассвете двадцать угольщиков[349] решили рискнуть.
Угольщики, построившись в колонну, двигались от острова Уайт – как обычно, и радиооператоры кригсмарине в Виссане, напротив Фолкстана, слышали, как угольщики и их корабли эскорта обменивались сообщениями о подготовке к проходу по Каналу. Последовала атака люфтваффе. Когда радиолокационная станция на острове Уайт поймала сильную вспышку, сигнализирующую о приближении противника, более тридцати «Спитфайров» и «Харрикейнов» поднялись в воздух, чтобы прикрыть колонну. Однако генерал Йоханнес Финк, заманив истребители Королевских ВВС в ловушку, отправил «Штуки», которые меньше чем за десять минут потопили пять кораблей и повредили семь. Оставшиеся рассеялись, затем попытались собраться и снова подверглись нападению, на этот раз «Штук» в сопровождении Bf-109. Королевские ВВС потеряли шестнадцать самолетов, немцы почти вдвое больше.
Нападения на корабли продолжались в течение августа; возрастали людские потери и потери грузовых судов, танкеров, траулеров. В конце месяца эсминец его величества Esk подорвался на мине и затонул у берегов Голландии, забрав с собой на дно 130 членов экипажа. Скоординированные атаки люфтваффе и кригсмарине приносили результаты, но Геринг без особого рвения преследовал собственные цели. Обмену своих заменяемых самолетов на невозместимые британские корабли он предпочел славу, которая покрывала люфтваффе, когда его летчики высоко в небе вступали в бой с молодыми пилотами Королевских ВВС, и инверсионные следы выписывали героическую историю каждого дня. Немецкие самолеты, летевшие на высоте 26 тысяч футов, не топили корабли. Высшее немецкое командование армии и флота, как позже отмечал Черчилль, «сожалело, что Геринг не уделяет первостепенное значение морским целям, и выражало по этому поводу недовольство»[350].
В пятницу, 9 августа, Черчилль обедал в Чекерсе с Паундом, Исмеем, Иденом, Диллом и генералом сэром Арчибальдом Уэйвеллом. Черчилль, несмотря на угрозу вторжения, продолжал вынашивать планы наступления. После того как дамы удалились в гостиную, он подробно рассказал о плане де Голля относительно вторжения во французскую Северную Африку при поддержке Королевского флота в Дакаре. Черчилль философски отнесся к потерям в тот день в проливе. Англия, сказал он, должна продолжать использовать корабли прибрежной зоны в качестве приманки, хотя признал, что «количество уцелевшей приманки немного огорчает». Паунд, тоже нисколько не обескураженный положением дел, сказал, что у них «даже избыток каботажных судов»[351].
В течение июля Королевские ВВС потеряли 70 самолетов, а люфтваффе более 180, из них больше половины составляли бомбардировщики. Ни одной из сторон не был нанесен смертельный урон. В Великобритании царило хорошее настроение. Вся страна восхищалась героизмом британских летчиков. Молодые пилоты знали, что на них устремлены взгляды всех англичан; они были, по выражению Лиддела Гарта, «цветом военно-воздушных сил и национальными героями»[352].
С каждым днем немецкие налеты учащались. Позже тех, кто участвовал в воздушных сражениях, преследовали воспоминания не столько о пережитом страхе – они редко находились в воздухе больше десяти – пятнадцати минут, – сколько о постоянном напряжении и хронической усталости. После трех-четырех вылетов летчики засыпали в кабине, стоило самолету приземлиться. И хотя они, возможно, не раз сталкивались со смертью, их усталость была столь огромной, что, когда опускались сумерки и становилось темно, они не начали тут же вспоминать ни о дневных боях, ни даже о своих победах. Они ждали последних новостей по Би-би-си и, под впечатлением хороших новостей и благодаря способности молодого организма быстро восстанавливать силы, направлялись в деревенский паб[353].
Вся Англия и вся Германия – на самом деле весь мир – с тревогой ждали ежедневные отчеты о результатах сражений. Казалось, вторжение неминуемо. «Номер 10» отвечал криками «ура!» на доклад министерства авиации: «Окончательные данные по сегодняшнему дню: 85 точно, 34 вероятно, 33 повреждены. Мы потеряли 37 самолетов, 12 пилотов убиты, 14 ранены». В субботу, 13 июля, вечером Колвилл написал в дневнике: «Уинстон сказал, что прошедшие четыре дня были самыми великолепными в истории Королевских ВВС. Эти дни были пробой сил: враг пришел и проиграл пять к одному. Теперь мы можем быть уверены в своем превосходстве»[354].
Черчилль верил этому. Он ссылался на цифры, которую ему сообщали, и никто сознательно не обманывал его. Фюрера тоже никто сознательно не вводил в заблуждение, но цифры, предоставленные командующими люфтваффе, разительно отличались от данных Королевских ВВС. Согласно информации люфтваффе, эти дни были одними из самых великолепных дней в истории люфтваффе и, следовательно, служили доказательством превосходства Германии. Оглядываясь назад, можно с уверенностью сказать, что эти сообщения ничего не стоили.
Командование Королевскими ВВС без вопросов признавало заявления своих летчиков относительно немецких трофеев. Британские отчеты о собственных потерях всегда были точными. Что нельзя сказать об отчетах люфтваффе. Сообщения о незначительных потерях люфтваффе и серьезных британских потерях служили как тонизирующее средства для повышения морального духа рейха, и немцы делали вывод, что их летчики выигрывают сражения.
Проблема обмана заключается в том, что обманщики обманывают сами себя. Именно это случилось с Верховным командованием люфтваффе. «Немцы, – как позже сказал Черчилль, выступая в парламенте, – стали жертвами собственного обмана». Немцы утратили представление о реальной статистике, которая к началу августа стала просто невероятной. В один из августовских дней Уильям Л. Ширер отметил: «Немецкие цифры британских потерь весь вечер росли. Сначала люфтваффе сообщили: 73 сбитых британских самолета против 17 германских, потом – 79 против 14, наконец, в полночь – 89 против 17. Сейчас, когда я подсчитал данные о потерях, поступавших время от времени в течение дня, получилось, что англичане потеряли 111 самолетов. Люфтваффе врут с такой скоростью, что цифры не совпадают даже с их собственными подсчетами»[355].
В своем загородном имении Геринг изучил эти фиктивные данные, подсчитал число затонувших британских кораблей и объявил, что операция Kanalkampf – потрясающая немецкая победа. После капитуляции Франции ему доложили, что военно-воздушные силы Великобритании в первой линии насчитывают меньше 2 тысяч самолетов, из них 500–600 истребителей. В основном так и было – тогда. Рейхсмаршал записал данные в блокнот и положил его в карман. В конце каждого дня, после доклада о потерях, он отмечал их в блокноте. В разведывательной сводке люфтваффе от 16 августа он прочел, что с июля британцы потеряли 574 истребителя и, поскольку заводы поставили не более 300 самолетов, у них приблизительно 430 самолетов, из которых, вероятно, 300 пригодны к эксплуатации.
Поскольку остаток в его блокноте приближался к нулю, Геринг был уверен, что вторжение может скоро начаться. Однако немецкие летчики знали, что эскадрильи Королевских ВВС продолжают защищать небо над Великобританией. Рейхсмаршал ошибался. Он бы пришел в отчаяние, если бы увидел последние данные, предоставленные министерством авиационной промышленности Великобритании. Только в июле британские рабочие произвели 496 истребителей, в четыре раза превысив месячную норму до Дюнкерка. К концу августа Бивербрук предоставил 1081 истребитель и 500 после ремонта. Даудинг, похоже, закончит сражение в небе над Англией с большим количеством истребителей, чем располагал перед началом сражения[356].
Кроме того, ремонтом самолетов, сбитых над Великобританией, занималась Гражданская ремонтная организация (ГРО). Она работала настолько эффективно, что к концу лета треть истребителей Даудинга состояла из частей сбитых «Спитфайров» и «Харрикейнов». Благодаря изобретательности рабочих из ГРО, немецкие самолеты вновь поднимались в воздух, но уже как самолеты Королевских ВВС. 10 августа Колвилл написал в дневнике: «Бивербрук, сказал он [Черчилль], обладает большими способностями и, к тому же, жестокой беспощадностью. Никогда за всю свою жизнь он не видел «таких потрясающих результатов, как у Бивербрука». Изучив диаграммы производства самолетов, генерал сэр Генри Поунелл «согласился, что никогда не видел ничего подобного». Это, безусловно, был каторжный труд, с которого темпераментный канадец все время пытался уйти в отставку. А Черчилль не соглашался. 2 сентября в конце записки на имя премьер-министра Бивербрук написал: «Никто не знает, с какими трудностями я сталкивался». Черчилль ниже приписал: «Я знаю»[357].
Ликующий Геринг, положив перед Гитлером свои расчеты, заявил, что Королевские ВВС недееспособны. Рейх, сказал он, распоряжается небом над Der Bach (в переводе с немецкого – «Ручей», так немцы назвали Канал). И предложил готовиться ко второй фазе сражения: der Adlerangriff – «Орлиной атаке». Но Даудинг отметил в дневнике, что по-прежнему верит, что время на стороне Англии, «если только мы сможем продержаться». В тот день его летчики утверждали, что сбили шестьдесят немецких самолетов и, хотя у него, возможно, эти цифры вызывали подозрение, он был впечатлен умением, с каким молодые англичанки на радиолокационных станциях разбирались с направлением и дальностью атакующих. В конце концов, точные действия женской вспомогательной службы ВВС были крайне важны для победы Королевских военно-воздушных сил[358].
Летчики люфтваффе оставались такими же опасными. Их вышестоящее руководство – нет. Высшие офицеры совершали грубые ошибки, отличались неумелым руководством. Разведывательные данные, которые получал Геринг, ничего не стоили. Немцы имели весьма смутное представление о британской оборонительной системе; на начальном этапе они действительно не знали, где находятся ключевые британские аэродромы. Два завода «Роллс-Ройс», на которых изготавливали моторы Merlin, которыми оснащались «Спитфайры» и «Харрикейны», не подвергались бомбежкам, хотя их местонахождение не являлось секретом. На картах, которыми пользовались немецкие штабы, не было указано: какими аэродромами пользуется истребительная авиация, какими – бомбардировочная и какие аэродромы не используются. Важные приказы не доходили до места назначения. Метеосводки не заслуживали доверия. Сотрудники штаба работали медленно, допускали ошибки. Геринг собрал генералов и приказал, чтобы ни при каких обстоятельствах его не тревожили подчиненные, ждущие указаний. Хуже всего то, что у него не было четкой стратегии и он не определил приоритетность целей. После войны Адольф Галланд, один из его офицеров, написал, что «неудача в достижении какого-либо заметного успеха, постоянно изменявшиеся и явно несообразные приказы, абсолютно неправильная оценка ситуации командованием и несправедливые обвинения в наш адрес – все это оказывало большое деморализующее воздействие на нас, летчиков-истребителей, духовные и физические силы которых и так уже были на пределе»[359].
Британские радиолокационные станции вводили противника в заблуждение. Улавливая их сигналы, немецкие летчики сообщали о британских радиостанциях. Нацистская разведка решила, что это система связи летчиков Королевских ВВС с диспетчерами наземных служб, и 7 августа пришла к заключению, что, «поскольку британские истребители наводятся на цель с земли по радио, они привязаны к своим станциям наведения, и поэтому их мобильность ограниченна, даже если предположить, что наземные станции ограниченно подвижны. Как следствие, едва ли следует ожидать, что противник сможет за короткий срок сосредоточить крупные силы истребителей. Поэтому при нанесении массированных авиационных ударов по району цели можно рассчитывать на те же условия слабого противодействия истребителей, что и при атаках по рассредоточенным целям. Можно предположить, что в случае массированного налета в оборонительной системе противника неизбежно замешательство, приводящее к снижению эффективности его противовоздушной обороны»[360].
Начальник службы связи люфтваффе, один из немногих немцев, понимавших роль радаров, настаивал на том, что нападению на радиолокационные станции следует уделять первостепенное значение. Попытка, предпринятая накануне главного наступления на Великобританию, не имела успеха. В Дувре немцы раскачали опору радара, но сбить 360-футовую мачту почти не представлялось возможным; предприняв четыре попытки, летчики сообщили, что не смогли выполнить задание. Геринг предположил, что электронная аппаратура и технический персонал находятся глубоко под землей и, следовательно, не представляют опасности. (На самом деле они находились в деревянных ангарах под вышками.) Геринг, считая, что нанесение бомбовых ударов по радиолокационным станциям не имеет смысла, издал соответствующий приказ[361].
Тем не менее люфтваффе были все еще мощными, и огромные флоты отменных самолетов в численном отношении превосходили защитников два к одному. После операции Kanalkampf немцы составили план начала вторжения, кодовое название Adlertag («День орла») и приступили к операции Adlerangriff («Орлиная атака»). Фюрер, не знавший, что цифры Геринга не соответствуют действительности, уполномочил его начать операцию Adlerangriff. Согласно директиве фюрера, если позволят погодные условия и не возникнет непредвиденных обстоятельств, Adlertag был назначен на 5 августа. Британские офицеры разведки из Блетчли-Парка передали эту информацию Черчиллю, и в тот же день Даудинг опубликовал обращение: «Битва за Британию вот-вот начнется. Служащие ВВС Великобритании, судьба поколений в ваших руках».
6 августа рейхсмаршал назначил «День орла» на 10 августа, субботу. Однако из-за неблагоприятных прогнозов погоды начало операции пришлось перенести на вторник. Утром 13 августа 74 двухмоторных «Дорнье» и 50 Bf-109 поднялись в воздух. Но небо опять заволокли тучи, и Геринг отдал приказ вернуться. Днем небо расчистилось, и наступление началось. Проводить операцию должны были силы 2-го, 3-го и 5-го воздушных флотов. Командующим 2-м воздушным флотом был Альберт Кессельринг, самый талантливый из подчиненных Геринга. Солдаты Кессельринга называли его Улыбчивый Альберт (ему нравилось демонстрировать свои безупречно белые зубы). Ранним утром с радиолокационных станций Королевских ВВС, расположенных на юго-восточном побережье, начали поступать тревожные сигналы в штаб Даудинга[362].
Среди ожидавших нападения на скалах Дувра находились американские военные корреспонденты, в их числе Х.Р. Никербокер, Эдвард Марроу, Хелен Киркпатрик, Квентин Рейнольдс, Уайтлоу Рейд, Вирджиния Коулз, Эрик Севарейд и Винсент Шиин. У всех было предчувствие неотвратимой беды. «Нарастало ощущение неотвратимой трагедии», – написал Шиин. Некоторые из них освещали разрастание глобального конфликта с 1931 года, с захвата японцами Маньчжурии. Рейх казался непобедимым. Послышался знакомый характерный гул «Мессершмиттов», «Хейнкелей» – рабочих лошадок люфтваффе – и «Дорнье», который превратился в рев, когда сверкающие крылья большой нацистской армады появились из ослепительной, залитой солнцем дымки над Каналом и приблизились к побережью, которое не видело захватчиков на протяжении нескольких веков. Опыт подсказывал журналистам, что следует ожидать очередное поражение демократии[363].



