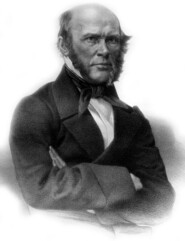 Полная версия
Полная версияНиколай Пирогов. Его жизнь, научная и общественная деятельность
Свои исследования и наблюдения в кавказской экспедиции Пирогов изложил в нескольких статьях и трактатах. В этих трудах рассматриваются кардинальные вопросы военно-полевой хирургии: огнестрельные раны, их природа, свойства и лечение; ампутации как самое значительное и энергичное хирургическое пособие – Пирогов здесь приводит сравнительную статистику этой операции. Вопросу об анестезии отведено довольно много места, и приведена статистика всех операций, сделанных за этот период времени в России под эфирным и хлороформным наркозом. Личный опыт Пирогова составлял уже тогда до 400 наркозов эфиром и до 300 – хлороформом.
Главная цель научного путешествия Пирогова на театр военных действий, на Кавказ – применение анестезирования на поле сражения – была достигнута с блестящим успехом. “С чувством внутреннего самодовольствия, – говорит он, – можем сказать, что мы первые опытом доказали возможность приложения анестезирования на поле сражения. Мы надеемся, что отныне эфирный прибор будет составлять точно так же, как и хирургический нож, необходимую принадлежность каждого врача во время его действий на бранном поле”. Надежды Пирогова блестяще оправдались: маска для хлороформирования, вытеснившего этеризацию, приобрела полное право гражданства на перевязочных пунктах. Честь введения анестезирования при оказании первой хирургической помощи раненым принадлежит всецело Пирогову и составляет самую раннюю его заслугу в военно-полевой хирургии, ознаменовавшую его первое появление на театре военных действий.
Вскоре после своего возвращения в Петербург знаменитый хирург получил приглашение к Великой княгине Елене Павловне, которую крайне интересовала цель его научной командировки на Кавказ. Вот как Пирогов описывает первую свою аудиенцию у Великой княгини и некоторые обстоятельства, случайно предшествовавшие этому, и свидетельствующие, с каким бюрократическим тупоумием относились высшие военно-административные власти к такому научному деятелю, как Пирогов.
“Никогда не забуду, – говорит он в письме к баронессе Раден, – в каком душевном расстройстве я предстал пред ней тогда, почти немедленно после официальной аудиенции у военного министра, где получил незаслуженный выговор. Утомленный мучительными трудами, в нервном возбуждении от результата своих испытаний на поле битвы, я велел доложить о себе военному министру почти тотчас по своем приезде и не обратил внимания, в каком платье я к нему явился. За это я должен был выслушать резкий выговор насчет моего нерадения к установленной форме от г-на Анненкова (генерал-адъютант Н. И. Анненков, назначенный после смерти Веймарна попечителем Медико-хирургической академии). Я был так рассержен, что со мною приключился истерический припадок со слезами и рыданием (я теперь сознаюсь в своей слабости). После этой выходки я решился подать в отставку и проститься с академией. Но аудиенция у Великой княгини возвратила мне бодрость духа и так меня успокоила, что я не обратил более никакого внимания на это отсутствие такта в моем начальстве. Великая княгиня выразила мне своею любознательностью и уважением к знанию то, что выразить следовало бы главе научного заведения. Она входила во все подробности моих занятий на Кавказе, интересовалась различными результатами анестизации на поле сражения; словом, обращение Великой княгини со мною было таково, что я устыдился своей минутной слабости. Убежденный, что около трона я найду лучших судей, одаренных большим пониманием, я рассудил, что мне следует смотреть на бестактность моего начальства, как на своевольную грубость лакеев”.
На следующий год после бурной деятельности военно-полевого хирурга кавказской экспедиции Пирогов принялся за совершенно мирную, но не менее трудную работу: за изучение азиатской холеры, эпидемия которой вспыхнула в Петербурге в 1848 году. Для того чтобы изучить эту тогда еще малоисследованную болезнь, Пирогов устроил в своей клинике особое холерное отделение. Его преимущественно интересовала патологоанатомическая сторона вопроса, то есть те стойкие болезненные изменения в тканях и органах тела, которые вызываются холерой. За время эпидемии Пирогов сделал более 800 вскрытий трупов холерных больных, умерших в госпитале и городских больницах. Результаты своих исследований Пирогов изложил в весьма солидном труде, носившем заглавие “Патологическая анатомия азиатской холеры” и появившемся в 1849–1850 годах на двух языках, русском и французском. За это сочинение, снабженное атласом с раскрашенными рисунками, Пирогову была присуждена Академией наук полная Демидовская премия.
Профессорская деятельность Пирогова в Медико-хирургической академии занимает 14-летний период времени, с 1841-го по 1854 год. Это было время полного расцвета сил Пирогова, время многосторонней и плодотворной научной и практической его деятельности. Занимая созданную им кафедру госпитальной хирургии, он читал вместе с тем лекции патологической и топографической анатомии и заведовал громадною хирургическою клиникой. Как директор вызванного им к жизни анатомического института он руководил занятиями студентов и врачей и сам с увлечением разрабатывал огромный анатомический материал, находившийся в его распоряжении. В этом же институте он продолжал свои занятия экспериментальною хирургией, ставил опыты над животными. Помимо занятий по академии, Пирогов состоял еще консультантом больших петербургских больниц – Обуховской, Марии Магдалины, Петропавловской и Максимилиановской. Наконец, он имел первую хирургическую практику во всей столице.
Из ученых трудов Пирогова за петербургский период, кроме указанных выше, обращают на себя внимание его прекрасный “Курс прикладной анатомии человеческого тела” и предназначенные преимущественно для судебных врачей “Анатомические изображения наружного вида и положения органов, заключающихся в трех главных полостях человеческого тела”. Но капитальным трудом Пирогова по анатомии является его знаменитая “Топографическая анатомия по распилам замороженных трупов”. Исходя из той мысли, что обычный принятый в анатомии способ исследования (препарирование), т. е. изолирование частей друг от друга с удалением связывающей их клетчатки с помощью ножа, не дает полного и, главное, правильного представления о взаимном соотношении частей в организме, Пирогов ввел в науку новый метод анатомического исследования при помощи распилов замороженных трупов. При этом вполне сохранялись нормальное положение органов и соотношение частей. В этом своем руководстве, представляющем четыре тома таблиц и рисунков и четыре тетради текста in folio, Пирогов всесторонне применил свой метод и благодаря этому обогатил науку целым рядом ценных фактов. В своем сочинении для лучшего уяснения анатомических данных автор сплошь и рядом делает ссылки на историю развития и сравнительную анатомию, а анатомическими данными он пользуется для объяснения особенностей хода болезненных процессов в данной области тела, что дает возможность делать выводы, непосредственно приложимые к клинике. Этим трудом, до сих пор не имеющим себе равного во всей европейской литературе, Пирогов, бесспорно, создал себе монумент aere perennius.
Из трудов по хирургии на первом месте стоит изданная Пироговым на немецком языке “Клиническая хирургия”. Это – собрание монографий по вопросам клинической хирургии. В первой из них описывается операция вылущения стопы, с которою с тех пор в хирургии связано имя Пирогова. Вторая трактует весьма интересный вопрос о трудностях хирургического диагноза и о счастье в хирургии. В третьей описывается гипсовая повязка Пирогова; четвертая и последняя представляет отчет об операциях, произведенных им в течение 1852/53 учебного года.
“Бросая общий взгляд на деятельность Н. И. Пирогова в Медико-хирургической академии, оценивая теперь издали значение его для этого учебного заведения, невольно останавливаешься на мысли, как много может сделать один человек, одаренный талантами и запасом энергии. Он, как высокий артист на сцене, не только в совершенстве исполняет свою роль, но действует возвышающим образом на окружающую среду, производит обаятельную атмосферу, в которой и другие, менее талантливые, артисты чувствуют подъем своих сил. То же самое и в духовном мире науки: один выдающийся талант может поднять репутацию целого учебного заведения более, чем десятки посредственностей. Подобное значение имел и Н. И. Пирогов. С его выходом из медицинской академии научный тон ее сразу опустился, и это произошло тем заметнее, что Пирогов, вследствие неожиданности своего выхода, не успел приготовить себе по всем отделам преподаваемых им наук достойных преемников” (Флоринский).
Официально Пирогов вышел из состава профессоров Медико-хирургической академии в 1856 г., фактически же он оставил Академию в 1854 г., когда отправился на театр военных действий в Крым.
ГЛАВА VI
Стремление Пирогова на театр военных действий. – Проект Великой княгини Елены Павловны. – Община сестер милосердия. – Отъезд Пирогова в Крым. – Прибытие в Севастополь. – Раненые под Балаклавой и Инкерманом. – Введенная Пироговым система сортировки раненых. – Докладная записка главнокомандующему Горчакову. – Второе бомбардирование Севастополя. – Главный перевязочный пункт в Дворянском собрании. – Отъезд Пирогова в Петербург. – Вторичный приезд в Крым. – Деятельность в Симферополе. – “Начала общей военно-полевой хирургии”
Россия переживала один из знаменательнейших моментов своей истории – Восточную войну. Столкновение с Турцией выросло в борьбу с могущественными державами Европы, Францией и Англией. Союзные войска вступили уже в пределы России, французские и английские пушки громили Севастополь. Центр тяжести всей кампании совершенно неожиданно перешел в небольшой приморский город. На юге России разыгрывалась вторая Илиада. Все русское общество встрепенулось, все взоры обратились к Севастополю. Каждый, по мере своих сил и возможности, старался из своего далека так или иначе принять участие в защите Севастополя.
Пирогов, имевший уже известную опытность как военно-полевой хирург, объявил себя “готовым употребить все свои силы и познания для пользы армии на боевом поле”. Просьба его давно была подана, но все ходила по инстанциям. Пирогов рвался всею душой в Крым, но “буцефалов” было еще много, и они были еще в силе. И вот в то время, как в Севастополе раненые гибли тысячами, первый хирург во всей стране, европейская знаменитость, должен был просить, как милости, чтобы его послали на театр военных действий. Он уже начинал отчаиваться в успехе своей просьбы. Но совершенно неожиданно дело приняло благоприятный для него оборот. Пирогов получил приглашение к Великой княгине Елене Павловне. Она тотчас объявила ему, к великой его радости, что взяла на свою ответственность разрешить его просьбу. Затем она объяснила знаменитому хирургу свой замечательный план организовать женскую помощь раненым и больным на поле битвы – причем предложила Пирогову самому избрать медицинский персонал и взять управление всем делом на себя. К вечеру того же дня Великая княгиня прислала ему собственноручную записку с известием, что просьба его принята.
Чтобы правильно оценить всю ту массу добра и благодеяния, которую должен был принести несчастным севастопольским страдальцам проект Великой княгини Елены Павловны, нужно знать, что такое умелый женский уход за больным. Об этом может судить лишь тот, кто знаком с деятельностью сестер милосердия не понаслышке. Каждый врач, которому приходилось работать с сестрами милосердия, должен преклониться перед этим институтом. Здесь ярко выступают все лучшие стороны женской натуры: “сестричка” окружает больного атмосферой нежной заботливости, проникнутой сердечным сочувствием к его горю и страданиям, она умеет угадывать и предупреждать желания больного, она терпеливо выслушивает его бесконечные жалобы и всегда находит в своем женском лексиконе слово утешения, она умеет внушить ему бодрость и заставить забыть его беспомощность. Таково благотворное нравственное влияние сестры милосердия на вверенного ее попечениям больного. С другой стороны, мягкость движений при манипуляциях над больным, прирожденная ловкость движений, чистоплотность, аккуратность и исполнительность делают такой женский уход за больным идеальным. Сестра милосердия является благодаря этому незаменимою помощницей для врача, в особенности для хирурга. К этому присоединяются еще поражающие каждого наблюдателя выносливость и неутомимость в работе сестры милосердия, как выражение эластичности женской натуры.
Женский уход в больницах тогда уже существовал и в Европе, и у нас. Но о том, чтобы женщины заботились о раненых и больных на самом театре военных действий, на перевязочных пунктах и в полевых лазаретах, ближайших к полю сражения, никто не помышлял. Эта смелая и совершенно новая мысль впервые возникла во время Крымской кампании у Великой княгини и великой женщины Елены Павловны. Просьбами Елене Павловне удалось склонить императора Николая Павловича к допущению такого неслыханного эксперимента. Великая княгиня обратилась с воззванием к патриотизму русских женщин и собственной рукой в госпитальной клинике Пирогова наложила повязку на оперированного, чтобы доказать, что подобного рода помощь ближнему не может иметь ничего предосудительного. На призыв Великой княгини откликнулись русские женщины, и из всех слоев общества явились желавшие самоотверженно принять на себя высокие и трудные обязанности сестер милосердия. Великою княгиней была основана “Крестовоздвиженская община сестер попечения о раненых и больных”. “Первым крестовоздвиженским сестрам, – говорит Пирогов, – пришлось прямо идти в огонь страшной Крымской войны”. Вести их в этот огонь и руководить их деятельностью Великая княгиня и предложила Пирогову. Принимая это предложение, Пирогов был убежден, что нравственный контроль сестер милосердия, благодаря женскому такту, их чувствительности и независимому от служебных условий положению гораздо действеннее может влиять на отвратительные злоупотребления госпитальной администрации, чем разного рода официальные комиссии. А какова была эта администрация в Крымскую кампанию и что творилось в госпиталях Севастополя в начале войны, это нам достаточно рисует одна маленькая фраза, сказанная впоследствии Пироговым казанскому профессору Н. О. Ковалевскому. “В то время, когда вся Россия щипала корпию для Севастополя, – говорит он, – корпией этою перевязывали англичане, а у нас была только солома”.
Новое учреждение, вызванное к жизни Великою княгиней, было встречено соответствующими административными сферами не особенно сочувственно. Люди старого закала предвидели, что этим может быть подорвано ненасытное хищничество госпитальной администрации. Как единственный аргумент против нового института эти “старые грешники”, по выражению Пирогова, позволяли себе делать различные двусмысленные намеки. Но вскоре самоотверженная деятельность сестер заставила всех противников преклониться перед ним. “И замечательно, – говорит он, – что самые простые и необразованные из них выделяли себя более всех своим самоотвержением и долготерпением в исполнении своих обязанностей”. Одна из таких сестер посещала по собственному желанию наши форты и была известна как героиня. Она помогала раненым на бастионе под самым огнем неприятельских пушек. Многие сестры были контужены и ранены. Роль руководителя молодой общины, которую взял на себя Пирогов, была не из легких. Первый выбор большей части сестер не мог, конечно, по тогдашним обстоятельствам быть вполне удачным. Они были набраны преимущественно в Петербурге, притом с большой поспешностью. Пирогову приходилось входить в различные женские дрязги, устранять столкновения, мирить и прочее. “Община сестер милосердия, – замечает справедливо Пирогов, – почти, можно сказать, была сымпровизирована бедствиями военного времени и поэтому имела свои слабые стороны”. Несмотря на эти недостатки, знаменитый хирург, в общем, с восторгом отзывается о деятельности сестер. Такой же отзыв дает о деятельности сестер и киевский профессор Гюббенет:
“Только очевидец, – говорит он, – мог составить себе верное понятие о самоотвержении и героизме этих женщин. С редким мужеством переносили они не только тяжкие труды и лишения, но и явные опасности. Они выдержали бомбардирование с геройством, которое сделало бы честь любому солдату. На перевязочных пунктах и в госпитале они продолжали делать перевязки раненым, не трогаясь с места, несмотря на то, что бомбы то и дело летали кругом них и наносили присутствующим тяжелые раны”.
Наконец, в октябре 1854 года Пирогов с отрядом врачей выехал в Крым. Вслед за ним был послан отряд сестер милосердия в составе 28 человек с начальницей Стахович.
Назначение Пирогова в Крыму состояло, по словам профессора Гюббенета, в том, чтобы устроить надлежащим образом хирургическую часть, чтобы сортировать и отделять разнородные случаи ран, чтобы высказать свое мнение относительно важнейших недостатков и несообразностей в деле призрения больных и своим авторитетом и неутомимою деятельностью поднять и довести его до возможной степени совершенства. Тут представилось его дарованиям широкое поле для введения новых способов операций и открылась для него возможность уяснить значение многих явлений при лечении ран.
В первой половине ноября Пирогов прибыл в Севастополь.
“Я никогда не забуду, – рассказывает он, – моего первого въезда в Севастополь. Это было в позднюю осень в ноябре 1854 года. Вся дорога от Бахчисарая на протяжении 30 верст была загромождена транспортами с ранеными, орудиями и фуражом. Дождь лил как из ведра, больные и между ними ампутированные лежали по двое и по трое на подводе, стонали и дрожали от сырости; и люди, и животные едва двигались в грязи по колено; падаль валялась на каждом шагу, из глубоких луж торчали раздувшиеся животы павших волов и лопались с треском; слышались в то же время и вопли раненых, и карканье хищных птиц, целыми стаями слетавшихся на добычу, и крики измученных погонщиков, и отдаленный гул севастопольских пушек. Поневоле приходилось задуматься о судьбе наших больных; предчувствие было неутешительно. Оно и сбылось”.
Вся масса раненых отправлялась из Севастополя главным образом в Симферополь, составлявший узловой пункт всех дорог от осажденного города. Госпитальных помещений Симферополя не хватило на огромное количество раненых, и последние были размещены в оставленных казенных зданиях и частных домах. Несчастные, наполнявшие дома, были лишены почти всякого ухода. Многие валялись без матрацев, на грязном полу, без всякого присмотра. Воздух был страшно испорчен. Недоставало людей, чтобы хоть немного привести этот невообразимый хаос в порядок. Для того чтобы упорядочить положение этих несчастных и уход за ними, Пирогов оставил первую партию сестер в Симферополе и занял этих сестер госпитальным уходом.
Прибыв в Севастополь, Пирогов ввиду наступившего затишья в осаде занялся разборкой раненых под Инкерманом, находившихся в севастопольских госпиталях в числе около 1500 человек. Здесь он впервые стал применять свою гипсовую повязку для поврежденных конечностей, которые можно было надеяться спасти и сохранить, не прибегая к ампутированию.
С самого начала осады главный перевязочный пункт был устроен в прекрасном по архитектуре и положению на берегу залива доме Севастопольского дворянского собрания. Просторные, изящно отделанные танцзал, буфет и бильярдная комната собрания были превращены в операционные и перевязочные.
“До этой минуты, – рассказывает Пирогов, – мне не случалось почти совсем быть в столкновении с обер-медиками; но когда я взял на себя попечение о главном перевязочном пункте и о всех госпиталях, сейчас же начались разные контры между мною и администрацией. Теперь никто не может себе представить всю отвратительность и тупоумие тогдашнего официального администрировавшего медицинского персонала. Эти господа сразу смекнули, куда поведет учрежденный мной нравственный присмотр и контроль административного попечения над руководителями госпитальных порядков. Дела эти поручены были мной сестрам, женщинам и моим собственным помощникам. Это смутило господ администраторов, и они стали громко роптать на превышение власти с моей стороны, и только благодаря благосклонному вниманию генералов Сакена и Васильчикова я обязан тем, что несмотря на все интриги за сестрами был удержан весь надзор в госпиталях. К. М. Бакунина вела все дела присмотра за уходом больных с таким тактом, энергией и совестливостью, что полученный успех оказался блестящим и для всех здравомыслящих людей неоспоримым.
Все, что удерживали и не выдавали, и теперь еще старались удерживать; но Бакунина, пунктуально исполняя мои и других медиков предписания, настоятельно вытребовала недоданное. Неудивительно, что подобное вмешательство и такая деятельность женщин не могли быть приятны господам командирам и официальным инспекторам”.
Пирогов первым выработал прекрасную систему сортировки раненых в тех случаях, когда они поступали на перевязочный пункт сотнями. До того на перевязочных пунктах господствовал страшный беспорядок и хаос. Система Пирогова состояла в том, что прежде всего раненые разделялись на четыре главные категории. Первую группу составляли смертельно раненные, безнадежные, которые поручались священнику и сестрам милосердия; этим страдальцам сестры старались доставлять последний уход и предсмертные утешения. Во вторую категорию входили раненые, требующие безотлагательной помощи тут же на перевязочном пункте. Третья категория обнимала собой тех, которые подлежали операциям на следующий день или позднее, а пока, следовательно, должны были быть отправлены в госпиталь. Наконец, четвертая категория включала в себя легкораненых, которых перевязывали и отправляли обратно в части. Благодаря введению такой весьма простой и разумной сортировки рабочие силы не разбрасывались и дело помощи раненым шло быстро и толково.
Во второй половине февраля произошла смена главнокомандующего. Место князя Меньшикова заступил князь Горчаков. Как только Горчаков прибыл в Севастополь, Пирогов подал ему докладную записку, в которой доказывал, что “мы теперь так же мало приготовлены принять и устроить большое число раненых, как и в начале осады после Инкерманского сражения”, и предложил две главные и, по его убеждению, единственные меры для предупреждения подобного неустройства. Первою мерой должна была служить совершенная эвакуация городских госпиталей путем беспрерывной транспортировки. Второй необходимой мерой являлось устройство госпитальных палаток на безопасном месте, на Северной стороне. Далее в докладной записке Пирогов указывает на то безотрадное медицинское положение нашей армии, которое достигало геркулесовых столбов неустройства. Так, например, на требование хины и хинина, отправленное в Херсон в декабре 1854 года, не было еще никакого ответа в марте 1855 года! В декабре 1854 года при сильном морозе и самой бурной погоде перевозили больных и раненых в татарских арбах в Симферополь и Перекоп, непокрытых, без шуб, ночуя под открытым небом. Такие транспортировки продолжались от 10 до 12 дней.
Между тем военно-медицинская администрация находила, что все идет к лучшему в этом лучшем из миров, и генерал-штаб-доктор Шрейбер, “хотя уже седой и рябоватый, видел все в розовом свете”.
В течение февраля были заложены наши передовые редуты: селенгинский, волынский и камчатский. Это давало повод к очень жарким ночным стычкам. В это время Пирогову приходилось и жить, и работать под пушечными выстрелами в буквальном и ужасном смысле этих слов. Крыша дома, где он жил, была пробита бомбой. Эта сторона дела не имела, однако, никакого влияния на расположение духа Пирогова. Напротив, он был тем более расположен к беседам и шуткам, чем кровавее и утомительнее была работа на перевязочном пункте. Наступили грозные дни второй бомбардировки Севастополя (с 28 марта по 8 апреля). Пирогов со своими помощниками переехал на постоянное жительство в Дворянское собрание. Все это время Пирогов и его помощники, не раздеваясь, оставались беспрерывно на перевязочном пункте. Во время этой бомбардировки число раненых, прошедших через руки Пирогова, доходило до пяти тысяч. Вот как он сам описывает главный перевязочный пункт в Дворянском собрании:
“В течение девяти дней мартовской бомбардировки беспрестанно тянулись ко входу ряды носильщиков; вопли вносимых смешивались с треском бомб; кровавый след указывал дорогу к парадному входу Собрания. Эти девять дней огромная танцевальная зала Собрания беспрестанно наполнялась и опоражнивалась; приносимые раненые складывались вместе с носилками целыми рядами на паркетном полу, пропитанном на целые полвершка запекшеюся кровью; стоны и крики страдальцев, последние вздохи умирающих, приказания распоряжающихся – громко раздавались в зале. Врачи, фельдшера и служители составляли группы, беспрестанно двигавшиеся между рядами раненых, лежавших с оторванными и раздробленными членами, бледных как полотно от потери крови и от сотрясений, производимых громадными снарядами. На трех столах кровь лилась при производстве операций; отнятые члены лежали грудами, сваленные в ушатах. За столами стоял ряд коек с новыми ранеными, и служители готовились переносить их на столы для операций; возле порожних коек стояли сестры, готовые принять ампутированных.



