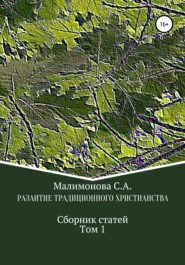
Полная версия:
Развитие традиционного христианства. Сборник статей. Том1
Что касается изменений внутренней стороны христианства, как мы видим теперь, после многих работ православных и католических богословов, уточнявших теории догматического развития Д.Г. Ньюмена и В.С. Соловьева, то они не происходили заметным образом: догматы и каноны провозглашены неизменяемыми, хотя изменения происходили и в догматах, и в канонах. Значительные изменения произошли, например, в канонах о прещениях (наказаниях). Еще в ранневизантийскую эпоху первоначальные строгие канонические сроки отлучения от причастия были заменены на более мягкие в покаянном «Номоканоне» патриарха Иоанна Постника. И хотя «Номоканон» был лишь дополнением к основному каноническому корпусу, в дальнейшем прещения стали еще более мягкими, а в Русской церкви в XVIII веке отлучение от причастия кающихся грешников на длительные сроки было запрещено, но при этом, никто не отменял сами каноны, содержащие запрещенные в церковно-судебной практике санкции22.
Некоторые каноны ныне невозможно применить в буквальном смысле. Например, в связи с исчезновением чина диаконисс, 15-ое правило Халкидонского Собора, определяющее возрастной ценз для поставления в диакониссы (40 лет), перестало применяться буквально. Но оно осталось в каноническом корпусе и может служить, например, для установления возрастной границы для назначения женщин на церковные должности.
Таким образом, для традиционных церквей Предание в своей основе неизменно, но в каких-то деталях оно может уточняться. Неизменяемость канонов понимается как абсолютная неизменяемость «духа» правил – их основной мысли, целей, но как относительную неизменяемость «буквы» правил, т.е. их формы и обстоятельств применения на практике. Таким образом, традиционная церковь может принимать новые правила, но они не должны затрагивать при этом смысла принятого ранее правила, а лишь уточнять канон без понижения нравственных и духовных требований к членам церкви.
Второй подход, связанный с изменением внешней стороны религии, обычно более заметен, чем первый, поскольку наиболее часто именно внешняя сторона религии подвергается какому-либо изменению. Причем, если протестантский подход может предполагать любое изменение внешней стороны религии, без опоры на догматику, то подход традиционных конфессий всегда предполагает опору внешней стороны религии на догматы и каноны. Поэтому в традиционных конфессиях всегда в подобных переменах, произошедших без соборного решения церкви, усматривают нарушения канонов и догматов, а, следовательно, подобных реформаторов чаще всего обвиняют в ереси.
Подобные изменения считаются опасными еще и потому, что могут привести к расколам. Так, например, идеи католических модернистов конца XIX – начала ХХ в. были квалифицированы папой Пием Х в вышеупомянутой энциклике («Pascendi Dominici gregis», 8 сентября 1907)23 как «синтез всех ересей». Наиболее видные модернисты были отлучены от церкви; их сочинения были включены в «Индекс запрещенных книг». В 1910 Ватикан ввёл антимодернистскую присягу для лиц, посвящаемых в очередной духовный сан, для профессоров католических богословских факультетов, служащих епископских курий и др. Несомненно, папа Пий Х принял описанные жесткие меры для предотвращения новой схизмы в католической церкви и возникновения нового, очередного протестантского или раскольнического движения.
Философскими основаниями модернизма папа Пий Х назвал агностицизм и имманентизм. Однако большинство католических модернистов не отказывались от веры и не выступали против церкви, но, наоборот, по их мнению, применяя протестантские подходы к изучению христианства, старались сочетать религию с новым и современным миропониманием.
Вторая волна католических модернистов также настаивала на необходимости корректировки внешней стороны христианства, и даже его внутренней стороны (А.де Любак, Ж.Даниелу, М.Д.Шеню и И.Конгар и др.), но совсем иначе: хотя и в соответствии с настоящим моментом, учитывая современные философские течения, но базируясь на учении древних отцов церкви, без радикализма и опоры на протестантскую теологию. Поэтому католическая церковь, в конечном счете, от полного отрицания модернизма пришла к его принятию. Центральной идеей Второго Ватиканского Собора (1962 – 1965) стало так называемое аджорнаменто, то есть «осовременивание» церкви, которое привело к значительным изменениям, например, введению богослужения на национальных языках, изменениям в литургической практике, в таинствах и обрядах католической церкви, расширению влияния мирян на церковную жизнь и т.д.
Нужно заметить, что в православной церкви, несмотря на отсутствие необходимости борьбы с протестантизмом, сначала ситуация с пониманием необходимости модернизации была похожей: появились православные богословы, которые обосновали возможность изменений, основанных на откровении: В. Соловьев, вслед за ним – Н. Бердяев, П. Флоренский, С. Булгаков, Г. Флоровский, В. Лосский, И. Мейендорф и др., но сложная ситуация, связанная с гонениями на церковь (а вместе с этим, и на русскую религиозную философию) остановила этот процесс на многие десятилетия. И более того, до сих пор модернизм может считаться в РПЦ даже чем-то антицерковным, однако некоторые богословы в РПЦ утверждают возможность развития: «И, вместе с тем, в церкви продолжается развитие догматической науки в смысле все более точного выражения в слове познанной Истины. Возможно и в дальнейшем появление новых, более совершенных разработок по отдельным вопросам вероучения или целых догматических систем»24.
Таким образом, если говорить о традиционных конфессиях (православии и католичестве), то протестантское мнение об абсолютной неизменности взгляда этих конфессий в понимании откровения является однобоким. В католичестве и православии присутствует не только неизменность, но и изменяемость, как два значимых свойства христианской церкви. И это соответствует христианскому откровению и учению отцов церкви. Раннехристианский писатель Ерм в книге «Пастырь»25 представляет церковь как «жену юную и старую одновременно»: с одной стороны, она умудрена опытом веков и хранит откровение, с другой стороны, она вечно молода, т.к. постоянно изменяется.
Третий подход к пониманию изменений, происходящих в христианстве – социологический, определяющий отношение той или иной религии к модернизируемому обществу.
Т. Парсонс26 интерпретирует эволюцию христианской религии в понятиях разработанной им концепции системы человеческих действий. Согласно Парсонсу, отличительная особенность христианства, как религиозной системы – его «внутримирская» ориентация, способствующая установлению господства человека над реальным земным миром во имя религиозных ценностей, т.е., Парсонс определяет, что развитие религии оказывает влияние на развитие общества. Об этом пишут также М. Вебер и Р. Белла. М. Вебер27 считает, что протестантская этика способствовала развитию духа капитализма, тогда как созерцательные религии (буддизм, индуизм) не были нацелены на активную практическую деятельность. Р. Белла28 предпринял попытку показать, что определенные черты японской религии сыграли важную роль в быстром экономическом развитии страны. Он показал наличие элементов протестантской этики в религиозно-этической системе японских самураев (эпоха сегуната Токугава). Эти элементы, по предположению Р. Белла, могли способствовать быстрому экономическому развитию страны.
С другой стороны, общество также оказывает влияние на развитие религии. И здесь необходимо, прежде всего, сказать о таком явлении, как секуляризация. В целом, протестантский взгляд, исключающий внутреннюю эволюцию религии и делающий опору только на внешнюю ее эволюцию, можно считать непосредственно связанным с секуляризацией. Одни исследователи (О. Конт, К. Маркс, Б. Рассел, Э. Фромм, Ж.-П. Сартр, Т. О. Диа и др.) полагают, что секуляризация представляет собой необратимый процесс, который неуклонно ведет к сокращению сферы действия религии и ее исчезновению. Другие исследователи (Т. Парсонс, П. Бергер, Р. Белла и др.) считают, что секуляризация ведет лишь к видоизменению религии, а также к изменению ее роли в современной культуре. П. Бергер29 определяет секуляризацию как процесс освобождения человека, различных сфер общества и культуры от власти церкви и организованной религии (отделение церкви от государства, светское общество, наука, культура и образование). Он говорит о секуляризации не только общества и его институтов («объективная секуляризация»), но и сознания человека («субъективная секуляризация») и связывает ее с плюрализмом мировоззрений, в том числе плюрализмом религиозным, который и привел в США к возникновению «гражданской религии». «Плюралистическая ситуация – это прежде всего ситуация рынка. В этой ситуации религиозные институты становятся деятелями рынка, а религиозные традиции – потребительским товаром. Во всяком случае, большая часть религиозной деятельности определяется в этой ситуации логикой рыночной экономики»30. Данное изменение религии может быть для нее опасным и привести к деградации и разрушению. По мнению П. Бергера, разрушение религии угрожает стабильности общества. В итоге Бергер делает вывод, что современное общество разрушает традиционные религиозные институты путем плюрализма и субъективизации веры.
Р. Белла также говорит о подобном явлении – «приватизации религии», которая связана с ослаблением организации религиозных учреждений, т.е. с нецерковной религиозностью. Создавая свою теорию эволюции религии31, Р. Белла полагает, что с возрастанием сложности социальной организации религия обнаруживает способность не только укреплять существующие социальные структуры, но, изменяя сложившиеся нормы и ценности, способствовать дальнейшему развитию общества. Это относится и к секулярному обществу. Более поздние стадии эволюции религии свидетельствуют не только о растущей индивидуализации веры, но и о возрастающей автономии религии по отношению к социальной среде и ее увеличивающемся влиянии на социальное развитие. Он считает, что религия ныне вынуждена опираться не на потустороннее начало, а на этическую сторону жизни человека. И поскольку человек продолжает искать смысл существования, этот новый взгляд на мир также глубоко религиозен. Таким образом, секуляризации влечет за собой не ликвидацию самой религии, но изменение ее структуры и роли.
Т. Парсонс32 говорит о явлении индивидуализации религии, причиной которой считает секуляризацию общества, когда религия становится частным делом индивида. Он видит в этом положительную сторону: религия в результате закономерной «дифференциации общества» утрачивает прежнее значение его «священного образа», когда обоснованием светской власти служила ссылка на ее божественный источник, но с другой стороны, и сама по себе становится более значимой и независимой от государственной власти (в этом он разделяет мнение Р. Белла).
Итак, протестанты ИТ. Парсонс, и Р. Белла, и П. Бергер утверждают, что в процессе развития общества религия становится частным делом индивида, т.е. происходит дифференциация во взглядах на мир и плюрализация культуры. Они полагают, что таким образом религия не теряет значения, а ее влияние на мировоззрение и социальное поведение не уменьшается. Р.Белла отмечает положительный момент в развитии автономии религии, а П. Бергер отмечает серьезную опасность разрушения религии излишней индивидуализацией и плюрализацией.
В целом нельзя не заметить, что у авторов традиционных конфессий, как правило, встречается подходы к модернизации религии, связанные с внутренней и внешней эволюцией религии, которые имеют много общего и вместе могут называться богословским подходом. У протестантских авторов встречаются подходы к модернизации религии социологический и связанный с внешней эволюцией религии. Наличие подобных подходов у протестантских авторов объясняется тем, что протестантизм не сохранил в неизменности внутреннее содержание христианства, и внутренняя эволюция религии протестантским авторам может быть вообще непонятна. Поэтому такой взгляд на религию подобен атеистическому.
В связи с существованием религиозного модернизма возникает вопрос о границах возможных изменений, в рамках которых религия еще сохраняла бы свою целостность. И здесь можно выделить два подхода: – традиционно-богословский и социологический, связанные, соответственно, с традиционными или протестантскими конфессиями.
С одной стороны, если это вопрос традиционного богословия, речь идет о внутренней эволюции религии, т. е., как уже указывалось, о внутренней стороне религии (развитие, церковных догматов и канонов) или внешней (богослужения, таинства, обряды, изменение церковной и частной жизни священнослужителей мирян) ее стороне.).
С другой стороны, если речь идет о значительных изменениях в организации религии, и этот вопрос возможно рассматривать с точки зрения социологии религии. Такие изменения приводят к изменению отношений между религией и обществом, потому что могут произойти чаще всего в результате расколов, возникновения ересей и новых религиозных движений, которые являются крайними проявлениями религиозного модернизма.
Протестант П. Бергер33 определил, что в плюралистической ситуации человек стоит перед тремя возможностями выбора религиозной мысли – дедуктивным, редуктивным и индуктивным. Дедуктивный выбор предполагает возвращение к авторитету религиозной традиции в современной ситуации – человек смиряется перед богом, говорящим через Писание. Редуктивный (упрощенный) выбор подразумевает смену авторитета, критерием истины становится современное сознание. Индуктивный выбор предполагает обращение к собственному опыту, как основанию всех религиозных утверждений вне зависимости от объема опыта и количества выбранных традиций, – процесс оценки производится силами собственного ума, не желающего ограничивать поиск религиозной истины ссылками на какой-либо авторитет. Сам Бергер, как протестант, считает индуктивный подход к интерпретации религиозных истин, восходящий к либеральной теологии времен Ф. Шлейермахера, единственным способом преодоления секулярности современного мира. Тем не менее, он осознает и недостатки этого метода: «…такая открытость не знает конца и края, а потому без насыщения остается глубоко религиозный голод по достоверности»34.
Однако следует заметить, что традиционные конфессии, стремящиеся к сохранению внутреннего единства церкви, в своем вероучении индивидуальность человека не отрицают, но наоборот, только таким образом и появляется возможность развития религиозности подлинной, основанной на личном религиозном опыте человека, как отмечает русский философ И.А. Ильин: «… каждая церковь призвана к тому, чтобы растить, крепить и множить в своем составе людей самостоятельной любви, самостоятельной молитвы и самостоятельного делания. А это значит, прежде всего – людей самостоятельного Богосозерцания и подлинного религиозного опыта»35.
Религиозный модернизм, превратившаяся в крайность, может привести к деструктивным явлениям во внутренней и внешней организации религии и к полному ее уничтожению. Следует также отметить, что он, как и любое крайнее проявление, может быть очень опасен и для общества. Поэтому религиозный модернизм, также как и религиозный фундаментализм, некоторые исследователи рассматривают даже как форму экстремизма36.
Таким образом, подходы к христианскому модернизму могут быть разные, но каждый из них (независимо от конфессии) обозначает одну и ту же опасность: модернизм может быть для любой церкви и благом, и внутренней опасностью: привести к ее развитию или разрушению. Благом может стать т.к. не в формальном соблюдении обрядов, а только в индивидуальном религиозном опыте человек может найти источник своего духовного развития. И здесь индивидуализация общества не просто не может стать помехой развития духовности, но наоборот, только таким образом и появиться возможность развития духовности подлинной, основанной на личном религиозном опыте человека. Опасность для религии модернизм может представлять в крайних его проявлениях, которые приводят к возникновению ересей и расколов.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
См.: Григулевич И.Р. Папство. Век XX. – М.: Политиздат, 1978. – Т. Пий X – первый Папа XX века. – С. 109 –157.
2
См.: Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям ее презирающим. Монологи. Серия: Собрание Латинского Клуба. – М.: Refl-book, 1994.
3
Гарнак А. История догматов // Общая история европейской культуры / Под ред. Гревса И.М. и др. Т.VI. Раннее христианство. Отд.2. СПб.: Брокгауз Ефрон, 1911. – С. 222.
4
См.: Кант И. Религия в пределах только разума. – М.: Директ-Медиа, 2002.
5
Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии религии. Лекция пятая. – М.: Мысль, 1977. – С. 339.
6
Цит. по: Хегглунд Б. История теологии / Пер.с швед. В.Ю. Володин; Под ред. А.М. Прилуцкого. – СПб: Светоч, 2001. – С. 344.
7
См.: Тиллих П. Систематическая теология. Т. 1,2,3. – СПб.: Университетская книга, 2000.
8
См.: Бультман Р. Новый Завет и мифология. Проблема демифологизации новозаветного провозвестия. // Избранное: Вера и понимание. Т. 1 – 2. – М.: РОССМЭН, 2004. – С. 7 – 42.
9
Newman J.H. An Essay on the Development of Christian Doctrine. 1845. Электронная библиотека. http://www.newmanreader.org/works/development/index.html
10
Newman J.H. The Theory of Development in Religious Doctrine. Sermon 15. 1843. Электронная библиотека. http://www.newmanreader.org/works/ oxford/sermon15.html
11
Цит. по: Догматического развития теория / Православная энциклопедия. В 30-ти томах. Т. 15. – М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2007. – С. 359.
12
См.: Соловьев В.С. История и будущность теократии . / В.С. Соловьев Собрание сочинений в 10 т. Т. 4. – СПб.: Товарищество «Общественная польза», 1883 – 1887. – С. 214 – 583.
13
Соловьев В.С. Там же. – С. 293.
14
Соловьев В.С. Там же. – С. 333.
15
Соловьев В.С.. Там же. – С. 338.
16
Флоровский Георгий (протоиерей). Пути русского богословия./Протоиерей Георгий Флоровский. Предисловие И. Мейендорфа. – 4-е изд.. – Paris: Ymca-Press, 1988. – С. 311.
17
Карташев А.В. Свобода научно-богословского исследования и церковный авторитет. / Живое предание: Православие в современности: Сб. ст. – М.: Свято-Филаретовский институт. 1997. – С. 28-29.
18
Булгаков Сергий (протоиерей) Догмат и догматика / Живое предание: Православие в современности: Сб. ст. – М.: Свято-Филаретовский институт. 1997. – С. 23.
19
Флоровский Георгий (протоиерей) Кафоличность Церкви / Протоиерей Георгий Флоровский. Избранные богословские статьи.– М., 2000. – С. 152.
20
Лосский В.Н. Предание и предания / В.Н Лосский. Боговидение: Сб. ст. Минск: Издательство Белорусского экзархата, 2007. – С. 429 – 430.
21
Григорий Богослов, свт. Избранные творения. – М.: Издательство Сретенского монастыря, 2008. – С. 152.
22
См.: Цыпин В., прот. Каноны и церковная жизнь. Об актуальных проблемах правовой жизни Церкви. // Церковь и время. – М., 2000. №2(11).
23
Григулевич И.Р. Папство. Век XX. – М.: Политиздат, 1978. – Т. Пий X – первый Папа XX века. – С. 109-157.
24
Алипий (Кастальский-Бороздин), архим., Исаия (Белов), архим. Догматическое богословие: Курс лекций. – М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2005. – С. 30.
25
См.: Преображенский П., прот. Памятники древней христианской письменности. – Приложение к Православному обозрению. В 8 т.– т. 2. – М.: Катков и К0, 1866. – М.: Присцельс, 1997.
26
См.: Парсонс Т. Система современных обществ: Пер. с англ. Л.А. Седова и А.Д. Ковалева. / Под ред. М.С. Ковалевой. – М.: Аспект Пресс, 1998.
27
Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма / М. Вебер Избранные произведения: Пер. с нем. / Сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова; Предисл. П.П. Гайденко. – М.: Прогресс, 1990. – С. 117 – 196.
28
См.: Белла Р. Социология религии / Американская социология. М., 1972.
29
Бергер П. Религиозный опыт и традиция / Гараджа В.И. Руткевич В.Д. Религия и общество. Хрестоматия по социологии религии. – М.: Наука, 1994. – С. 211 – 228.
30
Бергер П. Секуляризация и проблема убедительности. Глава из кн: «Священная завеса» / Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. №6 (32). 2003.
31
См.: Белла Р. Основные этапы эволюции религии в истории общества / Религия и общество. М., 1996. – С. 665 – 677.
32
См.: Парсонс Т. Система современных обществ: Пер. с англ. Л.А. Седова и А.Д. Ковалева. / Под ред. М.С. Ковалевой. – М.: Аспект Пресс, 1998.
33
См.: Бергер П. Религиозный опыт и традиция / Гараджа В.И. Руткевич В.Д. Религия и общество. Хрестоматия по социологии религии. – М.: Наука, 1994. – С. 361 – 362.
34
Твм же. С. 362.
35
Ильин И.А. Аксиомы религиозного опыта. – М.: Русская книга, 2002. – С. 182.
36
См.: Кыржелев А. Современное религиозное сознание: между фундаментализмом и модернизмом // «Русская мысль», № 4272, 3 – 9 июня 1999 г.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов



