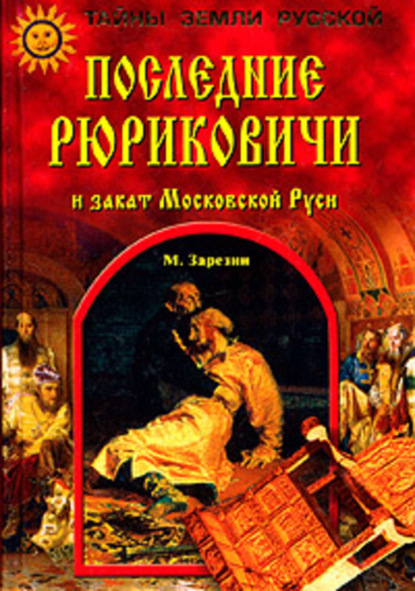 Полная версия
Полная версияПоследние Рюриковичи и закат Московской Руси
Тень черной вдовы
В первые годы пребывания Святогорца в Москве (1518 – 1521) в его творчестве преобладали богословские и нравоучительные произведения. На период с 1521 – 1525 годов, то есть с момента низложения Варлаама до соборного осуждения в 1525-м самого Святогорца приходится его публицистическое вмешательство в политическую жизнь Московской Руси. До разрыва Василия III с нестяжательским кружком Максим, как мы знаем, имел «свободный доступ» к великому князю. Все свои суждения относительно роли властителя Святогорец мог высказывать государю лично, и потому вряд ли имел надобность в письменных посланиях, тем более предназначенных для читающей публики. Но когда положение Максима и его друзей изменилось и Василия плотным кольцом окружили иосифляне во главе с Даниилом, нестяжателям не оставалось ничего другого, как апеллировать к государю и общественному мнению посредством публицистики.
И вот из-под пера Максима выходит «Послание к православным правителям об управлении и о том, чтобы они судили богоугодно и вместе милостиво». Послание адресовано к Василию, и, хотя автор обращается к высокопоставленному адресату непривычно интимно – «добрейший Василий, благородного корня благородная ветвь», трудно предположить, о каком православном правителе по имени Василий, кроме великого князя, может идти речь.
Очевидно, это произведение написано до расправы с Шемячичем и окончательного разрыва с государем, так как оно составлено в благодушном, нравоучительном тоне и содержание его не связано с актуальными событиями. «Земное же достохвальное и благочестивое царство украшает и ведет всегда к лучшему преуспеянию богодарованная премудрость благоверного царя, растворенная всякою правдою и кротостию, попечением о подчиненных и доброхотным расположением к нам» – так рассуждает автор «Послания..»[530]
После коварного и жестокого поведения великого князя в отношении Шемячича призывы к «правде и кротости» становились неуместными. Настало время не наставлений в добродетели, а нелицеприятных обличений. И вот появляется куда более резкое по тону «Слово, в котором пространно и с жалостию излагаются нестроения и безчиния царей и властей последняго времени». Уже из названия видно, что Максим не собирается советовать или взывать к добротолюбию, а бичует пороки современного царствования. Это не послание к конкретному лицу, а памфлет, обращенный ко всем добрым христианам. Сюжетную основу «Слова» составляет встреча путника, бредущего «по трудному и многоскорбному пути» с женщиной по имени Василия – Царственная:
«Это превосходное наименование я получила от Вышняго, так как владеющие мною должны быть крепостию и утверждением для подчиненных им, а не пагубою и постоянным смятением. Таково значение на греческом языке имени Василия». Пустынный путь, на котором состоялась эта встреча, «образует собой нынешний последний окаянный век, как лишенный уже царей благочестивых и опустевший ревнителями Отца моего небесного, ибо все ищут своих си, а не Божия.»[531]
К числу «неисцельных скорбей» Василии «принадлежит и то, что управляющие ныне мною, по причине великой своей жестокости, нисколько не принимают от своих доброжелателей полезных советов», – явный намек на опальных нестяжателей[532]. Далее Василия печалуется на то, что у нее нет таких поборников, «какие были у меня прежде»: «Нет у меня великого Самуила, священника Бога Вышнего, который дерзновенно встал против Саула, ослушавшегося меня; нет Нафана, который богомудрой притчей уврачевал царя Давида и избавил его от страшного падения»[533]. Далее следуют примеры прочих библейских и византийских героев, однако они являются развитием аналогии, а первые два библейских персонажа, пришедшие на ум сочинителю, явно имеют конкретные прообразы – митрополита Варлаама и князь-инока Вассиана Патрикеева.
Напомним, что одним из прегрешений израильского царя Саула стала бичуемая верховным пастырем иудеев Самуилом пассивность властителя по отношению к набегам амаликитян, которые, подобно татарам в южной части Руси, разоряли южные районы Ханаана, учиняли там грабежи и убийства, после чего исчезали в пустыне прежде, чем поспевала помощь (1 Царств. 15). Этот библейский эпизод перекликается с позорным поведением Василия во время набега Мухаммед-Гирея в 1521 году и его возможными столкновениями по этому поводу с митрополитом Варлаамом и Вассианом Патрикеевым. Кроме того, царь Саул в отсутствие первосвященника, по сути присвоив его сан, воздавал жертвоприношения Иегове. Разгневанный Самуил предрек конец его царствованию: «Господь найдет себе мужа по сердцу Своему, и повелит Господь быть вождем народа Своего, так как ты не исполнил того, что было поведено тебе господом» (1-я Царств. 13, 14). Максим явно указывал на противозаконное, в обход патриаршего благословения, совершенное по воле великого князя, поставление Даниила митрополитом.
Другой упомянутый Максимом ветхозаветный праведник пророк Нафан рассказал царю Давиду притчу о богаче, который, желая угостить путника, пожалел заколоть овцу из своего обширного стада, а отнял у бедняка его единственную овечку. Этой аллегорией пророк намекал на то, что царь вероломно взял к себе приглянувшуюся ему Вирсавию, предварительно подстроив гибель ее мужа Урии. Выслушав рассказ Нафана, Давид осознал глубину своего падения и искренне раскаивался. (2-я Царств, 12). Это уже явный намек на происходящее в Кремле непотребство: Василий решил под предлогом бесплодия избавиться от своей супруги Соломонии Сабуровой, чтобы жениться на молодой красавице Елене Глинской – «лепоты ради ея лица и благообразия возраста». Намек Максимов был тем опасен, что Господь поразил болезнью сына Давида, рожденного от Вирсавии.
Митрополит Даниил не собирался следовать Нафану: он не только не пытался отговорить великого князя от его намерения, но, поправ церковные и людские законы, благословил развод. Великая княгиня должна была отправиться в суздальский Покровский монастырь. Приведенная насильно в церковь для пострижения, Соломония растоптала иноческое облачение, отказалась произносить обеты, криком заглушала слова женщины, произносившей обет за нее. Тогда приближенный Василия III Шигона-Поджогин ударил княгиню плетью, чтобы она замолчала. Именно Соломония, против воли облаченная в монашеский черный куколь, вдова при живом муже, могла послужить Максиму прототипом его Василии, «одетой в черную одежду, приличную вдовам», горюющей в окружении хищных зверей. Позже Андрей Курбский описал Соломонию, как «зело нужную (испытывающую большую нужду. – М.З.) и уныния исполненную, сииречъ жену, ему Богомъ данную, святую и неповинную[534].
В исторической литературе время написания Максимова «Слова…» относится к периоду боярской замятии, когда ввиду малолетства Ивана IV власть переходила от одной партии к другой. В произведении Грека речь идет о «нестроениях и бесчиниях царей и властей последнего времени», однако эта множественность не обязательно подразумевает сменявшие другу друга в междуцарствие боярские группировки. Так, в «Слове» упоминаются еще «нестроения» византийских властителей, то есть пределы «последнего времени» распространяются на многие десятилетия. Греку, как и многим писателям того времени, вообще свойственно, отталкиваясь от конкретного случая, рисовать эпические полотна со множеством действующих лиц, обращаясь к истории разных времен и народов. Не исключено, что Святогорец мог написать «Слово…» еще при жизни Василия III.
Расправа
Даниил только искал повод, чтобы расправиться с Максимом. Он озлобил митрополита не только принадлежностью к противоположной партии: Святогорец выступил непосредственно против Даниила, считая его поставление «бесчинным», незаконным, без благословения константинопольского патриарха. Сторонники русской автокефалии приводили свои аргументы, слабо согласующиеся между собой. Один состоял в том, что святые места Востока и православные иерархи умалились, оказавшись «в области безбожных Турок поганого царя». Кроме того, в Москве указывали на то, что Константинопольский патриарх прислал благословенную грамоту, разрешающую самостоятельное поставление русских митрополитов. Правда, эта фантастическая грамота так и не нашлась, а на первый пункт Максим специально ответил «Сказанием о том, что не оскверняются святая николи же, аще и многа лета обладаеми суть от поганых».
Даниил исподволь, но настойчиво подготавливал дело против «высокоумничающего» богослова. Не без провокационного умысла он возложил на Максима послушание перевести Историю церкви Феодорита[535]. В эту книгу входят многие еретические тексты, и Святогорец не скрывал сомнений относительно полезности подобного чтения для русских читателей. Возможно, он заподозрил, что подобный заказ – уловка, которая позволит впоследствии выдвинуть против него обвинения. В любом случае ученый отнесся без особого рвения к заданию митрополита. Между тем иосифляне придирчиво просматривали сделанные Максимом переводы, выискивая все, что могло служить обвинениями в сознательном искажении, кощунстве или ереси. Оставалось ждать момента, когда противники Даниила своим нелицеприятным прямодушием прогневят великого князя, чтобы дать ход собранным материалам. Случай не заставил себя ждать.
Василий решил развестись с Соломонией Сабуровой. Трудно судить, как общественное мнение реагировало на замысел государя. Скорее всего, суждения были самые разные: кто-то жалел добродетельную Соломонию, но опасался распрей ввиду отсутствия прямого наследника, кто-то обличал Василия за плотские похотения и небрежение к христианским законам. Боярская дума поддержала намерение Василия исходя из государственных соображений и представлений о праве великого князя самостоятельно разбираться со своими «удельными» семейными проблемами. Однако развод вступал в противоречие с евангельскими заповедями и обычаями православной церкви. Даже угодливый Даниил не сразу решился дать разрешение на расторжение брака.
Реакция же нестяжателей была предсказуемой. Когда Василий пожелал узнать мнение Вассиана Патрикеева относительно своих матримониальных планов, князь-инок сравнил его вопрос с «вопрошением Иродиады о главе Иоанна Крестителя». Максим Грек обратился к Василию с наставлением, в котором убеждал его не покоряться плотским страстям: «Того почитай истинным самодержцем, о благовернейший Царь, кто управляет подданными по правде и по закону, а бессловесные похоти своей души старается преодолеть в себе. Кто же побеждается ими, тот не есть одушевленный образ Небесного Владыки, а только человекообразное подобие бессловесного существа»[536]. Последние слова Максима – злая пародия на пропаганду иосифлян, твердивших, что, хотя телесно самодержец подобен всем остальным людям, во власти он подобен Богу.
Поначалу кара обрушилась на боярина Берсень-Беклемишева. Ивана Никитича высоко ценил прежний государь, доверявший ему деликатные дипломатические поручения. Берсень участвовал в важнейших переговорах и при Василии, которому, правда, в конце концов надоели советы настырного и гордого боярина. Не сошлись они по вопросу «литовских дел» и споре вокруг смоленских земель. Видимо, прежний сотрудник Ивана Патрикеева выступил за союз с Литвой против Крыма. Для человека, всю жизнь находившегося в центре политических событий, удаление от двора стало страшным ударом. Он принялся укорять великого князя за «несоветие», «упрямство» и «высокоумие», а развод с Соломонией послужил поводом для еще более желчных обвинений.
Терпение Василия III лопнуло, и в феврале 1525 года Берсеня и его приятеля – дьяка Федора Жареного привлекли к суду. Максим был вызван на процесс в качестве свидетеля. Его келейник подтвердил, что к ученому ходили многие лица, толковали с ним об исправлении книг, а когда приходил Берсень, то Святогорец подолгу беседовал с ним наедине. Максим, не таясь, рассказал о крамольном содержании их бесед. Эту откровенность можно объяснить малодушием, или неспособностью, либо нежеланием лгать и изворачиваться под клятвой, но, безусловно, показания Грека повредили Берсеню, который был казнен через отсечение головы. Подвергся опале и другой критик развода с Соломонией Семен Федорович Курбский, муж праведной жизни, как и Берсень, всю жизнь верой и правдой служивший престолу.
Наконец дело дошло и до Максима Грека, который на сей раз стал не свидетелем, а главным обвиняемым на соборе в присутствии великого князя, его братьев, митрополита, архиереев и бояр. Письмо Даниила от 24 мая 1525 года называет две главные причины церковного осуждения Максима: «хулу глаголяша на Господа Бога…. иже взыди на небеса и седе одесную Отца» и о «поставлении митрополитов развращаше множество народов… яко не подобно есть поставляться митрополиту на Руси своими епископы»[537].
На суде Михаил Захарьин поведал собравшимся легенду о «римском» учителе Максима, уклонившемся вместе с учениками в «жидовство» и сожженном по приказу римского папы. Похоже, что в представлении боярина смешались смутные известия об осуждении Савонаролы с еще более смутными сведениями, возможно касавшимися жизненного пути Абулафии, который во время пребывания в Италии по приказу папы Николая III был брошен в римскую тюрьму.
Обвинители на процессе 1525 года с особым пристрастием указывали на то, что переводя предложение «Христос седе одесную отца», Максим использовал прошедшее время – «седев». Святогорец указывал на грамматическое значение указанных слов, которые значились в прошедшем времени, оправдывал ошибки недостаточным знанием славянского языка, умолял о помиловании, но его осудили как еретика и нераскаявшегося грешника и отлучили от Святого причастия и хождения в церковь.
Осужденного тайно вывезли в Волоцкий монастырь (а куда же еще!) для покаяния и исправления, запретили сочинять и с кем-либо переписываться. В качестве надсмотрщика к Святогорцу приставили некоего старца Тихона, а «духовного отца» – старца Иону. Питомцы Иосифа в качестве основных орудий исправления грешника использовали «голод, и холод, и смрад, и угар», которые терпел Максим в своей тесной келье. Впрочем, ради справедливости отметим, что какие бы притеснения не испытал Максим на своем мученическом земном пути, судьба была к нему более благосклонна, нежели к его кумиру – Джироламо Савонароле. Московские иерархи все же уступали в жестокосердии своим итальянским коллегам.
Глава 9
ПОД ТЯЖКИМ БРЕМЕНЕМ ТЕРПЕНИЯ
Наши же предстоящие, владея множеством церковных имений, только и помышляют о различных одеждах и яствах; о христианах же, братиях своих, погибающих от мороза и голода, не прилагают никакого попечения…
Вассиан ПатрикеевНо, увы, уже в нынешние времена многие начальники о своих подданных и сиротах не заботятся, позволяют угнетать их лживым наместникам, об охране должной препорученного им стада не радеют, под тяжким бременем терпения жить своих подданных оставляют.
Федор КарповЗавещание Василия III
Отныне, после насильственного пострижения Соломонии Сабуровой в Покровский Суздальский монастырь, Василий и его семья оказались в плотном кольце иосифлян. Даниил занял место митрополита Варлаама, а родственник Иосифа – Вассиан Топорков заменил своего тезку князь-инока Патрикеева на вакантной позиции «великого сохлеб-ника» государя. Эти святые отцы активно содействовали Василию в бракоразводном деле. Впрочем, они усердно потворствовали не только матримониальным устремлениям государя, но и тешили его самолюбие, возвеличивая его власть, усердно взращивая самодержавную идеологию в духе своего незабвенного учителя.
По словам императорского посла Сигизмунда Герберштейна, «из советников, которых он имеет, ни один не пользуется таким значением, чтобы осмелиться разногласить с ним или дать ему отпор в каком-нибудь деле. Они открыто заявляют, что воля государя есть воля Божия и, что ни сделает государь, он делает по воле Божьей. Поэтому также они именуют его ключником и постельничьим Божиим; наконец, веруют, что он – свершитель Божественной воли. Отсюда и сам государь, когда к нему обращаются с просьбами за кого-нибудь пленного… обычно отвечает: «Если Бог велит, то освободим»[538].
Герберштейн приезжал в Москву дважды. Первый раз в 1517 году, когда иосифляне уже теснили нестяжателей при дворе, и второй раз – в 1526 году, когда они торжествовали окончательную победу. Именно воспоминания о второй поездке легли в основу записок Герберштейна. В частности, дипломат замечает, что целью его визита в Москву было посредничество в подписании мира между Русью и поляками, а именно этим занимался посланник императора в 1526 году в Москве. Описывая политические воззрения кремлевских обитателей, Герберштейн имеет в виду не русских бояр или придворных великого князя вообще, а, как явствует из текста, конкретных людей – «советников, которых он имеет», то есть достаточно узкий круг приближенных, хотя почему-то этот отрывок историки обычно приводят в качестве иллюстрации настроений всего русского общества.
Возможно, тому виной следующая сентенция автора – «народ по своей огрубелости требует к себе в государи тирана, или от тирании становится таким бесчувственным»[539]. Но подобное морализаторское обобщение скорее дань литературным вкусам эпохи, чем попытка вскрыть российские социальные язвы. Стоит отметить, что не советники поддакивают государю, скорее он повторяет вслед за иосифлянами: «…отсюда и сам государь..»
Появление на митрополичьей кафедре Даниила не принудило князь-инока Патрикеева к молчанию. В последующие годы, уже после смерти Иосифа в сентябре 1515 года Вассиан начинает работу по осмыслению исторических судеб православного монашества. Так появляются на свет первые редакции «Собрания некоего старца», своеобразного указателя текстов Священного Писания и предания, обосновывающие необходимость строгого соблюдения монашеского обета как рядовыми иноками, так и церковными иерархами[540]. Столкновение Вассиана с учениками Иосифа в полемической форме выразилось в «Слове ответном» (1523 – 1524). Здесь князь-инок снова ратует за милось к оступившимся и протестует против того, чтобы «позволять монахам стяжать села многолюдные и порабощать крестьян-братьев, и у них отбирать серебро и золото неправедное, в миру еще обращающееся»[541].
Спор с главой русской Церкви заставил Вассиана ускорить работу по составлению «нестяжательской» кормчей. По мнению А.И. Плигузова, внутри этого этапа полемики и сформировалось учение Патрикеева о нестяжательности монашеских корпораций, причем Вассиан начал свои размышления о монашеском «обещании» с менее радикальной постановки вопроса, предусматривая сохранение монастырских сел и передачу управления ими в руки святительских кафедр. Постепенно наметилась эволюция учения князь-инока в более радикальную программу, не останавливающуюся перед изъятием монастырских населенных земель[542].
Между тем сторонники Вассиана продолжали терять свои позиции при дворе. В 1523 году представитель рода Патрикеевых видный военачальник Михаил Щенятев лишился должности, а позже отправился в почетную ссылку в Кострому. Когда зимой 1525/26 год происходил розыск государевой невесты, указывалось, чтобы она не была «в племяни» Щенятьевых[543]. Не случайно Вассиан именно теперь обратился к теме ограничения монастырского землевладения – по сути дела это была плохо скрытая провокация. В это время нарастает напряжение в отношении великого князя с братом Юрием, который, как известно, поддерживал добрые отношения с волоцкой обителью и слыл защитником церковного имущества. Отметим, что Иосиф, имея в виду данное обстоятельство, осмелился затронуть опасную тему монастырских стяжаний только однажды, в момент своего наибольшего влияния при дворе – в 1510 году. В письме к дьяку Третьякову он сетовал: «А того нив древних царех, нив князех православных, нив тамошних странах, ниже в нашей Рустей земи не бывало, что церкви Божия и монастыри грабити, бояхуся бо ся Господа Бога и иже от священных правил положенные клятвы на обидящих Божия церкви»[544].
Вассиан понимал, что в свете конфликта великого князя с братом вступление иосифлянского митрополита в полемику о церковных стяжаниях может стоить тому святительского жезла. Тем горячее становились его нападки на пороки монастырской жизни. Но Даниил, не хуже Патрикеева осознававший грозящую ему опасность, стиснув зубы, молчал. Тем более Вассиан, в отличие от Максима Грека, остался при дворе, что, правда, не означает, как считал Е.Е. Голубинский, что на самом деле князь-инок не протестовал против брака Василия с Еленой Глинской[545]. Очевидно, до поры до времени великий князь остерегался давать полное преимущество одной из группировок и, с осторожностью присматриваясь к иосифлянам, видел в Вассиане противовес их устремлениям.
А любостяжателям не терпелось расправиться со своими давними противниками. Назначенный в марте 1526 года Даниилом ростовский архиепископ Кирилл решил вмешаться в жизнь заволжских старцев, для чего направил своих приставов в Нилову пустынь. Вассиану пришлось обратиться с жалобой к государю, который выдал жалованную грамоту насельникам Нило-Сорского скита, подтвердив их неподсудность ростовскому владыке[546].
В семейном кругу
Даниил благословил второй брак великого князя и сам совершил богослужение в день венчания Василия и Елены Глинской 21 января 1526 года. Любопытно, что на свадьбе отсутствовали многие «выезжане» – двое Вельских, Мстиславский, Воротынский, не было и Шуйских, зато в наибольшем количестве на пир были приглашены Захарьины. Вместе с разоблачителями Максима Грека М. Захарьиным и М. Тучковым пировали их дети, а также окольничьи И. Ляцкий-Захарьин и В. Яковлев-Захарьин[547]. Им было что праздновать. Окончательному реваншу старомосковских бояр мешало одно препятствие. Одно, но немаловажное. Шло время, а у молоденькой Елены все еще не было детей. Это печальное обстоятельство великий князь мог расценить как кару, постигшую его за поступок с Соломонией, особенно после того как по Москве разнесся слух, будто в монастыре отвергнутая жена – теперь инокиня Софья родила сына Георгия[548]. Москвичи, недовольные новым браком государя, охотно верили в эти рассказы. Что говорить про простонародье, если сам Василий отрядил дьяков в Суздаль разузнать, что же на самом деле там произошло.
Иосифляне понимали, что если Елена останется бесплодной, то благорасположение к ним великого князя сменится гневом, который обрушится на потаковников его падения. Василий страстно привязался к молодой жене и вряд ли готов был попрекать ее бесплодием – удаление Соломонии было его грехом, от последствий которого теперь страдала любимая супруга. Даниил и его соратники срочно взяли инициативу в свои руки. Василий и Елена принялись совершать паломничества по разным святым местам в надежде вымолить у Господа первенца: были они у Тихвинской Божьей Матери, в Ярославле, Ростове. Сопровождал великокняжескую чету выученик Иосифа архиепископ Новгородский Макарий. Но паломническое рвение было вознаграждено только после того, как царственные супруги помолили о заступничестве преподобного Пафнутия Боровского.
И вот радостная весть – Елена забеременела. Заметим, что супруги в декабре 1528 года побывали и в Спасо-Каменном, и в Кирилло-Белозерском монастыре, однако пребывание в заволжских обителях оказалось безрезультатным. И только после поездки в Боровск к могиле Иосифова учителя сокровенное желание сбылось. Перед праздником Усекновения главы Иоанна Предтечи 25 августа 1530 года Елена разрешилась от бремени. Восприемниками новорожденного стали монахи-иосифляне Кассиан Босый и Даниил Переяславский. Получается, что любостяжатели оказались «соучастниками» и зачатия, и рождения будущего Ивана Грозного.
Не исключено, однако, что роль иосифлян в появлении на свет Ивана не ограничивалась духовным окормлением. Мы имеем в виду те злые языки, которые и тогда и много лет спустя указывали на то, что сын Василия появился на свет не благодаря чудодейственному споспешничеству святого Пафнутия, а мужскому усердию князя Ивана ОвчиныТелепнева-Оболенского. Действительно, Василий, проживший бездетно почти четверть века с одной женой и четыре с другой, дает основание быть заподозренным в бесплодии. Молодой князь Овчина-Телепнев принимал участие в свадьбе великого князя и даже был в числе знатных особ, которые ходили по обычаю вместе с молодым супругом в мыльню, где ему пришлось «колпак держать, с князем в мыльне мыться и у постели с князем спать». Так что князь изначально был близок к государевой опочивальне. Связь Овчины-Телепнева с молодой вдовой стала очевидной для окружающих сразу же после смерти Василия. Скорее всего, что она началась еще при жизни государя. Но, как мы уже говорили, видные иосифляне после женитьбы великого князя на Елене Глинской оказались в роли членов его молодой семьи. Ничто не могло пройти мимо этих искушенных соглядатаев. Как же они не могли заметить преступного сближения великой княгини и молодого придворного?
Вы ознакомились с фрагментом книги.



