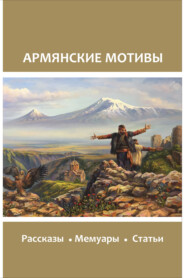 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Армянские мотивы

Художник Галина Адамян
Домов в Хндристане много, но почти все люди знают друг друга по-соседски или даже являются родственниками. Интересно и расположение домов – по дворам династий. Почти все родственные семьи живут рядом. Так были построены дома ещё несколько веков назад. Братья строили дома на одной улице или селились в одном общем дворе, как у нас. Сами дома в деревне выстроены так, что с одной стороны они стоят своим первым этажом на земле, а с другой стороны, где гора спускается ниже, тот первый этаж выглядит уже вторым, а под ним ещё этаж и двор. Первый этаж со двора – это нижний дом, или «нерки тон», как здесь принято его называть. Чаще всего этот нижний этаж не жилой, он гораздо прохладнее, чем верхний, сделанный по современным деревенским стандартам. В стенных стеллажах нерки тона наша бабушка хранит консерванты собственного приготовления, а также свежие продукты – молоко, овощи, фрукты, даже запас свежеиспеченного хлеба, тесто для которого готовится как раз здесь, в нижнем доме, на огромном старомодном дастархане красного дерева. Мы с сестрой и кузинами любим наблюдать и помогать бабушке в приготовлении хлеба. Мы лепим из теста несколько колобков средних размеров, которые потом отлёживаются на больших деревянных подносах, аккуратно покрытые длинными белыми полотняными полотенцами, похожими на рушники с яркими узорами по краям. Положив на плечо, эти длинные подносы с тестом уносят к печи. А печёт бабушка хлеб в беседке за домом, в глубокой круглой яме, отделанной изнутри плоским булыжником. В нашем селе эти печи, похожие на небольшие колодцы, называют «турун» (что в Армении – «тонир»), а испечённый там хлеб – «турнав хац». Чаще всего они пекут вместе, собрав у туруна несколько женщин нашего «таха» – родственных дворов. Это довольно сложный процесс, его не передать словами, в нём надо участвовать. Запах свежего деревенского хлеба, приготовленного на дровах или древесном угле, и сам его вкус делают его особенным и неповторимым у каждой мастерицы. Дома такой хлеб испечь невозможно, хотя можно какой-нибудь другой. Конечно, жаль, что старинный камин, выступающий вперед полукруглым козырьком из серого камня, который был врезан в правую стену нашего нерки тона несколько веков назад, теперь бездействует. В нём больше не готовят еду и им не отапливают помещение, как это было ещё в детстве папы. Сегодня камин представляет собой лишь музейный экспонат нашего таинственного дома. Тайны есть и на чердаке дома, где хранятся лекарственные травы и приготовленные бабушкой для нас сухофрукты и пастила – о, это отдельная история. Но самое важное бабушка хранит в ящике старого шифоньера – дедушкины медали с Великой Отечественной войны и, святая святых, – ободок с армянского национального головного убора её матери и нашей прабабушки Саням, отделанный серебряными николаевскими монетами и длинными чеканными бусами.
Не могу не рассказать о том, как нам всем нравится, когда бабушка готовит деревенское масло. Совсем как в древности, раскачивая вперёд и назад свисающий на верёвках с потолка (будто колыбель ребёнка) длинный бочонок «хнеце», наполненный домашним мацони, мы добываем масло. Для нас, детей, это особое развлечение – не только взбивать домашнее сливочное масло, но и пить прохладительный напиток «тан» или пахту, которая сливается через открытую дырочку в бочонке-хнеце после получения продукта. Другое любимое дело – снимать пенку с ежевичного варенья, которое готовится во дворе в огромном эмалированном тазу, стоящем на чугунном кольце с растопыренными ножками прямо над костром. А перед этим надо ещё сходить за ежевикой в горные долины, которые виднеются из нашего балкона и кажутся живой зелёной картинкой с солнцем в ярком голубом поднебесье.
Ежевику мы приносили домой переполненными бидонами, закрывая собранный урожай листьями с кустарника лесного ореха «ктохен», чтобы сорванная ягода не краснела от яркого солнца. Мы прокалывали эту импровизированную зелёную «крышку» бидона стебельками сорванных нами целебных полевых растений, чтобы та не слетала по пути и держалась до самого дома. Набрав в железную кружку последний сбор ягод, мы, как правило, угощали им односельчан, встречавшихся нам на обратном пути. Мы не могли пройти мимо, не сказав им «добрый день, угощайтесь». И они благодарили нас, не забыв спросить по-армянски, чьих мы будем, если вдруг они нас не узнавали сразу. Мы с сестрой или кузинами обязательно отвечали тоже по-армянски, рефлекторно, даже не задумываясь над тем, что говорим: «Баба-Аханц Джавада внучки», и тут же слышали в ответ восторженные эпитеты в адрес нашего дедушки, того самого, к которому за советом приходили все, включая новых председателей села, и который был главным гостем на любом торжестве односельчан. Тогда они гадали, чьи именно мы дети – Джавада сыновей или же дочерей? И мы весело представлялись им, объясняя, «чьих мы есть».
… Помню, маленькой девочкой, прогуливаясь с папой по каменистым деревенским улицам, я слышала приветствия со всех сторон и видела, как люди чуть преклоняли головы, здороваясь с ним. Я не понимала, почему они так делают.
– Папа, ты говорил, что обычно тех, кого меньше, здороваются первыми, подходя к большой группе людей или проходя мимо. Или те, кто младше. А мы не успели с тобой подойти к ним, как эти люди уже издалека стали выкрикивать приветствия. А некоторые даже преклоняют головы. Почему?
Я навсегда запомнила эту нашу беседу с ним, она меня определённо озарила новыми познаниями о своей старинной семье и о правилах поведения на будущее. Удивление моё было связано и с тем, что некоторые из людей, приветствующих нас первыми, были старше папы. Это было на всём протяжении нашей с ним прогулки по деревне, начиная снизу, от старинного кладбища – «герезманотс» и до нового кладбища на горе, в конце деревни. Стояли ли эти люди группой у нашей знаменитой шелкомотальной фабрики или у старой мельницы, у больницы или у деревенского клуба, возле школы, детского садика или «купратива» (кооператива, а точнее – магазина), а, может быть, у ворот чьего-то дома, в момент нашего с папой появления там, – все старались громко поздороваться с нами. И хотя папа и сам здоровался в ответ и посылал им поклоны, они это делали первыми, будто стараясь опередить его.
Это от уважения, в деревне принято с уважением относиться друг к другу.
– Но там были старики. Они тоже тебе кланялись первыми, здороваясь.
– Они кланялись не только мне, они кланялись всему моему роду. Нашему роду.
– Но ведь здесь сейчас только мы с тобой, больше никого нет из нашего рода.
– Это не имеет значения. Эти старики знали моего дедушку, они знают моего отца и меня. Их отцы знали моего прадеда. Люди передают друг другу свою память. Уважение тоже передаётся, а чтобы оно продлилось дальше, его надо не потерять.
– Значит, ты не потерял? – я уставилась на папу.
Папа усмехнулся:
– Нет, не потерял. Я стараюсь помогать селу всем, чем могу. Помогаю отдельным людям.
– Кому?
– Тем, кто просит о помощи. Мы с мамой всегда стараемся помочь. Мама лечит детей и здесь и в Степанакерте, если нужно. К ней приезжают из других мест тоже. Ты же знаешь, она не отказывает заболевшим, хотя и находится в отпуску, на отдыхе.
– А я? А маленькая Ида?
– И вы не должны потерять уважения к себе. Когда вы подрастёте, вы тоже сможете помогать тем, кто нуждается. Сможете участвовать в помощи деревне.
– Я тоже не потеряю. Я обещаю, – радостно ответила я.
Теперь я знала, что своим поклоном односельчане посылают нам свою признательность. Если люди друг друга уважают, они здороваются с небольшим поклоном.
– Значит, ты этих людей тоже уважаешь?
– Да. В деревне есть много достойных уважения людей.
– Ты тоже кланяешься?
– Да, конечно. А ты сама попробуй сказать «барев дзес» без поклона, у тебя даже и не получится.
Я повернулась к отдаляющейся толпе идущих с работы односельчан и громко поздоровалась:
– Барев дзес! – моя голова склонилась сама уже на первом слоге.
Я восторженно посмотрела на папу, он был прав, голова опустилась.
– Барев, матах, барев, – послышались голоса мне в ответ. – Барев, Шуран ахчик.
– Барев дзес! – я поспешила первой поприветствовать приближавшихся к нам мужчину, несущего косу на плече, и женщину с корзиной овощей.
– Барев, матах, барев, ахчик джан, – ответили они оба, улыбаясь мне и приветливо кланяясь папе. Вдруг, поравнявшись со мной, женщина достала из корзины три початка кукурузы, плотно обернутых в зелёные листья, с торчавшими из них рыжеватыми волосинками, и весело произнесла:
– Шуран ахчик, возьми. Отдашь их Азгюль бабо, пусть сварит их для тебя.
Я подняла голову к папе. Он улыбался и благодарил односельчан, что означало – можно брать.
– Шноракалюцун, – еле выговорив длинное слово благодарности, ответила я, забирая себе три кукурузы. Конечно, бабушка сварит их нам. Хотя у нас есть и своя кукуруза, но это тоже хороша, это подарок.
– Почему они зовут меня «Шуран ахчик»?
– Не все знают, как тебя зовут, но все знают, что ты – моя дочь, – объяснил папа. – Это всё равно, как если бы они тебя называли по отчеству – Александровна. Просто эти люди знают меня с рождения, когда я был ещё Шурой, а не Александром. Им так привычнее.
Мне понравилось, что меня называют «Шуран ахчик», без имени. Я загордилась. Это означало, что все знают, чья я дочь и чья я внучка. «А раз односельчане уважают моего прадедушку, дедушку и папу, значит теперь уважают и меня», – думалось мне. Я была счастлива. Я была ужасно горда тем, что мою семью уважают. И мне хотелось уважать их всех, здороваться и непременно опускать голову, говоря «барев дзес».
… Но теперь я постарше и мне покоряются природные высоты. Погода стояла солнечная и от нечего делать, я покоряла тутовое дерево в нашем дворовом саду.
– Ляля, спускайся вниз. Почему ты всё время так высоко взбираешься? Там же ветки совсем тоненькие, хватит уже, спустись!
– А внизу я уже всё оборвала, там нечего есть.
– Как нечего? Вот же, смотри, – мама показывала рукой на низкие ветки тутовника, прогибающиеся под тяжестью плодов над деревянным садовым столом с лавками.
– Это для Иды, она достанет, если поднимется на скамью.
– А тебе надо соревноваться с птицами. Иначе ты не можешь, – недовольно сказала мама.
– Могу. Просто когда ребята трясут тутовое дерево, они обычно стоят посередине, где дерево расходится, а на самый верх не лезут. Раз до этих веток их дубинка не достаёт, значит эти ветки мои. Ну и птичек, конечно.
Довольно улыбаясь, я продолжала уплетать тутину за тутиной, закидывая некоторые из них в маленькую корзиночку на ветке.
– С тобой бесполезно говорить.
– Правильно. Лучше вот, лови! Посмотри какой огромный! Подставь ладони, – крикнула я маме, бросая вниз большой, с мизинец, белый сочный плод шелковицы.
Поймав в лодочку ладоней тутину, мама уставилась на неё во все глаза:
– Действительно, огромная ягода, – удивлённо сказала она и, развернувшись к дому, крикнула младшей сестре, сидевшей на балконе нашего дома:
– Боби джан, иди к нам! Посмотри, какой огромный у меня белый тут! Но недождавшись ответа сестры, мама сама направилась к дому.
– Ты где? – позвала она её, стоя под нашим квадратным балконом между комнатами и верандой.
– Я не могу, – ответила Ида, выглянув с балкона. – Я помогаю бабуле чистить овощи. Она будет готовить лоби с тыквой и помидорами. И ещё нам надо раскатать тесто и нарезать кучу зелени, мы с Галей будем делать «женгялов хац»[7], – важно заявила сестра, страстная любительница кулинарии, пожалуй, с рождения.
Мама поднялась на второй этаж.
– Держи, – сказала она, протягивая сестре огромную тутину.
Ясное дело, она сама её не стала бы есть, берегла такое чудо природы для Боби.
– Ляля мне это бросила с самой макушки дерева, – сказала она, и вымыв руки, присоединилась к стряпне.
– Опять она на небо залезла, – услышала я с верхушки тутовника бабушкино армянское ворчание. – Коза э-э, настоящая коза! Я ведь сказала, сегодня трясти будем, зачем было лезть? Пусть лучше соберёт своих ребят, чтобы «ктав»[8] держали под деревом. И здесь потрясём и в Кярихохском саду тоже. Вон он, мой свеженький «ктав» на «чапаре»[9] растянут, смотри – любуйся, пусть сердце радуется… Пожалуй, подсох уже. Наш частокол длиннее «ктава», я его весь растянула на нём, ни одной морщинки нет. А как же? Держать будет приятно, когда свежий «ктав». Разве я неправильно говорю? Поэтому я с рассветом встала и липкий «ктав» на речке хороше-э-э-нечко постирала. Теперь он опять как белая свадебная скатерть. Чистый-блистый! А кто мне мог помешать? Никто! До восхода встала и пошла. Ещё наш петух не успел прокукарекать, а я уже направилась в Кярихох, открыла ворота, вошла во двор – тишина. Зашла в сад, прошла к хлеву, открыла двери, выпустила животных во двор. Пусть соль полижут, как всегда. Сено пресное, кому будет вкусно, если жевать пресное сено? Неправильно я говорю?
– Никому не будет, – вставила Ида. – Мне нравится, когда корова этот солёный камень лижет. На нём уже ямка видна. И телёнок тоже, и ослик лижет.
– Всем нравится соль.
– Мама, ты ещё им перец добавь, совсем понравится, – сказала Галя, папина младшая сестра, и все засмеялись. Она была намного моложе папы и мы её никогда не называли тётей, хотя она была уже учительницей.
– Вета, матах, ты слышишь? Не забудь про своих ребят, скажи им, пусть зайдут «ктав» подержать. Пусть наш Карен потрясёт дерево, – крикнула мне бабуля.
– Хорошо, бабуль. Позову всех, – ответила я с кроны дерева, продолжая наслаждаться тутовыми ягодами, откладывая самые лучшие в висящую на ветке корзиночку, чтобы отнести домой для всех.
За оградой послышался шум сбегающей с верхней части деревни не одной пары быстрых ног. Я пригляделась – мои.
– Ты идёшь? – крикнула мне Валька, подойдя к забору.
– Вы на родник?
– Куда ещё, – она подняла свою тару.
– Ладно, сейчас.
– Догоняй! – крикнула она, помчавшись вслед за остальными.
Я спустилась с дерева и зашла в наш нижний дом, где находилась посуда для чистой воды. Я стояла в раздумье – брать свой большой бидон или деревянный «кож»[10], к которому я давно присматривалась. Он не такой уж и большой, похож на маленькую бочку с зауженным горлышком, с опоясывающими её металлическими кольцами и длинной ручкой, как у кувшина. Рядом стоял и Галин «кож» – высокий, медный, но с этим я бы не справилась, пожалуй. Он и пустой был довольно-таки тяжёлым. Схватив деревянный «кож», я вышла из нижнего дома и, крикнув своим: «Я на родник»! – поспешила к роднику по каменистой тропе.
Мои друзья уже наполняли свои бидоны и ведра, когда я появилась у воды.
Пробежав по старому деревянному мостику, я присоединились к ним. Дождавшись своего черёда, я сполоснула платочек, служивший кляпом для «кожа», а затем и сам «кож», и подставила его набираться под свободную струю. Пока все решали, чем нам всем заняться сегодня, я скинула «вьетнамки», и вошла в ручеёк, образованный падающей родниковой струёй. Студёная вода тут же поглотила мои стопы, но при дневной жаре это доставляло удовольствие. «Нерки ахпюр», то есть нижний родник, каменный фронт которого имел выбитую надпись на армянском языке, был нашим любимым родником, он был в черте деревни, в ущелье. Много родников было и в лесах, некоторые из которых были открыты моими прадедами и прапрадедами. Сельчане знали их расположения лучше меня. Возле них часто проводились пикники. Одним из популярных и сегодня остаётся «Даллякянц ахпюр», то есть родник цирюльника, открытый моим прадедом Петросом, отцом бабушки Азизгюль. А другой – «Аби-Апан ахпюр» – был открыт Айрапетом, отцом деда Джавада, которого все называли Аби, уважительно добавляя «апа». Этот родник находится далеко в лесу, там, куда по легенде на своих плечах перенёс его вместе с горой мой прадед, от тяжести оставляя на камнях глубокие следы своих ног. Деревенские так и назвали эти вмятины в скале «Аби-Апан хетеры», то есть «следы Аби-апы». Это был тот случай, когда своим добрым героям народ присваивал образы сказочных великанов. А может, он, действительно, был так велик, кто его знает? Папа и дедушка тоже были довольно большими, не зря же папа отслужил четыре года в морфлоте, а дедушка был на фронте в Великую Отечественную.
– Ты взяла «кож»? – вдруг обратив внимание на мой кувшин, сказала Люда. – В нём почти два ведра воды. В гору будет тяжело нести.
– Честно говоря, я не видел, чтобы дачницы брали «кож», – с некоторым недоверием произнёс Вова, который уже набрал два бидона.
– Ну, значит, я буду первой. Я не думаю, что деревенские девчонки сильнее нас, – убедительно ответила я, затыкая горлышко «кожа» тряпичным кляпом.
– Ну, нашей спортсменке всё по плечу, – весело сказала Люда, набирая свой бидон.
– Что, не дотащу что ли? – рассмеялась я.
Валя оценивающе примерилась к моему деревянному кувшину.
– Не-а, – сказала она.
– Надо было взять мягкое полотенце для плеча, так деревенские делают, – сказала Ритка.
– Точно. Иначе он отдавит твои городские косточки, – вставила Люда.
Девчонки явно подтрунивали надо мной за смелость казаться деревенской.
– Они шутят, конечно, – вдруг улыбнулся мне Сергей. – Я уверен, что ты справишься. А не справишься – помогу.
Девочки переглянулись, сдерживая смех.
– Вот ещё. Донесу сама, можешь не волноваться, – дернула я плечом, надевая «шлёпки» на мокрые ноги. Но мне определённо нравилось, когда он говорил что-нибудь именно мне. Правда, я жутко краснела от этого.
– Ой, ребята, чуть не забыла, бабушка просила помочь подержать «ктав». Карен будет трясти тутовник в саду Карихоха. Приходите туда, будем ждать.
– Оставим воду дома и придём, – ответила за всех Люда.
– Тогда помчали? – предложил Сергей.
– Помчали, – ответила я, поняв, что он придёт помогать.
И куда девался вес наполненного водой «кожа»? С размаху водрузив его на правое плечо, я неслась в гору, к себе домой, будто на меня не давили почти два ведра родниковой воды.
… Не так давно, незадолго до своей кончины, моя младшая сестра, та самая маленькая Ида Мелик-Мирзахан, историк и музыкант, на свои средства провела трубопровод от прадедушкиных лесных родников до деревни. Теперь эти родники дошли до центра Хндзристана и других его мест. «Вода должна быть общей», – как говорил наш папа. Сегодня кристально чистой, студёной водой может утолить жажду любой житель нашего родного села, а также его гости. Идин родник стоит и на «новом» кладбище. Возвращаясь в село, можно умыться и попить живой воды. На здоровье!
Звёздное небо над головой
Юре

Владимир Душский. Россия, г. Москва
Родился в 1941 году и всю жизнь прожил в Москве. Окончил механико-математический факультет МГУ. Кандидат физико-математических наук. Трижды, принимая участие в научных конференциях, посещал Армению. Около 50 лет преподавал математику в московских вузах. Параллельно сочинял. Являюсь автором трёх книг, изданных в России; несколько рассказов опубликованы в США и Германии. В настоящее время на пенсии.
Предоставленная самой себе, ложка лениво собирала со дна остатки вконец остывшей каши, а из головы всё не шло вчерашнее письмо. Мать, конечно, бодрилась – «ты не волнуйся, у нас всё в порядке…» – но, как только речь заходила о деле, всё оказывалось совсем наоборот. С продуктами всё хуже, вот только «заказы» порой достаются. В пионерлагере, где Ленка, их накормили какой-то дрянью, так три дня в туалете народу, как на митинге, было. Митинги, понятно, своим чередом, только сыт ими не будешь. Да и у Бориса с кооперативом ничего толком не светит. Странно, пишет, он ведь такой серьёзный человек! Напротив, странно было бы, если б у них там дело пошло. Ведь вся его жизнь – в НИИ, где годами исследовалось, что было бы, если бы вообще ни хрена бы не было. При том, что отчим неплохой человек и поговорить с ним порой интересно – только это не продаётся! Вернусь – придётся за дело браться всерьёз – не стройотряд какой-нибудь, а постоянно, с нормальной зарплатой. Пора «брать на себя»…
– Да ты слушаешь, что тебе говорят?! Как нога, спрашиваю!
Нога болела. И, пожалуй, сильней, чем вчера.
– Да ничего, вроде…
– Только вот морда лица твоего…
– При чем здесь морда, если речь о ноге?! Пройдёт. Не сегодня, так завтра.
– Говорят, хорошо б подорожник…
– Надо было с самого начала, как только…
– А у нас в походе, если кто захнычет, так командор к нему подходит, руку ему на плечо, значит, и говорит – проникновенно так, душевно: «Послушай, тебя, может, пристрелить, чтоб не мучился?» Помогало!
– Так Макс же не хнычет, наоборот!
– Боится, что пристрелят!..
Миски тем временем опустели, да и кружки тоже.
– Значит так, товарищи стройотрядовцы. Насытились? Остроумие своё показали? Тогда за работу. А ты, Макс, с Араиком в поликлинику в город. Ему всё равно туда надо.
– Послушай, Игорь, а может?..
– Никаких «может». Это приказ. А их – что? Правильно. Что делать, оба мы хороши: я отпустил медичку, ты запустил болячку. Теперь придётся расхлебывать. А пока отдыхай. Араик кликнет.
Игорь отправился было догонять свой отряд, но тут же обернулся:
– А в утешение – секретная информация. Вечером хозяева что-то особенное затевают, праздник у них какой-то. Так что брюхо в городе особенно не набивай. И помни: военная тайна…
Разбудил его (он даже задремать умудрился) чудовищный грохот. Араик что-то подкручивал в уже заведённом мотоцикле, а тому – похоже, он был постарше своего хозяина – это было не по нраву, и он ревел, скрежетал и чуть не подскакивал от негодования.
– Слушай, ты как ехать хочешь? На заднем пыли больше, а в коляске ногу сгибать. Выбирай!
Максим выбрал «сзади».
– Что, сильно болит? – участливо спросил старик. – Ничего, за час доедем. Если без происшествий, – на всякий случай добавил он. Доехали они даже быстрее, но что это была за поездка! В общем, когда Максим сполз со своего сиденья, то нога вроде уже и не болела – просто болело всё тело. Старик же, казалось, пребывал в полном порядке и даже протягивал руку: «Слушай, тебе помочь?»
Быстро нашлась и поликлиника. К хирургу, странное дело, никого не было. Правда, со времени землетрясения прошло уже как раз полгода.

Художник Артур Манукян
Хирургом оказалась совсем почти девчушка по фамилии Зубкова. «Ей бы в стоматологию!» – мысленно сострил Макс, но тут же его внимание переключилось на фигурку докторши, которую она с замечательной ловкостью – ох, уж эти девки! – и маскировала, и одновременно подчеркивала своим белоснежным халатиком. Фигурка была классная. По-видимому, догадываясь о произведенном впечатлении, доктор Зубкова с подчёркнутой строгостью велела сестре вымыть пациенту больную ногу. Макс промычал было, что мыл утром, но докторша, саркастически взглянув на него, бросила: «А лучше обе!» – и вышла куда-то.
Осмотр был предельно кратким: «Здесь больно?» – «Не очень» – «А здесь?» – «Терпимо…» и по его результатам было постановлено, что вскрывать абсцесс преждевременно, и потому лечение ограничилось повязкой с изрядным количеством довольно вонючей начинки.
– Если завтра не станет лучше, приедете снова.
«Держи карман!» – подумал Макс и, вежливо поблагодарив, вышел. И тут же почувствовал, что охотно продолжил бы общение с доктором Зубковой, но только не во врачебном кабинете. А впрочем, можно и во врачебном. Он даже позволил бы ей продолжить заниматься его ногой – желательно, на условиях взаимности… «Эк размечтался, дурак!» – осадил он себя и, возвращаясь к земному, с удивлением обнаружил, что с ногой, вроде, стало полегче. Просто чудеса какие-то!..
– Слушай, тебе сейчас работать нехорошо, да? Давай поедем немного длиннее, зато я тебе место одно покажу. Ты в Армении в первый раз?
Максим кивнул.
– Когда ещё приедешь! А что запомнишь сейчас? Одни развалины? А Армения – очень красивая страна, вот какой её помнить надо. Поедем?
Всеми мышцами и костями, каждой клеточкой своей Максим помнил ещё мучения проделанной дороги, но, взглянув на Араика, он с удивлением увидел на лице старика что-то вроде просьбы и, безмолвно вздохнув, зашагал к мотоциклу.
– Ты не пожалеешь, – пообещал старик и совершенно неожиданно добавил: «Спасибо».
Минут через двадцать показалось какое-то село. Араик что-то крикнул через плечо – наверное, его название. Здесь тоже было немало разрушений, но строителей заметно не было – для них, видимо, не нашлось стройотряда.
Вскоре Араик заглушил мотор.
Они оказались на окраине села. Если не считать трёх-четырёх домов, это был пустырь, покрытый разнокалиберным гравием, из-под которого местами проглядывал тёмно-серый скальный монолит. Кое-где пробивалась и незатейливая растительность, даже деревца небольшие встречались, но зелень казалась посторонней для этого сурового пейзажа. Они обошли какой-то довольно большой сарай (как все здесь, каменный), и перед ними открылась панорама, ради которой, видимо, Араик и затеял эту поездку. Метрах в двухстах перед ними земля уходила вниз – вероятно, там был обрыв, – а дальше расстилалась широкая каменистая равнина. А у самого обрыва стоял монастырь.



