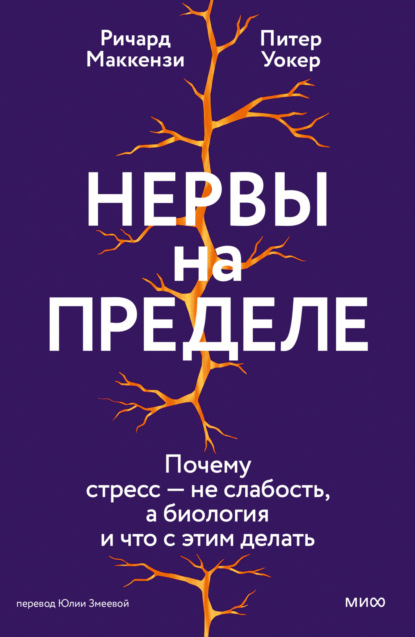
Полная версия:
Нервы на пределе. Почему стресс – не слабость, а биология, и что с этим делать
Она обратилась в клинику Ричарда, чтобы измерить уровень глюкозы и чувствительности к инсулину, но также хотела проверить уровень кортизола. Рут читала о хроническом стрессе и его влиянии на организм и решила, что этот фактор может быть причиной ее заболеваний. Она не ошиблась. Тесты на кортизол обычно проводят по утрам, когда этот гормон на пике. Уровень кортизола Рут в восемь утра был выше нормы, кровяное давление тоже, о чем она даже не догадывалась.
На самом деле жизнь Рут десятилетиями складывалась как по учебнику, и рано или поздно хронический стресс должен был привести к неблагополучному исходу. Но постепенно Рут все же удалось кое-что изменить. Она обратилась к психотерапевту, чтобы проработать свою жизненную историю, особенно то, как повлияло на нее детство. Рут стала читать о стрессе и о реактивности кортизола, которая закладывается еще в младенчестве. В итоге она пришла к выводу: переписать прошлое невозможно, но можно справиться с негативными последствиями.
Она обратилась к начальству и договорилась, что будет работать четыре дня в неделю, чтобы в освободившееся время больше общаться с семьей и друзьями. Пожалуй, самым важным ее решением было завести собаку, благодаря которой она покончила с сидячим образом жизни и начала много ходить пешком (а раньше шутила, что даже в ближайший магазин за молоком ездит на машине). Улучшилось ее физическое состояние, и она подключила другие виды физической активности, например плавание круглый год.
Уровень кортизола у Рут снизился, но по-прежнему немного превышал норму. Рут все еще испытывает стресс на работе, но уже не боится открыто говорить об этом начальнику и коллегам. Она похудела, уменьшился объем талии, что нередко свидетельствует об улучшении здоровья, помимо снижения индекса массы тела (ИМТ). Но главное – нормализовались уровень сахара в крови и уровень инсулина. Они почти достигли нормальных показателей после того, как Рут стала вести менее сидячий образ жизни. Диабет II типа вошел в стадию ремиссии, к радости ее родных и врача. Суставы иногда дают о себе знать, но сейчас уже существенно реже. Кровяное давление нормализовалось и находится в пределах нормы.
Как видите, это не история чудесного исцеления. Если книга о стрессе сулит мгновенное чудо, лучше сразу поставьте ее обратно на полку. Следует также помнить, что случай Рут индивидуален и то, что помогло ей, необязательно поможет всем. Хронический стресс – очень личная история, и избавиться от него довольно сложно. Однако его многоликость и обилие нюансов позволяют бороться с ним на нескольких фронтах одновременно. Для Рут решающим фактором стала попытка понять, почему она менее стрессоустойчива, чем другие, и перестать мучить себя чувством вины за это. Одновременно Рут работала над физическими проявлениями своей врожденной предрасположенности к стрессу.
Как у Рут, у этой книги несколько взаимосвязанных целей, и каждая из них призвана решить определенные задачи. Во-первых, авторитетно, но увлекательно объяснить, что такое стресс и как он развивался как общественный и медицинский феномен. Во-вторых, показать, как стресс влияет на организм и почему наш жизненный опыт часто становится определяющим фактором. Последние главы посвящены конкретным проблемам со здоровьем, таким как избыточный вес, диабет, а также потенциальному влиянию на фертильность у мужчин и женщин. Наконец, в книге описаны механизмы, с помощью которых человек может попытаться осознать стресс, который испытывает, и уменьшить его воздействие.
Еще раз подчеркнем: это не пособие по самопомощи. Таких книг уже достаточно. Если хотите, можете назвать эту книгу путеводителем или дорожной картой по одному из самых противоречивых, спорных и всеобъемлющих феноменов человеческой жизни. И как в любой истории, чтобы понять настоящее, необходимо обратиться к прошлому.
Глава 2. Краткая история стресса
Неоспоримый факт: стресс существовал всегда. Из этой главы вы узнаете, что современное понимание феномена стресса сформировалось относительно недавно – менее века назад. Современное представление о стрессе почти одновременно появилось в научной лаборатории и вошло в западную культуру. Мы рассказываем эту историю неслучайно: чтобы понять стресс, необходимо сначала разобраться, что он собой представляет.
Новая эпоха в понимании стресса началась незаметно в университетской лаборатории Монреаля в 1936 году. Там Ганс Селье, наш старый знакомый из первой главы, начал вводить крысам токсичные субстанции. Этот момент стал поворотным в изменении представлений о стрессе и его роли в жизни общества.
Селье родился в Австро-Венгрии, но почти всю свою жизнь занимался научной деятельностью в Канаде, где написал более 1700 научных статей и тридцать девять книг. Он считается ключевой и противоречивой фигурой в изучении стресса. Его теория «общего адаптационного синдрома» фактически заложила основы современной физиологии стресса, показав, что целый ряд на первый взгляд не связанных заболеваний может быть вызван хроническим стрессом и многократной активацией гормональной «системы оповещения» организма.
В то время лабораторных опытов Селье было недостаточно для доказательства этой теории, а некоторые критики и вовсе считали их неубедительными. Селье посвятил свою карьеру продвижению именно этой теории; он не стремился открывать новые концепции, а стал неустанным глашатаем «эпохи стресса». Его научный вклад велик, но именно эта просветительская роль стала решающей.
Селье и его сторонники утверждали, что стресс стал повсеместным культурным феноменом; его распространение началось в Северной Америке и постепенно охватило весь мир. Эта идея была щедро приправлена индивидуализмом: Селье считал, что стресс – проблема, с которой человек должен справляться в одиночку, при этом у кого-то это получается лучше, а у кого-то хуже. Он не полагал, что стресс провоцируют внешние силы, которые можно изменить или которым можно противостоять. Таким образом, его концепция стресса была пропитана чувством вины: в этой парадигме люди, не справлявшиеся со стрессом, чувствовали, что провалили некий жизненный экзамен.
Кроме того, по Селье, стресс был болезнью мужчин-руководителей. Именно ему мы обязаны стереотипным образом высокооплачиваемого босса, непременно мужчины, который работает допоздна в офисе со стеклянными стенами и страдает от язвы желудка. Это и есть типичный пациент с хроническим стрессом, но никак не рабочий на фабрике или женщина, совмещающая работу, уход за детьми и ведение домашнего хозяйства.
Это ни в коем случае не умаляет значимость открытия Селье и его блистательную карьеру. Молодому специалисту биохимического отделения Макгиллского университета в Монреале поручили идентифицировать тогда еще неизвестные женские половые гормоны, вводя крысам экстракты яичников коров. Селье наблюдал за реакцией, после чего крыс умерщвляли и проводили вскрытие.
Независимо от того, какой экстракт он вводил, результаты были одинаковыми: увеличенные надпочечники, повреждение лимфатической системы, играющей ключевую роль в иммунном ответе, и пептические язвы желудка и тонкой кишки. Это заинтриговало Селье, и он решил заменить инъекции на искусственные стрессовые ситуации, например выносил крыс на крышу лаборатории в зимний мороз или заставлял подолгу бегать в колесе. Физиологические результаты остались теми же. Так наметился паттерн.
Селье, которому родители дали имя Янош, был необычным ученым. Он родился в Вене и провел детство в Комароме, на границе Венгрии и Чехословакии. Изучал медицину и органическую химию в Пражском университете. Мальчик, выросший на стыке культур Австро-Венгерской империи, с детства говорил на четырех языках. После окончания университета Селье уехал в США и начал научную карьеру в Университете Джонса Хопкинса. В 1932 году знаменитый биохимик Джеймс Коллип, один из группы ученых, выделивших инсулин в 1920-х годах, пригласил Селье в Макгиллский университет.
Поворотным моментом для Селье стало обучение на медицинском факультете Пражского университета. В своем бестселлере «Стресс жизни»[15] он вспоминает 1925 год, когда он и другие студенты-медики закончили теоретическую часть обучения и впервые в жизни столкнулись с реальными пациентами. «Меня, новичка, тогда поразило… как мало признаков и симптомов были характерны всего для одной болезни; большинство подходили ко многим или даже ко всем болезням», – писал он, называя это в шутку «синдромом больного». Когда он рассказал об этом другим врачам, они лишь посмеялись[16].
Гениальность Селье заключалась в том, что он сумел связать это не поддающееся определению общее недомогание с идентичными симптомами крыс, вызванными инъекциями, холодом или истощением. Это позволило ему выявить ключевую роль гормональной реакции на дестабилизирующие внешние факторы, которые он назвал стрессом. Слово «стресс» в современном значении впервые появилось в научной работе Селье 1935 года, где он описывал свои опыты с крысами[17]. Через год он пока еще робко изложил свою теорию в короткой статье для британского журнала Nature – «одна колонка и семьдесят четыре строчки». Согласно наблюдениям Селье, биологическая реакция крыс на «пагубное воздействие» – инъекции веществ, чрезмерный холод и утомительную физическую активность – всегда была одинаковой. Сначала возникала тревога, затем стадия, которую Селье называл «сопротивлением», и, наконец, если это воздействие продолжалось, наступали истощение и смерть[18]. Ученый дал этому процессу загадочное название «общий адаптационный синдром».
В десятках последующих статей и научных работ эта идея, которую он иногда без лишних премудростей называл «синдромом Селье», развилась во всеобъемлющую гормонально-психическую концепцию стресса. Согласно ей, повторяющееся или чрезмерное воздействие внешних факторов связано с рядом заболеваний и состояний. У крыс это были язвы, повышение кровяного давления, астма и некоторые виды рака. Ключевую роль играл повторяющийся характер стрессоров – выражаясь медицинским языком, хроническая природа стресса, – а также выработка кортизола и прочих гормонов пролонгированного действия в противовес краткосрочным выбросам адреналина и норадреналина в экстремальных ситуациях, о которых мы говорили в первой главе. Не считая ряда научных неточностей, Селье описал современную концепцию хронического стресса.
С первыми работами Селье связаны забавные курьезы. Например, существует теория, объясняющая, почему у крыс из первого опыта, которым просто вводили препараты, не подвергая их воздействию холода и не заставляя бегать в колесе, возникли стереотипные симптомы стресса. В научной среде ходит легенда, что Селье был блестящим теоретиком, но не самым умелым практиком. В частности, он не умел обращаться с крысами, и язвы у них возникли не из-за введения гормональных экстрактов, а потому, что он слишком сильно сжимал их или часто ронял, после чего гонялся за ними по всей лаборатории.
Другой курьез – его семантический вклад в мировую науку. Каким бы блестящим полиглотом Селье ни был, он писал свои научные труды на языке, который был для него пятым или шестым, и выбрал для обозначения своего феномена слово «стресс», не подозревая, что этот термин уже давно используется в физике и означает воздействие силы на физическую материю. В первой статье для журнала Nature Селье также использовал термин «реакция тревоги», но потом решил, что она описывает лишь первую фазу «синдрома». Один его коллега, работавший с ним в последние годы жизни, слышал, как он жаловался, что «если бы он лучше владел английским языком, то вошел бы в историю как отец концепции “напряжения”»[19].
Справедливости ради отметим, что его определение было не таким уж лингвистическим новаторством. Слово «стресс», происходящее от латинского stringere – «туго натягивать», появилось в английском языке еще в XIV веке и обычно обозначало физический дискомфорт. Постепенно значение слова изменилось: фокус сместился с внешних факторов на внутреннее состояние, и даже после того, как термин взяли на вооружение физики и инженеры, некоторые писатели XIX века называли стрессом медицинские последствия продолжительных физических страданий, то есть практически то же, что имел в виду Селье. Как бы то ни было, его определение прижилось и распространилось. В книге «Стресс жизни» Селье рассказывает, как читал лекцию во Франции и не мог вспомнить подходящее французское слово для стресса, поэтому назвал его le stress. Это существительное до сих пор есть во французском языке, как и der Stress в немецком, el estrés в испанском, o estresse в португальском и так далее[20].
В 1930-е годы, на которые пришлось открытие Селье, популярное понимание стресса почти не отличалось от викторианской психосоматической концепции нервных расстройств и истерии, причиной которых якобы являлись «пары из матки». Ярким примером викторианского мышления был Джордж Миллер Бирд, американский врач и специалист по заболеваниям нервной системы, которому мы обязаны введением диагноза «неврастения» – этим словом в XIX веке называли практически все нервные расстройства.
Бирд считал, что в человеческом организме содержится ограниченный запас так называемой нервной энергии, а истощение этого запаса из-за внутренних переживаний или внешних факторов приводит к возникновению различных болезненных симптомов: усталости, высокого кровяного давления, головных болей[21]. Бирд описал эту концепцию в своей книге 1881 года с поэтичным названием American Nervousness, Its Causes and Consequences («Американская нервозность»). Как и Селье, он был превосходным популяризатором своих идей и привел огромный список возможных симптомов неврастении, включавший в том числе зубную боль, склонность отводить взгляд и говорить одно, а подразумевать другое. Он также полагал, что количество нервной энергии передается по наследству, а неврастения – проблема преимущественно обеспеченного класса.
Предвосхитив клише, согласно которому стресс – это результат невыносимого темпа современной жизни, Бирд утверждал, что неврастении в прошлом не существовало, как не существует ее в бедных странах. Он называл пять современных и весьма конкретных причин этого состояния: паровая энергия, телеграф, наука, газеты и журналы, а также «умственная активность женщин». К мелким усугубляющим факторам он относил сухой воздух, гражданские и религиозные свободы и «феноменальную красоту американских женщин из высшего общества».
Некоторые современники Бирда считали его шарлатаном, а его теории – попыткой подать под научным соусом те же распространенные опасения по поводу повышенной усталости и тревожности, из-за которых люди покупались на рекламу «эликсиров для укрепления нервной системы» и патентованных пилюль, содержащих что угодно – от относительно безопасного железа до куда менее безопасных стрихнина и мышьяка. Тем не менее бирдовское понимание стресса и новое восприятие Селье некоторое время сосуществовали. Даже в конце 1950-х в газетах рекламировали средства вроде филлосана «для укрепления нервов и повышения физических и жизненных сил». В 1968 году неврастения[22] все еще значилась в перечне психических расстройств Американской психиатрической ассоциации, хотя в 136-страничном пособии ей уделили всего семьдесят пять слов[23]. Однако постепенно все стало меняться. И как и во всякой социальной революции, свою роль сыграла война.
Солдатское сердцеВойна – очевидный источник экстремального стресса, и к моменту возникновения теории Селье она уже подтолкнула ученых к нескольким открытиям, хотя некоторые из них оказались фальстартами. Во время Гражданской войны в США врачи выявили состояние, названное «солдатским сердцем»: учащение сердцебиения и сбивчивое дыхание у солдат. В современной медицине по этим симптомам сразу бы заподозрили наличие ПТСР, посттравматического стрессового расстройства. Но в то время их считали симптомами физического переутомления и даже грешили на слишком тугие лямки рюкзака.
Прошло полвека, и в Первую мировую войну возник феномен контузии. Поначалу врачи считали контузию повреждением мозга в результате взрыва, хотя многие страдавшие ею не получали физических травм. Но существовала и другая точка зрения. Уильям Риверс, пионер психиатрии, изображенный в трилогии Пэта Баркера Regeneration («Регенерация»), лечил контуженых солдат, в том числе поэта Зигфрида Сассуна, методом разговорной психотерапии, основанной на фрейдистском психоанализе.
Селье родился в 1907 году и стал свидетелем хаоса, охватившего мир в начале XX века. Ему было одиннадцать лет на момент распада Австро-Венгрии, где он жил с отцом-венгром и матерью-австрийкой. В 1936 году, когда он выдвинул свою знаменитую теорию стресса, Европа находилась на грани очередного разрушительного конфликта, которому предстояло затронуть не только солдат, но и гражданское население, поскольку во Второй мировой войне впервые были предприняты массированные бомбардировки городов. Тогда и выяснилось, что, подвергаясь внезапному экстремальному стрессу, который они не в силах контролировать, люди, как и крысы, начинают болеть.
В сентябре 1940 года с началом бомбардировок Лондона одаренные студенты-медики Дэвид Уинзер и Дональд Стюарт, проходившие практику в городской больнице Чаринг-Кросс, заметили, что за несколько дней в больницу поступили семь пациентов с прободными язвами желудка – серьезным заболеванием, при котором из-за язв разрушаются стенки пищеварительного тракта. В обычной практике такое заболевание встречалось не чаще раза в месяц. Студенты написали в восемнадцать лондонских больниц с просьбой просмотреть записи с 1937 по 1940 год и понять, наблюдается ли общая тенденция. Несмотря на некоторые затруднения – одна больница была разрушена в ходе бомбардировок, – вскоре выяснилось, что тенденция есть.
Отчет о своем открытии Уинзер и Стюарт опубликовали в февральском выпуске медицинского журнала The Lancet («Ланцет») за 1942 год. В статье говорилось, что за «контрольный период» с января 1937-го по август 1940 года в шестнадцать лондонских больниц поступало в среднем 25 пациентов в месяц с прободными язвами. Однако в сентябре и октябре 1940 года, то есть с началом бомбардировок, это число возросло до 64 пациентов в месяц. Рассмотрев возможные причины, в том числе «спешку при приеме пищи» и вполне объяснимое увеличение потребления алкоголя и табака, Уинзер и Стюарт заключили: «Вероятная причина такого роста заболеваемости – тревожность»[24].
В 1944 году те же двое медиков опубликовали еще одну статью в The Lancet, где привели следующую статистику. В ходе операции «Блиц», которая длилась с сентября 1940 года по май 1941-го, число ежемесячных обращений в больницы с прободной язвой немного снизилось после первых недель бомбардировок, но все же осталось выше, чем в контрольный период, – 35 пациентов в месяц. С окончанием операции «Блиц» число снизилось до изначальной отметки[25]. Эта статистика подтверждала теорию Селье о «режиме тревоги» и «режиме сопротивления» организма, причем симптомы у всех пациентов были одинаковыми: язва желудка.
Примерно в то же время Королевское медицинское общество организовало срочное расследование причин чрезвычайно высокой распространенности желудочно-кишечных заболеваний среди британских солдат, отправленных во Францию в составе Британского экспедиционного корпуса, – тех самых, кого в мае и июне 1940 года эвакуировали из Дюнкерка. По статистике, почти 15 процентов всех военных, возвращенных в Великобританию еще до событий в Дюнкерке, страдали язвой желудка. Однако в официальном медицинском отчете психологические факторы исключались, а причиной язв назвали чрезмерное употребление жирной пищи[26].
Эти данные привлекли внимание Селье, который находился вдали от бомбежек в мирном Монреале. В письме в журнал The Lancet в феврале 1943 года он отметил исследования прободной язвы и разногласия медиков по поводу их причин. Он вспомнил, что у крыс в его лаборатории также появлялись язвы, и увеличение подобных заболеваний у людей в военное время, по его мнению, доказывает существование «синдрома – соматического проявления состояния общей мобилизации организма, столкнувшегося с внезапной критической ситуацией»[27]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Notes
1
По данным замера ВЦИОМ от апреля 2025 года, в России каждый пятый человек регулярно испытывает стресс. Прим. науч. ред.
2
‘Stress: Are we coping?’ Report by the Mental Health Foundation.
3
‘UK Labour Market: February 2024’, Office for National Statistics labour market (13 February 2024).
4
McEwen, Bruce, ‘The neurobiology of stress: from serendipity to clinical relevance.’ Brain Research (2000), 886 (1–2): 172–89. Брюс Макьюэн – американский нейроэндокринолог, изучающий взаимодействие между гормонами и мозгом.
5
Selye, Hans, ‘A syndrome produced by diverse nocuous agents’, Nature (1936), 138: 32.
6
Кортизол не относится к катехоламинам, к ним относится, например, дофамин. Прим. науч. ред.
7
Marmot, Michael, The Health Gap: Challenge of an Unequal World, Bloomsbury (2015), p. 2.
8
Это было отмечено несколькими исследователями, в том числе Майклом Мармотом. Статистические данные получены из Лондонской обсерватории общественного здравоохранения.
9
От Управления национальной статистики. Самые последние данные свидетельствуют об ожиданиях в отношении жизни женщин. ‘Health state life expectancies in England, Northern Ireland and Wales: between 2011 to 2013 and 2020 to 2022’. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/healthandlifeexpectancies/bulletins/healthstatelifeexpectanciesuk/between2011to2013and2020to2022.
10
Mani, A., Mullainathan, S., Shafir, E. et al., ‘Poverty impedes cognitive function’, Science (2013), Aug 30; 341(6149): 976–80.
11
Mani, A., Mullainathan, S., Shafir, E. et al., ‘Poverty impedes cognitive function’, Science (2013), Aug 30; 341(6149): 976–80.
12
Gianaros, P. J., Horenstein, J. A., Hariri, A. R. et al., ‘Potential neural embedding of parental social standing’, Soc Cogn Affect Neurosci. 2008 Jun; 3(2): 91–6.
13
Есть данные и о 15–30 мг в сутки, а при стрессе суточная секреция может увеличиваться до 100–200 мг. См., например, Guyton & Hall. Textbook of Medical Physiology (14th ed., 2021); Jameson, J. L., De Groot, L. J. Endocrinology: Adult and Pediatric (8th ed., 2022). Прим. науч. ред.
14
Ku, M., Kim, J., Won, J. E. et al., ‘Smart, soft contact lens for wireless immunosensing of cortisol’, Sci Adv. 2020 Jul 8; 6(28).
15
Селье Г. Стресс жизни. Понять, противостоять и управлять им. СПб.: Лейла, 1994.
16
Selye, Hans, The Stress of Life, McGraw Hill (1978), p. 17.
17
Selye, Hans and McKeown, Thomas, ‘Studies on the physiology of the maternal placenta in the rat’, Proceedings of the Royal Society of London (1935), 119: 1–31.
18
Selye, Hans, ‘A syndrome produced by diverse nocuous agents’, Nature (1936), 138: 32.
19
Rosch, Paul J., ‘Reminiscences of Hans Selye, and the birth of “stress” ’. International Journal of Emergency Mental Health (1999), Winter; 1(1): 59–66. PMID: 11227756.
20
Selye, The Stress of Life, op. cit., p. 52.
21
Beard, George Miller, American Nervousness: Its Causes and Consequences, Putnam (1881).
22
В России неврастения (астенический невроз) является признанным диагнозом и относится к разделу F48 по МКБ-10. Прим. науч. ред.
23
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (second edition), American Psychiatric Association (1968).
24
Stewart, D. N. and de R. Winser, D. M., ‘Incidence of perforated peptic ulcer: effect of heavy air raids’, Lancet (1942), 1: 259–61.



