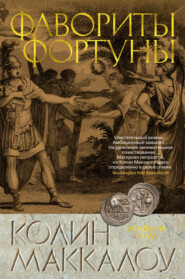
Полная версия:
Фавориты Фортуны
Все это не имело для Суллы никакого значения. Он расковырял несколько струпов на своем заживающем лице и тем самым вызвал приступ зуда. Все, кто общался с ним, просили, чтобы он дал возможность струпам отвалиться самим, но беспокойная натура Суллы не могла смириться с необходимостью ждать. Когда струпы начинали свисать, он их отковыривал.
Вспышка болезни была очень сильной (может быть, из-за холода, предположил Варрон, ухаживавший за Суллой, поскольку в нем проснулся научный интерес) и длилась без перерыва три полных месяца. Три месяца – пьяный, полубезумный Сулла, который стонет, чешется, кричит и пьет. Один раз Варрон даже привязал его руки к бокам, чтобы он не мог дотянуться до лица. И хотя Сулла очень хотел подчиниться этому вынужденному ограничению – как Улисс, привязанный к мачте, когда пели сирены, – он все-таки умолял освободить его. И конечно, в конце концов ему удалось освободиться. Чтобы снова чесаться.
Перед Новым годом, отчаявшись, Варрон пошел к Метеллу Пию и Помпею – предупредить, что Сулла вряд ли поправится к весне.
– Ему письмо из Тарса, – сказал Метелл Пий, которому было поручено составить компанию Помпею этой зимой: Красс находился среди марсов, а Аппий Клавдий и Мамерк где-то что-то осаждали.
Варрон насторожился:
– Из Тарса?
– Да. От этнарха Морсима.
– С кувшином?
– Нет, только письмо. Он сможет прочитать его?
– Конечно нет.
– Тогда лучше ты сам прочти его, Варрон, – сказал Помпей.
– Ты что, Помпей? – возмутился Метелл Пий.
– Ну же, Свиненок, не будь ханжой! – устало возразил Помпей. – Мы знаем, что он надеется на какую-то волшебную мазь, и мы знаем, что он поручил Морсиму найти ее. Теперь пришло какое-то известие, но он не в состоянии разбирать буквы. Разве будет дурно – ради него же – посмотреть, что хочет сообщить Морсим?
Итак, Варрону разрешили узнать, о чем пишет Морсим.
Вот рецепт – и это все, что я могу для тебя сделать, дорогой Луций Корнелий, друг мой и господин. Мазь должна быть свежей, ее следует приготовлять часто, а путь от Пирама до Рима длинный. Поэтому тебе придется самому найти ингредиенты и изготовить снадобье. К счастью, ингредиенты не экзотические, отыскать их легко, но вот способ приготовления трудоемкий.
Итак, излечивает овца. Надо взять свежее руно и поручить кому-нибудь скоблить шерсть инструментом, достаточно острым, чтобы давить волокна, но недостаточно острым, чтобы их порезать. Ты увидишь, что на острие твоего инструмента скапливается вещество, маслянистое и имеющее консистенцию сычужной закваски. Скреби шерсть до тех пор, пока этого вещества не наберется достаточно много. Как мне сказали, овечьей шерсти потребуется немало. Затем залей это вещество теплой водой – теплой, а не горячей! – но не слишком прохладной. Сунь в воду палец – она должна быть такой, чтобы казалось горячо, но терпимо. Некоторое количество вещества растворится в воде, образовав слой, который всплывет на поверхность. Этот слой и есть то средство, которое тебе потребно. Необходим целый кубок его.
Затем возьми руно, удостоверься, что на коже остался жир (используй только что освежеванное животное), и прокипяти его. Полученный жир протопи дважды. Натопи целый кубок.
К жиру овцы добавь специальное нутряное сало, ибо овечье сало очень плотное, не тает даже в теплой комнате. Мой источник информации – самая вонючая и мерзкая старуха, не говоря уже о том, что и самая жадная из всех! – сказала, что это нутряное сало следует взять с почек овцы и размять. Затем распустить в теплой воде. Снять слой с поверхности воды в количестве двух третей кубка. К этому добавить треть кубка желчи, взятой из желчного пузыря только что зарезанной овцы.
После этого не торопясь, тщательно смешай все ингредиенты. Мазь довольно плотная, но не такая твердая, как сам жир. Смазывай лицо не меньше четырех раз в день. Предупреждаю, дорогой Луций Корнелий, что воняет это ужасно. Но старуха настаивает, что ни в коем случае нельзя добавлять в мазь ни духов, ни специй, ни пахучих смол.
Пожалуйста, сообщи мне, если мазь подействует! Гнусная старуха клянется, что это она приготовила ту мазь, которая тебе помогла в первый раз, хотя я несколько сомневаюсь.
Vale. Морсим.
Варрон немедленно призвал небольшую армию рабов и отправил их искать отару овец. После этого в маленьком домике по соседству с жилищем командующего Варрон нетерпеливо бегал от котлов к трудившимся рабам, осматривая каждую тушу, каждую почку, настаивая на том, чтобы лично проверять температуру воды, скрупулезно измерял количество ингредиентов и своей суетливостью, кудахтаньем и понуканиями довел слуг до озлобления. За час до того, как предприятие по изготовлению мази начало работать, он уже волновался по поводу точного размера кубка. Но вдруг все понял и потом смеялся до слез. Если все его кубки одного размера, то какое это имеет значение?
Зарезали сотню овец (желчь и жир были получены от двух животных, а остальные девяносто восемь были заколоты из-за маленького кусочка сала с поверхности почек и вещества, которое предстояло наскрести с шерсти). В конце концов Варрон получил достаточно большой порфировый кувшин мази. А что касается уставших рабов, они получили сотню почти нетронутых туш очень вкусной баранины и поняли, что стоило потрудиться, чтобы иметь возможность набить живот жареным мясом.
Час был поздний, и Сулла, как прошептал его слуга, спал на ложе в столовой.
– Пьяный, – кивнул Варрон.
– Да, Марк Теренций.
– Ну что ж, думаю, это даже хорошо.
Он на цыпочках вошел в комнату и на миг остановился, глядя на бедное измученное существо, в которое превратился прекрасный Сулла. Парик упал с головы и лежал, демонстрируя марлевую подкладку. Много тысяч волосинок пошло на его изготовление. Каждую следовало закрепить на подкладке. Подумать только, на это требуется куда больше времени, чем на приготовление мази! Варрон вздохнул и покачал головой. Потом очень осторожно приложил свои смазанные мазью пальцы к кровавому месиву на лице Суллы.
Тот вдруг открыл глаза, в затуманенном вином взгляде застыли боль и ужас. Рот открыт, губы растянуты, десны обнажены. Но он не издал ни звука.
– Это мазь, Луций Корнелий, – прошептал Варрон. – Я приготовил ее по тому рецепту. Ты выдержишь, если я попытаюсь нанести ее тебе на лицо?
Слезы скопились в глазницах, потому что Сулла лежал на спине. Прежде чем они вытекли из уголков глаз на кожу лица, Варрон промокнул их кусочком очень мягкой ткани. Но слезы не убывали. А Варрон все промокал их.
– Ты не должен плакать, Луций Корнелий. Мазь необходимо накладывать на сухую кожу. А теперь лежи спокойно и закрой глаза.
Сулла лежал спокойно, глаза его были закрыты. После нескольких непроизвольных рывков при прикосновениях к его лицу он уже не протестовал, и постепенно напряжение спало.
Варрон закончил процедуру, взял пятисвечовую лампу и высоко поднял ее, чтобы посмотреть на результат своего труда. Прозрачная жидкость горошинами выступила там, где кожа потрескалась, но слой мази, казалось, остановил кровотечение.
– Ты должен постараться не расчесывать. Чешется? – спросил Варрон.
– Да, чешется, – ответил Сулла, не открывая глаз. – Но бывало и хуже. Привяжи мне руки.
Варрон выполнил просьбу.
– Я вернусь к рассвету и повторю процедуру. Кто знает, Луций Корнелий? Может быть, к рассвету зуд пройдет.
И он тихо вышел из комнаты.
К рассвету зуд не прошел, но от беспристрастного взгляда Варрона не укрылось, что кожа Суллы выглядела – как бы это выразиться? – спокойнее. Варрон снова наложил мазь. Сулла попросил не развязывать ему руки. Но в полночь, после троекратного наложения мази, он объявил, что, как ему кажется, он сможет сдержаться, если Варрон освободит его. А через четыре дня он сказал Варрону, что зуд прошел.
– Мазь подействовала! – сообщил Варрон Помпею и Свиненку, испытывая удовлетворение врача, хотя врачом он вовсе не был и быть не хотел.
– Он сможет весной командовать армией? – осведомился Помпей.
– Если мазь окажется действенной, сможет еще до наступления весны, – ответил Варрон и поспешил наружу с кувшином мази, чтобы зарыть его в снег. В холоде она дольше не испортится, хотя руки Варрона уже воняли тухлятиной. – Воистину он felix, счастливчик! – вслух подумал Варрон.

Когда ранняя и морозная зима покрыла Рим снегом, многие из его жителей увидели в этом плохой знак. Ни Норбан, ни Сципион Азиаген не возвратились после своих поражений. Не приходило никаких хороших вестей об их последующих действиях. Норбан застрял в осажденной Капуе, а Сципион бродил по Этрурии, вербуя солдат.
К концу года сенат задумал провести дебаты о том, что ждет впереди и сенат, и Рим. Число сторонников Суллы снизилось на треть. Часть ушла к Сулле в Грецию раньше, а часть соединилась с Суллой, когда он вернулся в Италию. Ибо, несмотря на протесты группы сенаторов, заявлявших о своем нейтралитете, все в Риме, от высших до низших, очень хорошо знали, что подведена роковая черта. Вся Италия и Италийская Галлия не были достаточно просторными для мирного сосуществования Суллы и Карбона. У них были прямо противоположные цели, разные взгляды на систему правления, разные идеи относительно того, по какому пути должен идти Рим. Сулла ратовал за mos maiorum, вековые обычаи и традиции, за которыми стояли аристократы-землевладельцы – главные действующие лица и на войне, и во время мира. Карбон же настаивал на превосходстве коммерсантов – сословии всадников и казначейских трибунов. Поскольку ни одна группа не соглашалась на равные права, то кто-то должен был победить, развязав еще одну гражданскую войну.
Узаконив статус римского города за Капуей, плебейский трибун Марк Юний Брут вызвал из Аримина Карбона. Именно возвращение Карбона из Италийской Галлии и навело сенат на мысль собраться и обсудить положение.
Карбон и Брут встретились в доме Брута на Палатине, хорошо знакомом Гнею Папирию Карбону. Уже много лет Карбон и Брут оставались друзьями. Кроме того, крайне неосмотрительно было бы сходиться для серьезного разговора в доме самого Карбона, где (судя по слухам) даже мальчик, приставленный к ночным горшкам, брал плату у любого, кого интересовали планы Карбона.
То, что в доме Брута не водилось продажных слуг, являлось исключительно заслугой жены Брута, Сервилии, которая управляла хозяйством строже, чем Сципион Азиаген своей армией. Она не прощала проступков. Казалось, глаз у нее как у стоокого великана Аргуса и ушей как у целой колонии летучих мышей. Слуги, который мог бы перехитрить ее, просто не существовало. А слуга, который не испытывал перед ней страха, покидал ее дом уже через несколько дней.
Поэтому-то Брут и Карбон могли приступить к конфиденциальной беседе, полагая себя в полной безопасности. Если не считать, конечно, саму Сервилию. Ничто из того, что происходило и говорилось в ее доме, не могло укрыться от ее чуткого слуха. И этот очень личный разговор не стал исключением, уж она-то об этом позаботилась. Мужчины сидели в кабинете Брута, за закрытой дверью, а Сервилия устроилась у колоннады под открытым окном. Было холодно, но Сервилия согласна была мириться с неудобствами ради того, что может прозвучать в той уютной комнате.
Разговор начался с обычных вежливых фраз.
– Как мой отец? – спросил Брут.
– У него все хорошо. Посылает тебе привет.
– Удивляюсь, как ты можешь его терпеть! – взорвался вдруг Брут и замолчал, видимо сам шокированный тем, что только что сказал. – Извини. Я не хотел сердиться. Я действительно не сержусь.
– Ты просто удивлен, что я в состоянии его выносить?
– Да.
– Он твой отец, – спокойно ответил Карбон, – и он старый человек. Я понимаю, почему ты видишь в нем источник неприятностей. Однако я его таковым не считаю. После того как Веррес сбежал с тем, что оставалось от моей наместнической казны, мне пришлось подыскать себе другого квестора. Твой отец и я были друзьями с тех самых пор, как он с Марием вернулся из ссылки.
Карбон помолчал – очевидно, похлопал Брута по руке, подумала Сервилия. Она знала, как Карбон обращался с ее мужем.
Затем Карбон продолжал:
– Когда ты женился, он купил тебе этот дом, чтобы самому не путаться у вас под ногами. Но чего он не предвидел, так это одиночества – как он будет жить один после стольких лет, проведенных бок о бок с тобой. Два неразлучных холостяка! Могу представить, как он надоедал тебе и твоей жене. Так что, когда я написал и попросил его быть моим проквестором, он с готовностью согласился. Не понимаю, почему ты должен чувствовать себя виноватым, Брут. Ему нравится эта должность.
– Спасибо, – вздохнул Брут.
– А теперь – к делу. Что такого случилось? Почему я должен был явиться сюда?
– Выборы. С дезертирством всеобщего друга Филиппа моральный дух в Риме упал. Никто не поведет их за собой, ни у кого не хватит смелости стать предводителем. Вот почему я подумал, что ты должен возвратиться в Рим, по крайней мере до конца выборов. Я не нахожу никого, кто годился бы сейчас на должность консула. Никто не хочет занимать важных постов, – нервно заключил Брут; он вообще был беспокойным человеком.
– А как же Серторий?
– Ты ведь знаешь, он наш сторонник. Я написал ему в Синуессу и просил выставить свою кандидатуру на консульских выборах, но он отказался. По двум причинам, хотя я знал лишь об одной: он все еще претор и должен ждать положенные два года, прежде чем баллотироваться в консулы. Я надеялся уговорить его. И сумел бы, будь то единственная причина. Но вторая причина достаточно веская.
– И какова же она?
– Он сказал, что с Римом покончено, что он отказывается быть консулом в городе, полном трусов и оппортунистов.
– Изящно сформулировано.
– Он заявил, что станет наместником Ближней Испании и уедет немедленно.
– Fellator! – прорычал Карбон.
Брут, не выносивший сквернословия, ничего не ответил. Очевидно, ему больше нечего было сказать. Некоторое время они молчали.
Выведенная из себя Сервилия приложила глаз к затейливой решетке ставни и увидела Карбона и своего мужа сидящими за столом друг против друга. Она подумала, что они могли бы быть братьями: оба темноволосые, у обоих простые черты лица, оба невысокого роста и неидеального сложения.
Сервилия часто спрашивала себя, почему Фортуна не наградила ее мужем с более выразительной внешностью – мужем, который засиял бы на политической арене. Она давно уже отказалась от мысли о военной карьере для Брута. Значит, это должна быть политика. Но лучшее, на что Брут оказался способен, – это дать Капуе статус римского города. Неплохая идея – определенно она спасла его трибунат от банальности! – но о Бруте никогда не будут помнить как об одном из великих народных трибунов, как о его дяде Друзе.
Брута для Сервилии выбрал дядя Мамерк, хотя сам Мамерк был душой и телом предан Сулле и находился в Греции с Суллой, когда назрела необходимость найти мужа для старшей из шести его подопечных, Сервилии. Они все еще жили в Риме под присмотром бедной родственницы Гнеи и ее матери Порции Лицинианы – ужасной женщины! Ни одному опекуну, сколь далеко ни находился бы он от своих подопечных, не стоило беспокоиться о добродетели и моральном облике ребенка, которого железной рукой воспитывала Порция Лициниана! Даже ее дочь Гнея с течением лет становилась все некрасивее и все более походила на старую деву.
Таким образом, именно Порция Лициниана нашла претендентов на руку Сервилии, когда той стукнуло восемнадцать. Порция Лициниана послала соответствующую информацию дяде Мамерку на Восток. Она сообщила о достоинствах, моральном облике, скромности, трезвости и прочих качествах, которые она сама хотела бы видеть в супруге. И хотя Порция Лициниана ни разу не совершила ошибки, открыто выказав предпочтение одному из претендентов, ее замечания засели в голове дяди Мамерка. В конце концов, у Сервилии было огромное приданое и она имела счастье носить имя великолепного старинного патрицианского рода, да и сама, по уверению Порции Лицинианы, была недурна собой.
И дядя Мамерк пошел по пути наименьшего сопротивления. Он выбрал человека, на которого сильнее всего намекала Порция Лициниана. Марк Юний Брут. Поскольку он был сенатором тридцати с небольшим лет, то считалось, что он уже миновал трудный период юношеских глупостей и неблагоразумных поступков. Он станет главой одной из ветвей рода, когда старый Брут умрет (что уже не за горами, как намекала Порция Лициниана). Брут богат, с безупречной (пусть даже плебейской) родословной.
Сама Сервилия не была знакома с суженым. И даже после того, как Порция Лициниана сообщила ей о предстоящем браке, до свадьбы ей не разрешили встретиться с Брутом. В том, что этот древний обычай применили к Сервилии, страшная Порция Лициниана была не виновата. Скорее это стало прямым следствием детского наказания. Поскольку в доме ее дяди Друза еще ребенком Сервилия шпионила для своего отца, жившего отдельно от детей, дядя Друз приговорил ее к домашнему аресту. Сервилии запрещалось иметь свою комнату, она должна была всегда находиться на виду, ей не дозволялось покидать дом без сопровождения верных людей, которые следили за каждым ее шагом, даже за выражением лица. И все это продолжалось годы, пока она не достигла брачного возраста. К тому времени все взрослые в ее семье умерли – мать, отец, тетя, дядя, бабушка, отчим. Но наказание оставалось в силе.
Поэтому не будет преувеличением сказать: Сервилия так стремилась выйти замуж и уйти из дома дяди Друза, что ее едва ли интересовало, кто станет ее мужем. Для нее супруг означал освобождение от ненавистного режима. И тем не менее, узнав его имя, она закрыла глаза, ощутив огромное облегчение. Человек ее класса и происхождения, а не какой-то мелкий сельский землевладелец, чего она боялась, – дядя Друз все грозил дать ей в мужья арендатора средней руки, когда она вырастет. К счастью, дядя Мамерк не видел никакого преимущества в том, чтобы его племянница вышла замуж за человека ниже ее по происхождению. Такого же мнения держалась и Порция Лициниана.
И Сервилия ушла в дом Марка Юния Брута, молодая и очень благодарная жена, а с нею и ее огромное приданое в двести талантов – пять миллионов сестерциев. Более того, приданое должно было остаться за ней. Дядя Мамерк выгодно вложил ее деньги, обеспечив ей приличный доход. Он распорядился, чтобы после ее смерти деньги перешли ее дочерям. Поскольку Брут был достаточно богат, то согласился с условиями брачного договора. А это означало, что он приобрел жену-патрицианку, которая сможет себя содержать и покупать себе все, что угодно, будь то рабы, одежда, драгоценности, дома. Платить она будет за все сама. Его деньги – это его деньги.
Сервилия обрела свободу ходить туда, куда захочет, и видеть тех, кого захочет. Во всем остальном брак Сервилии оказался безрадостным. Ее муж слишком долго оставался холостяком. Не было в доме Брута ни матери, ни какой-то другой женщины. Уклад его жизни был давно определен, жене там места не оставалось. Он ничего с ней не делил – даже своего тела, как она чувствовала. Если он звал друзей на обед, ей не велели появляться в столовой. Его кабинет был всегда закрыт для нее. Брут никогда ничего с ней не обсуждал. Никогда не показывал ей покупок. Никогда не брал с собой, уезжая на одну из своих сельских вилл. Время от времени он посещал ее спальню, но его тело совсем не возбуждало Сервилию. И она вдруг поняла, что сейчас у нее уединения больше, чем ей хотелось все те долгие годы, когда ей не позволяли побыть одной. И теперь общество показалось ей желанным. Так как Брут предпочитал спать один, в ее маленькой комнате не было никого, и тишина приводила ее в ужас.
Получилось, что брак превратился в простую вариацию на тему, которая преследовала ее с раннего детства: всем она была безразлична, ни для кого не имела значения. Единственный способ, которым ей удавалось обратить на себя внимание, – это быть злобной, злопамятной, жестокой. И эти ее свойства каждый слуга испытал на себе. Но мужу она никогда не демонстрировала подобные качества, ибо знала: он ее не любит и поэтому в любую минуту может поднять вопрос о разводе. С Брутом Сервилия была всегда мила. Со слугами – сурова.
Однако Брут выполнил свой супружеский долг. После двух лет замужества Сервилия наконец забеременела. Как и ее мать, она хорошо перенесла беременность. Даже роды не стали тем кошмаром, о котором ей все твердили. Она родила сына холодной мартовской ночью, роды длились семь часов. Когда младенца помыли и принесли Сервилии, она могла полюбоваться им, таким милым и хорошим.
И ничего удивительного, что Брут-младший заполонил всю жизнь матери, лишенной любви. Ни одной женщине она не позволяла его кормить, сама ухаживала за ним, поставила его кроватку в свою спальню, и со дня его появления на свет для нее существовал только он.
Почему же Сервилия подслушивала у кабинета в тот холодный ноябрьский день в том году, когда Сулла высадился в Италии? Конечно, не мужнины карьерные амбиции интересовали ее. Она слушала, потому что он был отцом ее ненаглядного сыночка, а она поклялась, что будет охранять его наследство, репутацию, будущее благополучие. Это значило, что ей следовало знать обо всем. Ничто не должно пройти мимо ее ушей, и особенно политическая деятельность мужа!
Карбон Сервилию не интересовал, хотя она признавала, что он – серьезная фигура. Но она правильно оценила его как человека, который будет думать сначала о собственных интересах, а уж потом об интересах Рима. И она не была уверена, что Брут достаточно проницателен, чтобы видеть недостатки Карбона. Присутствие Суллы в Италии очень ее тревожило, ибо у нее был склад ума настоящего политика. Сервилия умела провидеть будущие события яснее, чем большинство мужчин, которые полжизни провели в сенате. В одном она была уверена: у Карбона недостаточно сил, чтобы сплотить Рим. Государство треснет в зубах такого человека, как Сулла.
Увидела она достаточно, теперь требовалось послушать. Она опустилась на колени на твердый холодный пол и приложила ухо к решетке. Опять пошел снег – благо! Белая пелена скрывала ее от дальнего конца сада в перистиле, где помещались кухни и сновали слуги. Ее беспокоило не то, что ее могут увидеть подслушивающей. Домашние Брута никогда не посмеют сомневаться в ее праве находиться там, где она хочет, и принимать любую позу. Дело в том, что ей очень нравилось появляться перед домашними как высшее существо, а высшие существа не стоят на коленях, подслушивая под окном кабинета мужа.
Вдруг она вся напряглась и приникла ухом к решетке. Карбон и ее муж снова о чем-то заговорили!
– Среди имеющих право избираться есть хорошие кандидатуры на пост претора, – сказал Брут, – например, Каррина и Дамасипп, оба способные и популярные.
Карбон хмыкнул:
– Как и я, они позволили безбородому юнцу побить их в сражении, но в отличие от меня они, по крайней мере, были предупреждены, что Помпей так же жесток, как и его отец, и в десять раз одареннее Мясника. Если бы Помпей выдвинул свою кандидатуру на пост претора, он получил бы больше голосов, чем Каррина и Дамасипп, вместе взятые.
– Это ветераны Помпея одержали победу, – логично заметил Брут. – А не юнец.
– Может быть. Но если так, то Помпей предоставил им полную свободу действий. – Карбону явно не терпелось заглянуть в будущее, и он сменил тему. – Не преторы волнуют меня, Брут. Я беспокоюсь о консулах – из-за твоих мрачных предсказаний! Если необходимо, я сам буду баллотироваться. Но кого мне взять в коллеги? Кто в этом жалком городе способен поддержать меня, кто не постарается свалить? Весной начнется война, я больше чем уверен. Сулла болен, но моя разведка сообщает, что к следующей кампании он будет в прекрасной форме.
– Болезнь – не единственная причина, по которой он воздержался от военных действий в прошедшем году, – сказал Брут. – Ходят слухи, что этим он давал шанс Риму капитулировать без боя.
– Тогда он это сделал напрасно! – в ярости воскликнул Карбон. – Ну, хватит рассуждений! Кого я могу взять вторым консулом?
– Разве у тебя нет идей на этот счет? – спросил Брут.
– Ни одной. Мне нужен человек, способный поднимать дух людей, кто-то, кто заставит молодежь записываться в армию, а стариков – сожалеть, что их не записали. Такой человек, как Серторий. Но ты же прямо сказал, что он не согласится.
– А если Марк Марий Гратидиан?
– Он – Марий не по родству, а это нехорошо. Я хотел бы Сертория, потому что он – Марий по крови.
Молчание. Но не потому, что им нечего было сказать. Услышав, как ее муж набрал в легкие воздуха, словно решался произнести что-то важное, жена замерла под окном с намерением не пропустить ни единого слова.
– Если ты хочешь именно Мария, – медленно проговорил Брут, – тогда почему не Мария-младшего?



