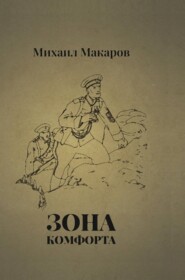скачать книгу бесплатно
Кудряш мотнул башкой, серьга в ухе у него заплясала:
– Всяких-разных грошей бачив, а таких – ни! С орлом двуглавым… Не в короне… Но не керенка? Яка махонькая денежка! Керенки, те – во…
И он развел ладони на расстояние сантиметров тридцати, показывая габариты денежных знаков, бывших в обращении после февраля семнадцатого года.
От выпитого молока нумизмат этот кудрявый, видимо, слегка окосел. Не разглядел в нижнем правом углу год выпуска невиданной им прежде деньги. 1997 (тысяча девятьсот девяносто седьмой).
Или разглядел, но увидел другое число. Привычное, а потому понятное.
Так бывает. Неразгаданные загадки человеческого мозга. Помню, проглядываю программу телепередач. «20.30. Лучшие негры НБА». Оп-поньки, чувствую, что-то не срастается. Перечитываю. Ну да, так и есть: «Лучшие негры НБА». Дальше листаю. Но внутри сосет, и я опять возвращаюсь. «20.30. Лучшие.» Ну ведь «игры» же, ёксель-моксель, «игры»!
Квадратными русскими буквами напечатано. А отчего два раза неправильно прочёл? Оттого что в играх этих преимущественно негры одни и участвуют. Здоровенные такие, блестящие.
Так ведь у меня за плечами спецшкола с преподаванием ряда предметов на иностранном языке и университет. А у весельчака кудрявого? ЦПШ[10 - ЦПШ – церковно-приходская школа.] в лучшем случае.
Атаман благоразумно отставил в сторону, от греха подальше, пеногон. Сложил руки на груди. Гляжу, кисти у него рабочие, узловатые. Наверное, очень сильные. С короткими пальцами, поросшими на фалангах чёрным грубым волосом.
Посмотрел он на меня долгим неприятным взглядом и проскрежетал:
– Ну, так ты кто?
На что я ответил в рифму:
– Конь в пальто.
Через несмазанное, долго не говорившее горло слова выдавились не вполне членораздельно. Но судя по реакции окружающих, смысл их оказался понятным.
Бугор удивлённо вздёрнул бровь. Борода радостно гыкнул, пихнул главаря локтем в бок. Мол, я же говорил, что он трёкнутый.
Кудряш сделался ещё веселее и скомандовал:
– Раздягайся живо!
Я ничего не смог умнее придумать, чем дружелюбно предложить в ответ:
– А грибов-«отсосиновиков» отхряпать не желаешь?
В голове у меня пронзительно зазвенело, как от удара камертоном. Я знаю себя такого – с упавшей планкой. Стараюсь спрятать дрожь в губах и боюсь, что это видно.
Я ожидал удара от рыжего амбала. Ему очень удобно было садануть меня локтем под дых, в солнечное. Но получил мощный пинок в спину выше пояса. Ногой, наверное. Кованым сапожищем. Я полетел вперед, на стол, за которым заседали лихие люди.
Кудрявый быстро приподнялся и встретил меня прямым в лоб. Я рухнул, будто картонный, но сознания не потерял. Даже когда меня стали окучивать ногами.
Бугор распорядился:
– Геть, хлопцы! Насмерть забьете!
– А чё с ним делать? В гузно целовать, чи шо? – отозвался игривый тенорок чубатого.
Гляди-ка, я уже их по голосам научился различать.
– Завтра по утрянке с собой прихватим и в лесу кончим, – тоном, не терпящим возражений, отрезал атаман. – Нельзя на своем дворе казнить. Придут кадеты, дознаются. Спалят село. Стариков, баб, детишков порубят.
Подчиненные Бугра послушались. Дисциплина, какая-никая, у них имелась. Нас погнали обратно в узилище. Вернее, лично меня волокли под руки капитан Сергей Васильич и молодой поручик. Идти у меня не получалось, ноги заплетались, как вареные макаронины. Перед входом в сарай я заперхал, закашлялся и облевал поручику брюки. Одной водой почти – коричневой и едкой.
Но офицеры меня не бросили, а довели до лежанки в углу и опустили на неё. Только тут я медленно угас… догорел. Я вполне сознательно торопился избавиться от всей этой надоевшей бредятины в надежде проснуться под кустом в родном «железном садике». Или на топчане медицинского вытрезвителя. На кишащих клопами нарах офицерской «губы». Где угодно, лишь бы в привычном ареале обитания.
4
Темой гражданской войны я заболел лет в тринадцать. В детстве. Или по бородатому классику это уже отрочество? Причем, я проникся симпатией к вражеской, белогвардейской стороне. Дело было во второй половине семидесятых при Брежневе Леониде Ильиче. Никакими перестройками и плюрализмом ещё не пахло. Слов таких даже не придумали. Сложно сказать, что определило мои симпатии. Никто меня специально не натаскивал.
Отец мой имел большой стаж членства в КПСС. И гены тут ни при чём. Предки у меня по обеим линиям из крестьян происходят.
Наверное, сперва сработало внешнее восприятие на сером фоне пионерско-комсомольской обязаловки. Хороших фильмов про гражданскую войну тогда много снимали. То и дело крутили «Новые приключения неуловимых», «Адъютант его превосходительства», «Дни Турбиных», «Служили два товарища», «Долг»… да пруд пруди. Я все их знаю наизусть.
Беляки носили красивую форму. Ничего вроде особенного, безо всякого там золотого шитья и павлиньих перьев, а – красивая… Лихо примятые фуражки с крохотными лакированными козырьками, боевые наплечные ремни, ловкие галифе, до неимоверного блеска начищенные дутые сапоги. Ну и конечно погоны на плечах, главное отличие от красных. Погоны придавали гардеробу строгую законченность, заставляли держать спину прямой, курить папиросу в цепи, наступающей в полный рост, пускать себе в висок последнюю пулю.
Они носили звучные, пришедшие из незнакомого мира воинские звания. Корнет, штабс-капитан, ротмистр, сотник, подъесаул!
С возрастом я постиг – гордое звучание шлифовалось столетиями. Работая в прокуратуре, я в этой связи удивлялся нелепости классных чинов своего ведомства. Чувствуется, сочинялись они людьми, незаинтересованными в поднятии авторитета системы. С одной стороны – огромные полномочия, данные прокуратуре законом. Когда я пришел туда стажёром, когда СССР ещё существовал, прокуратурой осуществлялся высший надзор за соблюдением законов всеми-всеми. А первый классный чин – «младший юрист»! Потом ситуация вроде выправляется, по нарастающей идут – «юрист третьего», «второго», «первого класса». Уже ничего вроде, да? Ассоциируется с водителем первого класса, с профессионалом. Но потом бах – «младший советник юстиции»! В переводе на армейские или милицейские звания солидно – майор, и погон теперь такой же – два просвета и большая звезда, но мла-а-адший… Гм, в народе с детского сада устоялось, что младшая группа, малышковая – пристанище переведённых из ясель трёхлеток.
То ли дело – вахмистр, войсковой старшина! Музыка просто!
Вдобавок, в фильмах белогвардейцы, как все отрицательные персонажи, воплощались ярче и человечней, с узнаваемыми слабостями. У меня до сих пор, когда я смотрю как поручик в исполнении Владимира Ивашова поёт под гитару про русское поле, мурашки колючие по спине ползают. А обаятельный капитан Кольцов (несмотря на то, что он красный шпион) с его безукоризненными манерами чего стоит.
Отдельная тема – генерал Хлудов с глазами инопланетянина Дворжецкого в «Беге». Прообраз знаменитого генерала Слащёва-Крымского. Длиннющая расстёгнутая кавалерийская шинель, воротник поднят, мятые чёрные погоны с зигзагами.
– Я на Чонгарскую Гать с музыкой ходил, солдат! Я два раза ранен там!
Второй источник информации, понятное дело, книги. Безо всякой системы я прочёл про гражданскую войну всё, что было доступно рядовому, но пытливому советскому читателю семидесятых. Читал исключительно запоем, в ущерб школе. Был записан одновременно в три библиотеки. Кроме того брал книжки у родных, знакомых, одноклассников. У всех, кто не жадничал.
Литература большей частью была также политизирована, как и кино. Красные отличались высокой идейностью, честностью и устремлённостью к великой цели. Белые постоянно лгали, лицемерили, торговали Россией оптом и в розницу, пьянствовали – и поэтому всегда логичным выглядело их сокрушительное поражение.
Но попадались и по-настоящему хорошие книги. Пацаном ещё совсем, мало понимавшим в жизни, я зачитывался «Хождением по мукам» Алексея Толстого.
Меня поразило эпическое описание Ледяного похода. Корнилов на стогу сена с биноклем под рвущейся шрапнелью. Бесшабашный генерал Марков с трёхлинейной винтовкой впереди офицерской цепи. Нервически одержимый полковник Неженцов, первый корниловец, не допускающий мысли быть вторым.
Не буду пересказывать. Кто не читал, тот видел многосерийный фильм в постановке Василия Ордынского.
Непонятно зачем, имея трилогию в собственности, я с усердием, достойным лучшего применения, переписал главы про Добрармию в ученическую тетрадь в клеточку. Тетрадка, кстати, отыскалась при разборе коробок с «приданым» после моего выселения в общагу.
Гораздо позднее, когда стали доступны мемуары белогвардейцев, я обнаружил, что эти главы маститый Алексей Николаевич почти слово в слово передрал из «Очерков русской смуты» генерала Деникина.
Чуть раньше я понял, что путь подполковника Рощина, по роману одумавшегося, перебежавшего к красным, полностью фальшивый. И не должность начштаба бригады под командой любезного свояка Ивана Ильича Телегина дожидалась его в Красной армии, а пуля чекиста…
Толстой угождал конъюнктуре. Но делал это талантливо, масштабно и интересно.
В девятом классе на зимних каникулах Вадик Соколов, друг мой лепший, втайне от родителей (вещь жутко дефицитная и потому дорогущая!) дал мне почитать «Тихий Дон». С той поры вопрос о любимой книге не вызывает у меня даже секундных раздумий. Зная роман близко к тексту, я снимаю его с полки, когда по душе начинают скарябать чёрные кошки. Листаю с разных мест, разговариваю с персонажами, аутотренинг себе устраиваю. Эффект тренировки стабилен. На фоне изломанной судьбы Григория Мелехова быстро проступает мелкотравчатость моих морально-нравственных страданий. Возникает желание окрестить их «так называемыми».
Несмотря на стенобитные аргументы патриотически настроенных литературоведов и заключения маститых экспертов, я глубоко сомневаюсь, что «Тихий Дон» написан М. А. Шолоховым. Придерживаюсь версии, что у романа века – коллективный автор. Шедевр творили люди разного социального положения, образования и интеллекта. И никакие новейшие компьютерные исследования скандинавских учёных не убеждают меня в обратном.
Мама моя, обеспокоенная халатным отношением сына к учёбе, обнаружив в портфеле заботливо обложенный в газету «Тихий Дон», искренне возмутилась:
– Там один разврат! Надо читать по программе!
Сильная и правдивая вещь «Железный поток» Серафимовича. Обе дерущиеся стороны в ней по-звериному жестоки.
Одна сцена меня буквально пронзила. Красные заняли кубанскую станицу, выбив казаков генерала Покровского. Станичный атаман спрятался, причём так, что найти его большевики не могли, несмотря на усиленные поиски. А семья атаманова – человек семь-восемь – в хате. Красные начали кричать, чтобы атаман вылезал из схрона, а то они жену с детьми порубят. Казак не вылез, и революционные бойцы покромсали шашками сначала ребятишек, а потом – сошедшую с ума, хохочущую мать.
Прочитав этот фрагмент первый раз, я не поверил глазам своим. Подумал – опечатка. Это противоречило всей тогдашней идеологии. Красные и пленных, если верить литературе, кино и учебникам по истории СССР, никогда не убивали, а куда-то девали. Правда, куда именно – не уточнялось.
На уроке внеклассного чтения, когда разбирали «Железный поток», я, единственный из класса одолевший эту серьёзную книжку, поднял руку и спросил учительницу, как могли красные казнить невинных детей. Не ответила мне по существу Петрова Нина Александровна по прозвищу «Бурёнка». Быстро-быстро она сказала, что данный момент нетипичен и перевела разговор на другое, типичное.
История про зарубленных детей вовсе не страшная сказка, придуманная писателем. В мемуарной эмигрантской литературе, теперь доступной, я прочёл, как в двадцатом году красные пытались сломить дух руководителя Кубанской повстанческой армии генерала Фостикова. Они взяли в заложники его родню и выдвинули ультиматум. Фостиков, кстати, вышел в «превосходительства» из казачьих низов, следовательно, родные его тоже были не буржуазного происхождения. Генерал-майор не сложил оружия, и тогда привыкшие держать слово большевики расстреляли его родственников: бабушку, отца и сестру с шестью детьми.
И это всего один фактический пример! А было их – бессчётно!
На всех уроках на последней парте я в великом множестве рисовал картинки из истории гражданской войны. Портреты, батальные полотна и многосерийные комиксы, где героями в образе белых офицеров был я сам и мои приятели, а красными – учителя и положительно характеризующаяся часть класса. Я здорово поднаторел в графике, примитивной и однообразной, но сюжетной и местами прикольной. Неоднократно, увлекшись, бывал застигнут в разгар творческого процесса учителями. Мои творения изымались и уничтожались, однако, пользуясь дешевизной изобразительных средств и массой свободного времени (каждый день было по шесть уроков, а в среду – целых семь!), я неутомимо создавал новые.
Классная руководительница, безжалостная математичка Людмила Борисовна Бернацкая, отняв однажды у меня удачный эскиз, на котором группа усатых и бородатых офицеров, украшенных боевыми орденами, позировала фотографу на фоне рвущихся снарядов, долго рассматривала картинку, после чего противным, с гнусавинкой голосом изрекла:
– Да-а, Маштаков, тебя надо показать психиатру!
Хорошо, она не ведала о нескольких сотнях бумажных солдатиков из той же замечательной эпохи, изготовленных мною в рекордные сроки безо всякой множительной техники. Не знала о многочасовых грандиозных битвах, что устраивали противоборствующие стороны в нашей новой трёхкомнатной квартире. Разумеется, когда родители были на работе.
Мой интерес к Белому движению частично послужил причиной тому, что в положенные четырнадцать лет я не стал вступать в комсомол. Причина была, конечно, не единственная. Компания подходящая подобралась. В комсомол в нашем классе не вступили шестеро ребят и одна девчонка, Лена Кускова. Из двадцати пяти учеников.
Больше чем четвёртая часть! В элитной английской спецшколе! Представляю, как за недобранные проценты горком ВЛКСМ снимал стружку с речистого комсомольского вожака школы.
Ко всему прочему за мной закрепился имидж набожного подростка. Причём, воинствующего. Сектанта практически.
В седьмом классе на уроке физкультуры мы прыгали через «козла», поднятого достаточного высоко. Скакавшие передо мной пацаны взять препятствие не смогли. А я, дурачась, на глазах у всего класса перекрестился, рванул вперёд и легко перемахнул через снаряд.
Приземлившись на другой стороне, назидательно процитировал персонажа Юрия Яковлева из культовой гайдаевской комедии:
– Вот, что крест святой делает!
Физрук Геша немедленно закатил мне единицу в дневник с потрясающей записью: «Перед выполнением физических упражнений – крестится!» Блестя потной лысиной и очками, он, построив класс в одну шеренгу, популярно разъяснил о недопустимости подобного поведения.
Удивительно, но стоявший следующим в строю Лёша Шевченко под немигающим взглядом физрука тоже осенил себя крестным знамением и с первой попытки взял препятствие.
Геша настучал класснухе. Бернацкая дёрнула нас с Шевченко со следующего урока и, брызгаясь слюной, кричала в коридоре:
– Вы понимаете, что вы сделали!? Нет, вы понимаете?! А если бы висел фашистский флаг, вы бы закричали: «Хайль Гитлер!»
– Нет, не закричали бы, – я осмелился возразить, – это не одно и тоже.
– Нет, одно и то же!
Жаль, не уцелел дневник с той эпохальной записью. Сейчас, когда я рассказываю школьные истории, мне мало кто верит. Ни одного дневника у меня не сохранилось. С корешком школьным Вадиком по окончании учебного года мы торжественно сжигали кондуиты на затоне реки Клязьмы. И устраивали вокруг костра ритуальные пляски.
Вот так я приобрёл репутацию верующего.
Поэтому в конце десятого класса, на литературе, когда урок, казавшийся бесконечным, благополучно закончился звонком, кто-то из сидевших впереди девчонок громко, с облегчением вздохнул: «Слава Богу!», сразу подняли меня. Как лицо, склонное к совершению подобных правонарушений.
– Опять, Маштаков, ты взялся за старое! – с укором сказала учительница русского и литературы Углова.
Мне бы промолчать и всё бы обошлось сделанным замечанием. Тем более что помянула имя Господа всуе другая.
Но я полез в бутылку с узким горлом:
– А чего, собственно, такого?!
Через пять минут классная руководительница, пользуясь большой переменой, доходчиво втолковывала мне «чего здесь такого».
А мне на тот момент стукнуло аж семнадцать, пацан я был начитанный. Я попытался аргументировано отстоять свою правоту:
– У нас, это, свобода вероисповедания…
За годы работы в правоохранительных органах, клянусь хлебом, я ни разу не орал на самых пакостных жуликов и бандитов так, как заорала на меня класснуха Бернацкая:
– Хватит позорить советскую школу! Не хочешь учиться в советской школе, уматывай в семинарию! Мразь поганая!
– Не имеете права обзываться, – у меня задрожали губы.
Бернацкая стала густо-пунцовой. Глаза у неё почти выкатились из орбит. Если бы в класс не заглянули, она бы меня ударила. А я бы её укусил. За толстую ляжку.
Теперь я понимаю, что она была обычной психопаткой, но тогда мне сделалось обидно до слёз.
В комсомол я всё-таки записался перед выпускными экзаменами. Шансы поступить в институт у меня были слабые, а в армии несоюзную молодёжь направляли исключительно в стройбат. Служить в компании представителей братских кавказских и среднеазиатских республик, а также с лицами ранее судимыми мне не хотелось.
В том же десятом классе у меня случился ещё один конфликт на белогвардейскую тематику.
Проходили «Поднятую целину». Редкий случай, когда произведение, насаждаемое школьной программой, меня интересовало. Я хорошо знал роман, активно участвовал в обсуждении на уроках, не пытаясь при этом спорить с хрестоматией. Учебный год близился к концу, и я рассчитывал по литературе получить в аттестат «четвёрку». Обидно сделалось, что в разы меньше читавшие, но прилежные одноклассники нахватают отличных оценок, а мне с учетом прошлых прегрешений влепят «трояк».
Как сейчас помню заключительный урок по «Поднятой целине». Учительница Углова Вера Николаевна, дорабатывавшая последний год до пенсии, пребывала в благодушном настроении. Экономя время, спрашивала с места. Задала вопрос классу: «Какой герой романа пришелся по душе и почему».
Я первым поднял руку.
– Слушаю, Миша, – дружелюбно улыбнулась Вера Николаевна.
Я встал как солдатик и быстро сказал:
– Есаул Половцев.
Глаза у старой учительницы потухли, лицо посерело. Наверное, у неё, пожилого человека, схватило сердце.
– Почему? – тихо спросила Углова, присаживаясь на стул.