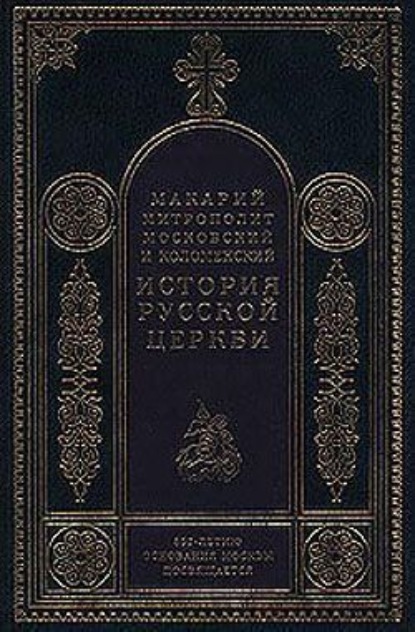 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Период самостоятельности Русской Церкви (1589-1881). Патриаршество в России (1589-1720). Отдел второй: 1654-1667
Внимание и милость Алексея Михайловича к бывшему патриарху простерлись еще далее. Царь оставил за Никоном все три монастыря его строения: Крестный, Иверский и Воскресенский со всеми приписными к ним четырнадцатью монастырями и со всеми их вотчинами, в которых числилось крестьян земледельцев больше шести тысяч, а число приходских церквей простиралось до 50, если иметь в виду лишь те вотчины, которые находились в епархиях Тверской и Новгородской (сколько было церквей в вотчинах, находившихся в пределах Московской епархии, неизвестно). Таким образом, Никону оставлена была целая довольно значительная область, церковная и владельческая, в которой он мог самостоятельно действовать как иерарх и как владелец. Он независимо правил всеми этими монастырями, церквами и вотчинами, творил в них суд и расправу, сам посвящал для них священников, диаконов, причетников, а для монастырей сам ставил и настоятелей и другие власти и по своему усмотрению распоряжался всеми доходами с монастырских вотчин и угодий. К этим доходам присовокуплялось еще ежегодно по две тысячи рублей, которые высылал царь за взятые им у Воскресенского монастыря камские соляные варницы. При таких условиях, казалось, Никону можно было жить совершенно спокойно и быть довольным, если бы в нем действительно существовала решимость оставить навсегда Московскую патриаршую кафедру и не скрывалось желание вновь занять ее. На первых порах он, по-видимому, и был спокоен и доволен и с великим усердием занялся сооружением в своем монастыре соборного храма во имя Воскресения Христова, так что даже сам вместе с братиею носил кирпичи на эту постройку. Царь, довольный спокойствием Никона, прислал ему на монастырь «премногую и великую милостыню». Обрадованный Никон писал государю: «Ныне от премногия милости твоея приимше дерзновение, трегубо Господа Бога молим, дабы паки и паки распространил и наполнил св. благодати своея сердце твое присно миловати нас, смиренных, и убогую сию пустыню, в нейже ныне обретаемся». Затем открывал государю свою мысль, которую имел, когда еще был «на престоле великого архиерейства» в Москве, лить для Воскресенского монастыря большой колокол с изображением на нем Воскресения Господня и ликов царя Алексея Михайловича и его царицы и умолял: «Изволь оную святую и священную вещь, еже есть колокол, совершить премногим своим милосердием, а меди есть моей на патриарше дворе у казеннаго дьяка Парфения близко трехсот пуд, и, аще чего недостанет, милостию своею исполни». Еще далее извещал государя: «Начатки твоим государевым жалованьем храму св. Живоноснаго Воскресения изобразившася и уже немало возвышены», но в нынешнее лето недостало камня и кирпича для постройки, а к будущему лету уже есть деланного кирпича до семисот тысяч и еще ожигается. Наконец, просил, чтобы государь приказал выжечь в Звенигороде или в самом Воскресенском монастыре до тысячи бочек известки. При таких ревностных хлопотах о сооружении Воскресенского собора Никон находил возможность – что весьма замечательно – заняться и литературным трудом: составил Сказание о создании Иверского монастыря и о перенесении в него мощей святого Иакова Боровицкого. Это Сказание, написанное Никоном, когда он назывался только патриархом, окончено не прежде августа 1658 г., потому что упоминает уже о поставленном в том месяце новом архимандрите Иверского монастыря Филофее, а к концу октября и напечатано в типографии того же Иверского монастыря. Но еще в то же лето, когда Никон оставил свою кафедру, один из близких к нему бояр, Никита Алексеевич Зюзин, много раз, как сам свидетельствует, посылал к нему дьяка Федора Торопова с словами: «Что, государь, оставил престол свой? Оставь свое упорство и возвратись». И Никон каждый раз чрез того же дьяка присылал ответ: «Будет-де тому время, возвращусь». Значит, пред близкими своими он вовсе не скрывался, что имеет желание и надежду возвратиться на свою кафедру. Он только не хотел сам проситься, а ожидал времени, когда его попросят, позовут, и он возвратится с честию. Между тем ожидания не сбывались: дни проходили за днями, недели за неделями – от царя не было ни просьбы, ни приглашения, а духовенство как бы совсем забыло своего бывшего патриарха и не обращалось к нему ни по каким церковным делам, которыми правил с соизволения самого же Никона Крутицкий митрополит Питирим. Никон, естественно, томился, досадовал и долго молчал; наконец, не вытерпел своего томления и досады и обнаружил их.
Прошло более осми месяцев со времени отречения Никона от патриаршей кафедры. Настала неделя ваий (в марте 1659 г.), в которую, бывало, он совершал в Москве торжественное шествие на осляти. Теперь это шествие совершал, как и следовало, Крутицкий митрополит, местоблюститель патриаршего престола. Никону об этом донесли, и он в том же месяце марте написал к государю: «Как случилось ныне такое невероятное и непристойное деяние, о котором я слышал от многих и в действительности которого удостоверился? Уже некто дерзнул олюбодействовать седалище великого архиерея всея Руси и незаконно действовать деяние св. недели ваий… И я дивлюсь твоему благородию, как ты попустил без священного Собора обесчестить сие священное дело… И отселе, не знаю, достоит ли ему (митрополиту Крутицкому) святительская деяти… Если с твоей воли то было. Бог тебя да простит, а впредь Господа ради воздержись не в свои дела вмешиваться». Выходка Никона была совершенно несправедливая и оскорбительная. И государь для объяснений с ним послал 1 апреля думного дворянина Прокопия Елизарова да думного дьяка Алмаза Иванова. Они по данному им наказу говорили Никону: «В прошлом году, как ты оставил святительский престол своею волею, государь присылал к тебе князя Алексея Трубецкого, и ты объявил, что Московским патриархом никогда не будешь и дела тебе до архиерейского чину никакого нет, а ныне пишешь к государю о действе, совершенном в неделю ваий, называя его прелюбодейством, – писать тебе к государю о таких делах, когда ты оставил свою паству, не следовало бы. То действо учинил митрополит с повеления государева по прежним примерам. В прежние годы до патриаршества то действо совершали митрополиты, а в междупатриаршество – Крутицкие митрополиты, потому что они всегда на Москве как бы наместники патриарховы. Да ты же сам, когда приходил к тебе от государя князь Трубецкой, благословил митрополита Крутицкого ведать и править все дела церковные, как прежде бывало во дни междупатриаршества, и вместе благословил избирать на святительский престол нового патриарха, а о себе сказал, что возвратиться на тот престол никогда и не помыслишь». Никон отвечал: «Я писал государю, что действо в неделю ваий без первого архиерея митрополитам недостоит, а Крутицкий – в митрополитах меньший. Первый архиерей – во образ Самого Христа, а митрополиты, архиепископы и епископы – во образ учеников и апостолов. Рабу на седалище господина дерзать не должно, а что до патриаршества и в междупатриаршество действовали в неделю ваий митрополиты, то все делали они неведением». Никону заметили: «Да ты и сам, когда был Новгородским митрополитом, совершал то же действо в неделю ваий, и при тебе, как был первым архиереем, тоже действовали митрополиты Новгородский и Казанский? Зачем же тогда ты этого не исправил? А теперь, когда ты оставил паству, тебе не следовало бы и поминать о таких делах». Никон: «И я, будучи митрополитом в Новгороде, действовал в неделю ваий неведением, а сделавшись патриархом, за многими суетами не улучил того исправить. Святительский престол я оставил своею волею, никем не гоним, а чтобы называться патриархом – я не отрицался; не хочу только именоваться Московским, потому что оставил патриарший престол в Москве своею волею, и слова, сказанные мною князю Трубецкому, держу и теперь неизменно, а чтобы возвратиться на прежний престол – и в мыслях у меня нет. Как тогда, оставляя престол, я благословил, так и теперь благословляю избрать нового патриарха». После этого Никону сказали, чтобы впредь к государю о таких делах он не писал, так как паству свою он оставил и на свое место избрать патриарха благословил, почему ему и не следует в те дела вступаться и смущать своими письмами. «В древние времена, – отвечал Никон, – и пустынники возвещали благочестивым греческим царям об исправлении духовных дел, а я ни за какие вины от Церкви не отлучен и хотя волею своею оставил паству, но попечения об истине не оставил и впредь, когда услышу о каком духовном деле, требующем исправления, молчать не буду». Никону заметили, что в древности пустынники писали государям о ересях, которые обличали, а ныне благодарение Богу никаких ересей в Русской Церкви нет и обличать ему некого. В заключение Никон сказал, что он, как и прежде писал к государю, прощает его, если митрополит Крутицкий в неделю ваий действовал с его повеления, и посылает государю благословление. Такая неосновательная и мелочная притязательность Никона, такое вмешательство его в дела Церкви, от которых сам же прежде отказался, не могли не возмутить как царя с окружающими его боярами, так и высшее духовенство и нарушили те мирные отношения, какие установились было доселе между царем и бывшим патриархом.
Царь, однако же, по доброте своей желая успокоить Никона, скоро отправил к нему еще другого своего посла, дьяка Дамиана Башмакова, который и прибыл в Воскресенский монастырь 17 мая. Представившись Никону, Башмаков спросил патриарха о его спасении от имени государева и поднес государево жалованье – церковного вина, муки пшеничной, меда-сырца и рыбы. Никон благодарил за жалованье и спросил о государевом многолетнем здоровье. Это было утром в Отходной пустыне, или скиту, который построил для себя Никон из камня в 150 саженях от Воскресенского монастыря, на берегу реки Истра, в виде башни о четырех ярусах, с весьма малыми кельями и двумя такими же церквами и успел освятить еще в конце июня 1658 г., незадолго до своего удаления из Москвы. Отстояв литургию в одной из своих скитских церквей, Никон отправился в предшествии боярских детей в свой большой монастырь, где встречен был архимандритом с братиею и стрельцами, стоявшими по сторонам. Эти стрельцы в числе десяти по челобитью Никона назначены были государем для охраны Воскресенской обители еще в 1657 г., когда он посетил ее, и с того времени постоянно состояли при обители на государевом жалованье, даже и после оставления Никоном патриаршей кафедры. В монастыре Никон пригласил Башмакова в свою келью. Здесь Башмаков прежде всего объявил Никону, что по письму его к стольнику, князю Юрию Ивановичу Ромодановскому, государь пожаловал Воскресенскому монастырю новый огород вместо прежнего и велел огородить этот новый огород и взорать для монастыря. Никон благодарил за государево жалованье, но заметил, что братии в монастыре 80 человек да детей боярских, и служебников, и всяких работников больше 200, и одного огорода под овощи для них мало, а у государя есть и иные огороды… Затем Башмаков по поручению от государя говорил Никону: «Несправедливо, будто людям духовного чина дан заказ приезжать к тебе в монастырь. Такого заказа от государя никогда не было, и по дорогам застав никаких нет. А только митрополит Питирим, заметив, что некоторые духовные лица ленились приходить на праздники в соборную церковь на молебствия и отговаривались тем, будто ездят в те праздники к тебе в монастырь, приказал, чтобы желающие из духовенства ехать к тебе наперед заявляли ему о своей поездке. Скажи, кто сообщил тебе про тот будто бы заказ духовным людям ездить к тебе». Никон отвечал: «Как вспомню, отпишу государю». Еще говорил Башмаков: «Несправедливо также, будто во вторник на Светлой неделе Крутицкий митрополит и пестрые и черные власти просили у государя позволения ехать к тебе с образами, а государь чрез окольничего Федора Михайловича Ртищева запретил им это. Во вторник государя и дома не было: он находился в Новодевичьем монастыре на празднике; да и к самому государю власти приходили с образами только в среду. Объяви, кто тебе про то сказывал?» Никон отвечал, как прежде, что отпишет государю, и спрашивал про князя Алексея Никитича Трубецкого и про других воевод. «Князь Трубецкой, – сказал Башмаков, – стоит под Конотопом и осажденным людям чинит большую тесноту (это действительно было в мае 1659 г.), а князю Ивану Ивановичу Лобанову-Ростовскому сдались города Мстиславль да Кричев…» Из кельи пошел Никон с Башмаквым в братскую трапезу, после трапезы отпел с братиею панихиду по царевне Анне Алексеевне (умерла в мае 1659 г.) и повел своего гостя на постройку церкви и говорил: «Достроить ее нечем, каменщиков нет, да и денег нет; что пожаловал государь на церковное строение, то все изошло, а с монастырских вотчин денег в приходе бывает немногим более ста рублей: хлеб родится плохо». Возвратившись с Башмаковым в свою келью, Никон заговорил о властях: «Между властьми многие – мои ставленники; они обязаны меня почитать, они давали мне от себя письма за своими руками, что будут почитать меня и во всем слушаться, – при этом читал Никон тетрадь за рукою епископа Коломенского. – Я оставил святительский престол на Москве своею волею и Московским не зовусь и никогда зваться не буду, но патриаршества я не оставил, и данная мне благодать Св. Духа от меня не отнята. В Воскресенском монастыре были два человека, одержимые черным недугом, я об них помолился, и они от своей болезни освободились. Также когда я был на патриаршестве, и в то время по моим молитвам многие благодатию Божиею от различных болезней освободились». Вот какими помыслами занята была душа Никона! Сам оставил Московскую кафедру, отказался от всякой власти над духовенством и всею Церковию, а требовал, чтобы его по-прежнему чтили и его слушались, и в подтверждение своих прав на уважение ссылался еще на чудодейственную силу своих молитв.
Хотя не было царского заказу, как утверждал Башмаков, ездить к Никону в Воскресенский монастырь, но был приказ, чтобы без ведома и позволения государева, а не одного только митрополита Крутицкого никто туда не ездил. И вот 9 июля 1659 г. двое патриарших певчих дьяков – Иван Тверитинов да Савва Семенов – сами явились к царю Алексею Михайловичу с повинною, что они ездили к Никону и пробыли у него со второго по шестое число, и выражали готовность рассказать все слышанное от Никона. Царь велел боярину Петру Михайловичу Салтыкову допросить их, и они в поданной ему сказке показали, что Никон после расспросов о здоровье государя и о Москве говорил им: «Услышите, какие недобрые к вам вести будут вскоре (как видно, Никон тогда уже получил известие о страшном поражении московского войска под Конотопом войсками изменника Выговского и татарами, случившемся в конце июня 1659 г.). Когда я был на Москве, на меня роптали, будто я Выговского принял, но ведь при мне никакой от него неправды не было, а ныне он отошел от великого государя, неведомо почему. Когда я был, то великому государю бивал о нем челом и во всем заступался. И ныне, если отпишу хотя две строки к Выговскому, он будет по-прежнему служить великому государю – надобно только держать их умеючи – и меня послушает, и прежде во всем добром он меня слушал». Легко понять, какое впечатление должны были произвести на царя и его советников эти горделивые слова бывшего патриарха.
Вместе с певчими Тверитиновым и Семеновым, как они показали, был у Никона дьякон из Ярославля Косьма. Никон звал его к себе особо и возложил на него какое-то поручение. И этот дьякон, приехавший с названными певчими в Москву, подал 10 июля государю следующую сказку: «Патриарх Никон велел мне говорить от его имени великому государю: как-де мы были на престоле в царствующем граде Москве, мы приказывали митрополитам и архиепископам и грамоты рассылали, чтобы везде молили Бога о победе над врагами, и тогда Богом хранимо было наше государство, и враги наши на нас не ополчались. Если и ныне государь укажет петь в Москве молебствия с литиею о победе и разошлет о том грамоты во все города, то и ныне подаст Бог победу и одоление на супостаты. Но ныне, как нам ведомо, власти о том не радят, пьют, бражничают и в монастырях архимандриты и игумены пиры делают и всяких людей к себе зовут ради своих товарок, а о молитве к Богу не радят» . Совет Никона царю, очевидно, не заключал в себе ничего особенного, чего бы не понимал царь и без этого совета, но Никону, кажется, хотелось только сказать, что при нем все было хорошо в Церкви, а без него пошло все худо и церковные власти предались нерадению и безнравственности – попросили бы его снова в Москву на кафедру.
К крайней досаде Никона, просить его не просили, сколько ни ожидал он. А между тем из Москвы приходили к нему новые и новые слухи, для него неблагоприятные, которым он охотно верил и которые только более и более его раздражали. Раздражение достигло высшей степени, и в конце того же июля бывший патриарх послал к государю следующее письмо: «Мы слышали, что ты повелел ныне возвратить то, что прежде дал св. великой церкви. Умоляю тебя Господом Богом, не делай этого. Писание говорит: Дайте, и дастся вам… Поревнуй убогой вдовице, давшей две медницы, и другой, возлившей миро на ноги Христовы… Еще у тебя много благ, и не свое собственное ты даешь, но Божие Богови». Слух этот, по всей вероятности, был ложный: ниоткуда не известно, чтобы Алексей Михайлович отнимал или намеревался отнять что-либо у великой церкви, т. е. у Успенского собора, да и вообще у Церкви.
«По долгу моему я просил у тебя чрез писание прощения, и ты чрез стольника своего Афанасия Ивановича Матюшкина прислал свое милостивое прощение. Ныне же, слышу, ты многое творишь мне не как прощенному, а как последнему злодею. Ты велел взять мои худые вещи, оставшиеся в келье, и письма, в которых находятся многие тайны. Как первосвятитель я имел у себя многие твои государевы тайны, много и от других, которые, прося у меня разрешения своих грехов, писали их своими руками, чего никому не подобало ведать, даже и тебе, государю. Удивляюсь, как скоро дошел ты до такого дерзновения. Прежде боялся судить и простых церковных причетников, а ныне не только сам захотел ведать грехи и тайны бывшего архипастыря всего мира, но и попустил то другим мирским людям. Почему ныне наши судятся от неправедных, а не от святых?.. Слышим, что это было для того, чтобы не остались у нас писания твоей десницы, которые ты писал, жалуя нас либо почитая великим государем, также и иные не по нашей воле, но по своему изволению». Очень возможно, что при описании патриаршей казны, домовой и келейной, по удалении Никона от кафедры царь велел взять и рассмотреть его келейные бумаги, но не с целию узнать грехи и тайны, какие исповедовали пред Никоном верующие в поданных ему записках, и не для того, чтобы отобрать все царские письма у Никона, в которых последний был назван великим государем, а скорее с целию убедиться, не найдется ли в этих бумагах каких-либо улик против Никона в его измене. Известно, что Никон находился в тесных сношениях с Выговским, который тогда воевал против государя, и про Никона распущены были слухи, сохранившиеся у иностранных писателей, будто бы он, когда был в силе, брал тайно деньги от польского короля и от австрийского посла Аллегретти.
«Не знаю, откуда началось сие (название Никона великим государем), а думаю, тобою, великим государем, такие начатки явились: ты писал так во всех твоих грамотах, и во всех отписках к тебе из всех полков так писано, и во всяких делах, и невозможно этого изменить. Да потребится злое мое и горделивое проклятое прозвание, хотя и не по моей воле оно было. Надеюсь на Господа, что не найдется нигде моего на то хотения или веления, кроме лживого сочинения, из-за которого ныне много пострадал и страдаю Господа ради от лжебратии. Что мною сказано было смиренно, то передано за гордое, что благохвально, то передано за хульное, и ложными словами до того увеличен гнев твой на меня, как, думаю, ни на кого другого; чего я не хотел и не произволял, чтобы называться великим государем, за то туне укорен и поруган пред всеми людьми. Думаю, и тебе памятно, как по нашему указу кликали меня по Трисвятом во св. литургии великим господином, а не великим государем, и о том было наше повеление». Но несправедливо, будто от царя началось название Никона великим государем: так начали величать его в официальных бумагах еще в 1652 г., как мы видели, некоторые настоятели монастырей, хотя владыки называли его еще только великим господином. А в следующем году, когда Никона величали уже великим государем и владыки, и бояре, и сам он, в официальных бумагах называл его этим именем и государь, хотя в иных бумагах титуловал его еще великим господином. Равно несправедливо и то, будто со стороны Никона не было на такое название ни хотения, ни произволения, когда сам он во всех своих бумагах постоянно величал себя великим государем и никому не запрещал так величать его. Если бы только он захотел и дал указ, чтобы его не называли таким гордым именем, воля его несомненно была бы исполнена всеми находившимися под его властию.
«Некогда я был единотрапезен с тобою и питан, как телец на заколение, многими тучными брашнами по обычаю Вашему государеву. А ныне, июля в 25-й день, когда торжествовалось рождение (вернее, тезоименитство) благоверной царевны Анны Михайловны, все возвеселились о добром том торжестве и насладились трапезы твоей – один я, как пес, лишен богатой Вашей трапезы… Многие и враги приемлют Вашу благодать, а я, когда не очень был богат нищетою, тогда наиболее и сподоблялся Вашей милости; ныне же, когда Господа ради лишился всего и нищенствую, я лишен и Вашей милости… Умоляю, перестань Господа ради гневаться на меня… Ныне я оболган пред тобою более всех… Не дай мне, грешному, немилосердия, не попусти истязать мои худые вещи… За немного пред сим дней ты приказывал с князем Юрьем, что якобы ты один ко мне добр и князь Юрий; ныне же ты не только сам явился ко мне немилостивым, но и хотящим миловать меня возбраняешь, и всем заказ крепкий положен приходить ко мне… А в чем моя неправда пред тобою? Что я Церкви ради просил суда на обидчика? Но не только не получил праведного суда, а получил ответы, полные немилосердия. Слышу ныне, что вопреки законов церковных ты сам изволишь судить священные чины, которых судить не поверено тебе от Бога». Сожаление Никона о царской трапезе в том положении, в какое он сам себя поставил, представляется по меньшей мере странным. Слова Никона, будто он Господа ради лишился всего, чем прежде владел на Московской кафедре, и теперь нищенствует, несправедливы: не Господа ради лишился он всего этого, а по своей прихоти и не нищенствовал он теперь, а владел тремя богатыми монастырями своего строения с шестью тысячами крестьян и многочисленными угодиями. Не по какой-либо немилости к Никону царь запретил ходить к нему без его государева позволения, а потому что многие, посещая Никона, передавали ему разные вести из Москвы, иногда ложные или преувеличенные, а Никон верил всему этому и писал государю резкие письма. Укоры Никона царю, будто он начал сам судить священные чины, основывались только на слухе, а если бы слух и был справедлив, то какое право имел теперь Никон укорять за это царя и вмешиваться в дела Церкви, когда сам добровольно оставил ее и отказался от всякой власти над нею? В заключение своего письма Никон, опровергая тех, которые говорили, что он взял с собою много патриаршей ризницы и патриаршей казны, писал: «Я взял один саккос, и то недорогой, простой, а омофор прислал мне Гавриил Халкидонский… Из казны же я не взял, но только удержал, сколько нужно будет издержать на церковное строение, и по времени хотел отдать, да еще дал в отшествие мое Воскресенскому казначею, чтобы расплатиться с рабочими. А где прочая патриаршая казна, это явно пред всеми: строен двор московский, стал тысяч десяток и более; насадный завод тысяч десяток стал, и тем я ударил челом тебе на подъем ратный; тысяч с десять в казне налицо; девять тысяч дано ныне на насад, на три тысячи летось лошадей куплено; шапка архиерейская тысяч пять-шесть стала, а иного расходу Св. Бог весть, сколько убогим, сирым, вдовам, нищим, – и тому всему в казне есть книга» . Из этого письма патриарха Никона видно, что у него действительно много было врагов вокруг царя, о чем незадолго пред тем и извещал его сам царь, который, следовательно, не прерывал с ним своих сношений. Но Никон вместо того, чтобы против врагов искать себе защиты и благорасположенности у царя, который почти один, как уверяли, был к нему добр, как будто намеренно старался еще сам возбуждать против себя царя своими вовсе не уместными теперь притязаниями и крайне оскорбительными для царя письмами.
Несмотря на это, государь показал тогда свою заботливость о безопасности Никона. Страшное поражение московского войска под Конотопом крымскими татарами и казаками Выговского в конце июня 1659 г. произвело общую тревогу между русскими. Пронеслись слухи, будто татары двигаются на Москву. В августе по государеву указу люди всех чинов спешили на земляные работы для укрепления столицы. Царь, зная, что Воскресенский монастырь не укреплен, послал предложить Никону более безопасное убежище в Колязинском монастыре преподобного Макария. Никон будто бы сказал на это посланному: «Возвести благоч. царю, что я в Колязин монастырь не пойду; лучше мне быть в Зачатейском монастыре, в Китай-городе в углу, нежели в Колязине. А есть у меня по милости Божией и государевой свои крепкие монастыри, Иверский и Крестный, и я, доложась государю, пойду в свой монастырь. Возвести великому государю, что я иду к Москве доложиться ему о всяких своих нуждах». Посланный спросил, про какой Зачатейский монастырь изволит говорить патриарх. «Про тот, – отвечал Никон, – что на Варварском крестце, под горою, у Зачатия». «Да там только большая тюрьма, а не монастырь», – заметил посол. «То и есть Зачатейский монастырь», – сказал Никон. Скоро затем Никон действительно приехал в Москву и, остановившись на своем Иверском подворье, в тот же день послал возвестить царю, что прибыл ради некоторых нужных потреб и желает видеть его царские очи. На другой день царь, посоветовавшись с боярами, послал думного дьяка Алмаза Иванова спросить Никона: ради каких нужных потреб пришел он? Никон отвечал Алмазу: «Я тебе о нужных моих потребах говорить не буду и чрез тебя посылать мое благословение не хочу». На третий день царь известил Никона, чтобы явился к нему наверх вечером, и, когда Никон прибыл, встретил его на переднем крыльце, и, введши в палату, посадил его, как бывало прежде, спрашивал его о здоровье и душевном спасении и только, потому что тут же находились и бояре. Посидев «мало», царь и патриарх пошли к царице и к царским детям, и потом царь отпустил Никона в его Воскресенскую обитель, дозволил ему посетить две другие его обители, Иверскую и Крестную, и просил его на следующий день к себе на обед, но Никон отказался, намереваясь рано утром в тот день выехать из Москвы. Царь прислал Никону на дорогу две тысячи рублей и для охраны его кроме прежних десяти назначил еще двадцать стрельцов, которые с того времени и состояли при Воскресенском монастыре. Возвратившись в эту обитель, Никон послал к государю письмо, в котором благодарил его за его великую милость и за присылку стрельцов из Савина монастыря, только просил пожаловать им пороху и продолжал: «Есть на патриаршем дворе моя лошадка, что прислал мне грузинский царь Александр, и у меня было замечено подарить ее государю моему свету царевичу Алексею Алексеевичу; изволь, государь, ту лошадку взять. Да есть на патриаршем дворе две мои худенькие каретки: одна куплена у Василья Волынского, другую подарил князь Иван Голицын старый; вели, государь, выдать мне хотя одну из них, чтобы сделать возчишко для дороги, а тележка, в которой я с Москвы съехал, изломалась».



